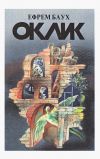Текст книги "Ефремова гора. Исторический роман. Книга 1"

Автор книги: Денис Летуновский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Не так уж и долго они в пути, чтобы отдыхать! – прежним камнем отвесил Кир'аниф, со злостью стегнув лошадь.
Прошли пограничную заставу. Гвардейцы бросались на каждого, кто выбегал из строя, чтобы наполнить высохший кувшин водой. В горячем воздухе стояла ругань, жалобы, предобморочные вздохи. Усталость. Люди не шли – плелись. Наговаривали на верховного. То и дело слышались возмущения, которые, впрочем, вскоре утихли, и тогда наступило ощутимое, осязаемое, пропитанное тяжелыми мыслями молчание. Жрец походил на грозного неусыпного поводыря, а тьма позади него – на то безмолвное стадо, которое ведут, подстегивают, тащат на заклание.
– Мы умрем здесь, не дойдем.
– А если и дойдем, то грозный Яхве погубит нас.
– Да уж, дело известное – на войне выживают лишь военачальники, счастливчики и дезертиры.
– Мы ни те ни другие.
– Мизирь! – словно уже из мира мертвых вспомнил Черемши. Жена для него в тот миг стала единственной правдой, которая была выше и ощутимее, чем правда Кир'анифа или всех пяти царей, направленная на защиту его родной Филистии. Он шел, не поднимая головы, он видел свои стоптанные сандалии – они были точно такими же, как и десятки тысяч других. Он думал: «Единственный способ выйти отсюда живым… я не военачальник, не счастливчик… надо лишь улучить момент… никому ни слова… во время привала… ночью!».
Мара
Глава пятая
1
История служанки Мары начинается задолго до излагаемых событий. Она была эфрафянкой, племя которой жило в мире с Израилем. Родители назвали ее Ноеминью, ибо для них она стала утешением, Божьим благословением, радостью и счастьем2929
Ноеминь – «счастье» (евр.).
[Закрыть].
Мара была замужем за Елимелехом. Он обрабатывал землю, сеял хлеб и тем питал себя, жену и двоих сыновей – Хилеона и Махлона. Они жили в Вифлееме – в земле колена Иуды. Елимелех и Мара сыграли свадьбу еще во дни правления судьи Самсона. После его гибели во время филистимского пира под развалинами разрушенного им храма в Газе главой и предстоятелем в Израиле стал первосвященник Илий.
Жизнь, но еще больше кончина Самсона вызвала великий гнев филистимлян, обрушившийся на израильские пустыни, оазисы, реки и возвышенности. В этих землях селились не только потомки Авраама, но и другие, меньшие племена – вышедшие с Моисеем из Египта или примкнувшие к ним после. Они обрезали весь мужеский пол, своих дочерей они отдавали за израильских юношей, говорили на их языке, чтили их традиции более, нежели свои, шли, как и другие, воевать против захватчиков, в Силоме они поклонялись Яхве.
Во время очередного набега филистимляне опустошили все, поэтому не осталось ни единого засеянного поля, ни уцелевшего стада. Пеласги вырезали целыми деревнями: мужчин мертвыми оставляли на дорогах без погребения, женщин с детьми уводили с собой. Кто оставался, проклинал оставленную ему жизнь, так как не мог прокормиться. Многие умерщвляли себя, другие шли странствовать, без надежды на возвращение.
– Долго ли нам есть саранчу, ползучих гадов и перелетных птиц? – негодовал Елимелех. – Отправимся в земли моавитян, где с филистимлянами заключен мир и где на полях созревает пшеница, а не слезы и горе.
И они вышли в путь.
У моавитян Елимелех нанялся сезонным рабочим к одному богатому землевладельцу. А спустя несколько лет скопленных шекелей хватило на то, чтобы купить собственное поле. Вскоре дела его пошли в гору. Бог всячески благословлял вифлеемлянина, так что тот нашел жен из моавитянок для своих сыновей. Хилеона женил на Орфе, Махлона – на Руфи. «Орфи, Ру́фи» – ласково звали их в новом доме.
Но, как известно, благоденствие не продолжается долго. По прошествии десяти лет филистимляне нарушили заключенный с моавитянами мир. Елимелех, Махлон и Хилеон пали в одном из вражьих набегов, защищая честь своих жен и приобретенные владения. Женщины остались одни, и тогда, разбитая горем от потери самых близких ей людей, ради которых она отправилась в чужие края, Мара сказала своим невесткам:
– Слава Всевышнему, Который снова посетил народ мой: в землях Израиля снова мир, а на полях собирают щедрый урожай. Здесь я более не в силах сносить случившуюся со мной и с вами утрату. Наши мужья, трудившиеся ради нас, отошли к праотцам, оставив нас на милость и попечение Божьи. Итак, останьтесь здесь, в земле вашей, чтобы поклоняться вам своим богам и чтобы найти вам других мужей, которые бы смогли вступиться за вас и детей, которых вы бы носили под сердцем вашим.
– Но, – сказала Руфь, – останься и ты с нами, ибо эта земля стала уже твоей. Отчего расставаться нам, если одно на всех горе соединило нас? Здесь погребены муж твой и сыновья твои. Останемся вместе и вдовами пребудем до конца дней наших.
– Ты говоришь от доброго сердца, слова твои греют мою озябшую от несчастий душу, но я не останусь. Пойду в земли Израиля. В Силоме принесу за умерших приношения. Пойду в Вифлеем и буду молить Бога, чтобы и с другими мужьями и сынами не случилось то же, что произошло с моими.
– Тогда и мы пойдем вслед за тобой, – не отступала Руфь. – Мы стали одной семьей: священной радостью брака мы с Орфой стали дочерьми твоими. Вместо павших Хилеона с Махлоном прими нас, и пойдем, куда бы ты нас ни повела, и будем счастливы там, где бы ты ни нашла себе пристанище.
– Сестра моя, Ру́фи, – возразила старшая Орфа, – не говори за двоих. Земля Израиля мне чужда, из ее колодцев никогда не утолялась жажда моя. Зачем мне идти за неведомым? Мать наша – Мара – столько лет не была там, так что нога ее отвыкла ступать по камням земли той. По слову твоему, – Орфа обратилась к Маре, – мы с сестрой моей останемся здесь, чтобы наши утробы познали блаженное материнство, а ты, если не хочешь жить с нами, отправляйся туда, где родилась душа твоя.
– Хорошо, дочери мои, – согласилась Мара, – так мы и сделаем: я пойду, куда поведет меня рука Господня, а вы, вновь обручившись, оставите память о себе в детях ваших. Да родится от вас Мессия и да возрадуются сердца ваши, видя обетования Божьи исполненными.
– Постой, – остановила ее Руфь, – не спеши благословлять нас обеих. Орфа выбрала свою дорогу, и пусть Господь благословит ее. Мне же негоже отказываться от слов моих: я пойду за тобой, потому что возлюбила тебя душа моя. Разделю твои странствования и тяготы. Мне не нужны ни теплая постель, ни сытный обед – ты матерь погибшего мужа моего. Не отвращайся от меня, но сделай милость – позволь мне последовать за тобой.
– Пусть будет так, – сказала Мара, дивясь и радуясь такой преданности Руфи. Женщины тепло распрощались с Орфой, благословили друг друга и отправились в путь.
Не успели невестка со свекровью переступить порог хлебного дома3030
Вифлеем (Бет-Лехем) – «дом хлеба» (евр.).
[Закрыть], как бывшие при городских воротах, увидев Мару, пошли и рассказали вифлеемлянам, говоря: «Пойдите посмотрите на мертвую, которая возвратилась к живым!». Они говорили так, потому что все считали дом Елимелеха погибшим.
И большое множество вышло навстречу. Люди искренне радовались двум женщинам, обнимали их, спрашивали про мужа и сыновей Мары. Призывая имя Бога, восклицали: «Это Ноеминь! Ноеминь вернулась! Была мертвой и ожила! Ноеминь, Ноеминь!!!».
Мара же сказала им:
– Не называйте меня Ноеминью. У меня теперь другое имя – зовите меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называете вы меня Ноеминью, когда Господь заставил меня страдать, когда вместо весеннего цвета Он послал мне непересыхающий источник несчастий? Отныне я Мара3131
Мара – «несчастье» (евр.).
[Закрыть], с этим именем и погребите меня в гробнице предков моих. Пока же этого не произошло, плачьте со мной о муже моем Елимелехе и Хилеоне с Махлоном – сыновьях моих, павших от меча языческого и руки филистимской.
Тогда жители Вифлеема сменили радость на плач, потому что любили умерших. Мара с тех пор поселилась в своем прежнем доме, и Руфь, невестка ее, была при ней.
Пришло время жатвы, и все жители Вифлеема выходили на свои поля, чтобы собирать урожай. А Мара и Руфь никуда не шли. Кроме дома, у них ничего не было: жили подаянием и жалостью сердобольных.
Однажды Руфь сказала матери:
– Мы голодаем. По моавитским законам, если у нас не найдется защитника, мы должны умереть, но в законе Господнем, которому ты учила меня, написано: «Пусть тот, у кого нет пропитания, выходит в поле и в виноградник и собирает плоды, которые найдет, но не берет с собой сумы, чтобы то не оказалось обирательством и воровством». Разреши мне, и я пойду поискать нам немного пропитания, что смогу взять в руки свои. Так я буду выходить каждый день, и до вечера нам всегда будет хватать пищи.
– Добрая дочь моя, благословение и радость, – отвечала Мара, – пойди, и пусть Господь сохранит тебя, потому что не об одной себе ты печешься. Пойди и возвращайся, сама поешь, а если что останется, принеси и мне.
Когда Руфь миновала стражу у городских ворот, то увидела жнецов, спешащих каждый к своей жатве. Они весело переговаривались, рассказывали, как щедро Господь одарил их наделы.
– На полгода хватит, – восклицали они, – а там Господь милостив, уродит и второй урожай.
В Израиле в незасушливые и мирные времена земля рождала до трех раз, так что вчерашний бедняк становился собственником, день ото дня богатея. Маре для того, чтобы выкупить свою землю, нужны были деньги, которых после трех похорон совсем не осталось. «Хоть бы нам сегодня не умереть, – молилась она. – Завтра еще не наступило, чтобы о нем заботиться. Ты – Господь, приведший нас из небытия в бытие, для Тебя все сокрытое явно. Все, даже неведомое нам. Тебе вверяю Руфь и себя. Знаю, когда помощи ждать уже не от кого, Ты являешь силу Твою, заступаешь, даешь надежду. Пусть милость Твоя пребудет на нас и не знающие Тебя скажут: велик Бог этих бедных вдов – и в горе их лица радостны, и голод не опустошает их души».
Доро́гой Руфь тоже молилась – за себя и за мать. Белые каменистые извилистые тропы вели ее вдоль кладбищ и мест, где преступивших закон побивали камнями. На обочинах чернели обглоданные дикими псами незахороненные кости. Руфь шла и думала: «Какое беззаконие может совершить человек, чтобы заслужить в наказание смерть? Человек не больше ли свода правил? А всепрощающий Бог не выше ли преступлений наших?».
Оливковые деревья вставали изредка островками спасительной тени. Иногда под ними покоились вещи – псалтирь и черствый хлеб – пастухов. Уходя далеко, пастухи прятались от солнца в небольших расщелинах рыхлого известняка. В этой породе – прямо в невысоких скалах – рубились загоны для мелкого скота или погребальные склепы. Склепы можно было распознать по заваленным – круглыми точеными глыбами – входам.
Наконец показались разбитые на участки поля. Жнецы расходились каждый к своему наделу, а Руфь, выбрав жнеца побогаче («Так, – решила она, – этому доброму человеку будет меньше убытка, если я подберу за ним несобранное зерно»), робко принялась срывать оставленные колоски.
Хозяин поля, дальний Елимелехов родственник Вооз, остановился, взглянул на молодую женщину, присмотрелся, бросил под ноги серп. Оставив работу, стремительным шагом приблизился к растерянной Руфи, выронившей собранную жменю зерен.
– Как же, – воскликнул Вооз, – нам дано было повеление от Господа враждовать с моавитянами и поражать их, а родственница моя Ноеминь дала в жены сыновьям своим вас – позор и нечестье для Израиля?! Во времена Моисея из-за Ваал-Фегора – бога вашего – до двадцати тысяч поразил Господь в стане израильском. Но Финеес, сын Элеазара, сына Аарона, взял в руку копье и пошел за Хазвой – моавитянкой, которая совратила своим лживым язычеством Зимри – начальника Симеонова колена. Вошел к ним в спальню и пронзил обоих, израильтянина и женщину в чрево ее. Тогда прекратилось поражение Господне. Как ты смеешь показываться на полях Израиля и собирать плоды от рук наших?
– Мой господин, – тихо отвечала Руфь, – твой Бог и Бог моей свекрови заповедал через Моисея не забирать во время жатвы забытого на поле снопа, не пересматривать ветвей после того, как рабы твои отрясли маслину, и не собирать остатков с виноградной лозы, так как все это предназначено пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих, потому что и ты был рабом в земле египетской. Я не сержусь на тебя, господин мой, за то, что ты называешь меня язычницей, – я и вправду выросла в вере отцов моих, но с тех пор, как Елимелех взял меня в жены Махлону – сыну своему, я служу Яхве, а Ваал-Фегора я оставила, как и оставила все прочее – и дом свой, и родителей своих. Не гневайся, а если не хочешь, чтобы я подбирала за твоими жнецами, так и скажи, тогда я перейду на другое поле, чтобы нам с матерью не умереть от голода.
Вооз стоял неподвижно. Впервые он видел такую кротость и послушание.
– Прости меня, – наконец промолвил он, – я сильно обидел тебя, но отныне не ходи подбирать на других полях и не переходи отсюда, но оставайся здесь. Пусть в глазах твоих будет то поле, которое обрабатываю я и мои работники. Я прикажу слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои.
– Мой господин, – Руфь стала перед ним на колени и поклонилась ему, – чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хоть я и чужеземка?
– Ты мне сказала все, – отвечал Вооз, – и даже больше того, что говорят о тебе люди.
– Благодарю тебя, мой господин, – Руфь снова поклонилась ему до земли.
– Мои слуги дадут тебе серп, и ты собери столько хлеба, сколько сможешь унести, а завтра приходи снова.
Руфь трудилась до вечера, после чего намолотила из собранного ею зерна около ефы ячменя. Вернулась домой и пересказала Маре, какое чудо приключилось с ней на Воозовом поле.
Мара не спала всю ночь, размышляя о дальнейшей судьбе своей дочери. «Нехорошо, – думала она, – чтобы Руфь губила себя из-за любви ко мне. Она молода, а радость материнства все еще не поселилась в глазах ее. Господь простит, если мне ради наследника придется сватать ее вторично. По доброй воле Руфь пошла за мной, а я замышляю прогнать ее от себя. Ничего, Господь милостив, долго ей не будет больно: муж утешит ее страдания, а первенец снимет позор с лица ее. Меня упрекают, что я не могу найти ей достойного мужа, который бы восстановил имя умершего Махлона в уделе его. А как мне искать, если выбор мой невелик: обедневший деверь Елимелеха – ему-то и самому нечего есть; да вот еще… – тут Мара хитро улыбнулась. – Конечно! – сказала она, – ну, конечно! Кто же еще?»
2
Утром она разбудила невестку такими словами:
– Поднимайся, дочь моя! Этой ночью я много молилась, – и взяла ее за руку.
– Что заставило тебя не сомкнуть глаз? – спросила Руфь.
– Я корю себя за то, – начала Мара, – что в доме моем ты теряешь дарованные тебе молодость и красоту. – Руфь что-то хотела возразить, но Мара остановила ее. – Тебе нужно поискать себе другое пристанище и найти себе мужа, который бы восстановил род Махлона. Вчера ты работала на поле Вооза – нашего родственника. Так вот, сегодня конец жатвы, и сегодня он будет веять на гумне ячмень. До вечера никуда не выходи, а ближе к ночи умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды и пойди на гумно. А как придешь, то не показывайся на глаза Воозу, покуда он после работы не наестся досыта. Когда же он ляжет спать, приди и ляг у его ног.
Руфь слушала, в печали склонив голову, когда же Мара окончила наставлять ее, она тихо и как будто с обидой ответила:
– Я сделаю все, как ты меня научила.
Гортанные позывные цикад, трепет крыльев – таких больших, что и не скажешь, что где-то на их разломе, на их сгибе существует двигающее ими тельце. Стрекозы, бабочки. Завидев обломок света, они рвутся туда, спешат. Тигровые зрачки – неживые, без взгляда – застыли по одному на каждом крыле. Створчатые.
Потрескивание. Глубокий сон. Не потревожит ржавая щеколда: слуги, увидев, что хозяин уснул, гасят коптящие лампы. Вздрагивают замком. Тихо.
Первый отдых за все неспокойное время жатвы. Наемники, получив плату, разошлись по шатрам. Воозов дом пуст. После званого ужина хозяин спит, довольный гуслярами, утешенный девичьими танцами. Хлопоты позади. Точила наполнены до края! Сыта душа – пей с весельем, воздав Господу славу и не забыв про людей. Пой! Разве есть еще какая-нибудь тайна милости и благословения Господних, укрытая от тебя?
«Десятую часть отдам голодным и странствующим – пусть и впредь не забудут пути, ведущие к дому моему. Взыщу ли плату за отпущенное мне даром? Разбогатеет ли имя мое на разорившемся нищем? В другие годы я и не мечтал о таком, а теперь будто Господь уже делает меня сотрапезником Своего Царства. Но если от такого малого возносится в горнее дух мой, сколько же больше будет тот день, когда оставлю все это! Не потому ли такая теплота, такая близость… сердцебиенье… запах… чужое…»
Вооз проснулся, часто и тяжело дыша. Привстал на локтях, не понимая до конца, что именно ему привиделось и где та прозрачная грань, за которой воображаемое грубеет, становится явным, обретая плоть…
– Кто здесь?! – вскрикнул Вооз, отдернув ногу от чего-то живого, теплого – от кого-то!
– Не бойся, мой господин, – тоже испугавшись, ответила женщина. – Я раба твоя, Руфь. Протяни руку твою и сделай то, что велит тебе закон, ибо ты родственник Елимелеха, Мары и Махлона – семьи моей.
Вооз никак не мог прийти в себя.
– Как велико смирение твое и любовь к Махлону и Маре! – наконец сказал он. – Хорошо ты сделала, что не пошла искать в мужья себе молодых людей ни бедных, ни богатых, а пришла сюда. Оставайся и спи в доме моем до утра. Завтра мы пойдем к городским воротам, призовем старейшин и спросим еще одного родственника семьи твоей – не захочет ли он восстановить имя мужа твоего. Он беден, он точно откажется от тебя, потому что и своих домочадцев прокормить не может. Тогда я смогу тебя взять, и ты будешь моей женой, потому что все говорят о чистоте твоего сердца, но более потому что вчера, когда пришла ты подбирать хлеб, ты стала частью моей души, и теперь, если ты будешь мне женой, душа моя будет целой, а имя Махлона – живым в потомках его.
Он взял верхнюю одежду Руфи, чтобы утром никто не заметил ее и не распустил напрасных толков. Отдал ей старый рабочий гиматий, а сверх того отмерил ей шесть мер ячменя. «Так пойдешь, – сказал Вооз, – и тебя примут за работницу, получившую свою плату. На расспросы не отвечай – молчанием спасешь нас обоих от злых языков. Возвратись и отнеси этот хлеб свекрови своей. Никуда не выходи из дома, пока не пошлю за тобой».
3
С рассветом Вооз пришел к городским воротам. Сидел там до начала хлебного торжища. И вот стало стекаться много всякого люду, чтобы продать или купить собранный урожай. Около Воозовой лавки топтался бедняк, не решаясь войти вовнутрь. Хозяин, признав в нем родственника, подозвал его.
– Богатство приносит тебе земля твоя! – с завистью глядел бедняк на большие мешки, набитые зерном. – Продашь все это, и можно не работать до самого юбилейного года3232
Юбилейный год наступал, по иудейскому закону, раз в пятьдесят лет. Тогда прощались долги должникам, а рабов отпускали на свободу.
[Закрыть]!
– Зачем не работать? – удивился Вооз. – Если бы я не работал, ты бы теперь не перешел порог моей лавки.
– Что здесь, что на улице, – тот покачал головой, – мне все едино: и здесь, и там голодно.
– О чем ты толкуешь? – ухмыльнулся Вооз. – Или я ошибаюсь, и ты пришел на торжище за хлебом, а не за кувшином вина?
– Ты позвал меня, чтобы обидеть и посмеяться надо мной?
– Такого, как ты, не обидишь, такой и сам над кем хочешь посмеется.
– Ладно, – разочарованно вздохнул бедняк, – вижу, мне здесь нечего делать.
Он повернулся и побрел к выходу.
– Стой! – Вооз не мог удержаться от смеха. – Возьми любой мешок, какой тебе больше понравится.
Тот остановился, застыл.
– Только, – продолжал Вооз, – накорми этим хлебом своих детей и не смей отдавать его виноделу, чтобы тот наполнил глотку твою сикерой.
– О господин! – запричитал бедняк. – Ты так добр к рабу твоему!
– Не продавайся раньше времени! – отрезал Вооз и дальше, уже не смеясь, говорил строго. – В город пришла наша родственница – Ноеминь, которую называют Марою, а с ней ее невестка.
– Знаю, мой господин. И вправду они родственницы наши, – бедняк фривольно расхаживал по лавке, решая, какой из мешков ему взять, – наши с тобой, – повторил он, – родственницы! У невестки, ты, видимо, хочешь сказать, умер муж, и остались только мы, чтобы восставить имя погибшего. – Он говорил развязно, поцвиркивая между зубами, при этом широко раскрывая осушенный похмельем рот.
– А ты не такой и проходимец, – Вооз прищурил правый глаз, – как о том говорят.
– Не стоит верить тому, о чем болтают, – бедняк вытаскивал дальний, заваленный другими, самый большой мешок.
– Вот я и не верю, – Вооз прищурил другой глаз, – а сам вижу, что ты не только проходимец, но и вор, каких Израиль не видел.
– Хочешь, я скажу тебе, что ты думаешь?
– Скажи, если знаешь, – Вооз сложил на груди руки, приготовился слушать.
– Так вот, – начал бедняк, – ты думаешь: «Как забавно смотреть на этого простака! Он ничего не смыслит, он нищ, потому что ленив. Он пьет вино, и более пропащего типа я не встречал». Пока все верно, ведь так? Потом ты говоришь в себе: «Но он мой родственник, и к Елимелеху он ближе, чем я, а потому и право принятия жены умершего мужа за ним первым. Конечно, мне он не помеха, ведь он беден – не может прокормить даже семью свою. Куда ему еще одну жену? Мешком зерна – думаешь ты – я куплю его и тогда смогу ввести в дом мой красавицу – пусть и не израильтянку. Кому какое дело, что я буду жить с язычницей, хоть за то и полагается по закону побиение камнями».
– Как верно ты разгадал мои мысли! – весело заговорил Вооз, подойдя к бедняку. – На такое мало какая гадалка способна, разве что урим с туммимом, но навряд ли ты на короткой ноге с Илием. Все верно, – Вооз похлопал его по плечу, – только ты не договорил самого главного, мерзавец: по закону, как тебе известно, все имущество жены переходит мужу, да только имущество Руфи-моавитянки небогатое: свекровь-вдова, которую нужно будет содержать, и дом свекрови, который прежде нужно выкупить у нее, а потом выкупить еще и поле, когда-то принадлежавшее Елимелеху.
– Да что на тебя нашло, Вооз? – бедняк отступил на шаг. – Отдай мне обещанное зерно и становись тем волом, на которого набросят ярмо.
– О моем ярме я сам позабочусь, – ответил Вооз. – Забирай хлеб и иди, позови старейшин, пусть они будут нам свидетелями.
Бедняк быстро ушел, а Вооз послал за ожидавшей его Руфью и за свекровью.
4
К полудню все званые сошлись у ворот, где обычно проходили суды и другие общественные собрания.
Десять седобородых старейшин сидели полукругом, опираясь на длинные посохи. Вокруг них толпились вифлеемляне. Весь город был здесь – настолько (начиная с того дня, как Мара и Руфь поселились под кровом своим) будоражил всех итог этой истории: кто же понесет на себе бремя имени погибшего Махлона?
Именно «бремя»! Надо сказать, что в Израиле старые традиции не были в почете, а потому каждый поступал, как считал нужным или выгодным. Если в семье из трех женатых братьев кто-нибудь умирал, то его вдова в лучшем случае продолжала дело своего мужа, в худшем (если муж работал каменщиком или служил в армии) – с детьми отправлялась в странствия, прося подаяния, продавалась, а то и шла прямо в петлю. Общественным мнением оставшиеся братья были оправданы, так как и другие поступали подобным образом, а к закону обращались лишь в очень редких случаях – обвинить в идолопоклонстве не угодившего тебе соседа (и тогда обвиняемого могли, если обвинитель подкупал двух-трех свидетелей, побить камнями) или дать жене разводную.
Народ галдел, кричал, сплетничал, устраивался поудобней, будто перед трюками путешествующих акробатов. Все четверо – Руфь, Мара, Вооз и ерзавший от каждого восклицания толпы бедняк стояли перед собравшимися. В сторону последнего то и дело долетало обидное: «виночерпий», «куда ему вторую?», «дырами на одежде кормит он своих детей!»… И так продолжалось бы без конца, если бы не поднятая рука Вооза.
– Слушай меня, Израиль! – провозгласил он. Гул понемногу утих, тысячи глаз устремились на него. – Все вы знаете, – поднятой рукой он провел вдоль толпы и сидевших перед ним старейшин, – по какому поводу мы решили собрать вас. Этот нищий человек, – он показал на бедняка, – является ближайшим родственником свекрови этой молодой, – он посмотрел на Руфь, – вдовы.
Из толпы послышался свист и недовольные возгласы: «Всегда так!.. Недостойный впереди лучшего!..».
– Однако, – Вооз перекрикивал их, – в силу своего худого состояния он отказывается от нее и тем самым передает мне законное право на восстановление имени умершего ее мужа.
Народ завопил, но теперь то были свист и вопли ликования: «Есть Бог! – обрушивалось со всех сторон. – Достойному – честь!.. Воозу – слава, а виночерпию – снятый сапог!.. И в рожу плюнуть ему!.. Эх, я бы на месте вдовы…».
Руфь подошла к растерянному и мятущемуся бедняку. Тот сам снял с себя сандалий и отдал его вдове. Народ разразился небывалым хохотом, в «виночерпия» полетели мелкие камни, но Вооз снова поднял руку, остановив нарастающий беспредел.
– Вы знаете, – громко сказал он, – прежде в Израиле был такой обычай – вдова снимала сапог с того, кто отказывался от нее.
Один из старейшин поднялся с места своего, подождал, пока все умолкнут.
– Мы свидетели вам, – сказал он. – Пусть сохранит Господь твою жену – Руфь, как Рахиль и Лию. Пусть умножатся твои богатства в Ефрафе, и пусть прославится имя твое в Вифлееме. Хвала Господу, утверждающему всякую правду! – Он отдышался и тихо добавил: – А Руфь пусть окончит начатое, ибо закон указывает не только на разутую обувь.
Он сел.
Народ замер в ожидании.
Наученная Марой невестка вновь приблизилась к бедняку.
– Позор да будет на доме того, кто не пожелал оставить в Израиле память брата своего, и пусть изгнан будет дом тот из собрания. – При этих словах она плюнула ему в лицо.
Толпа взревела, затряслась земля. Вооз обнял испуганную от содеянного Руфь. Мара подошла к старейшинам и стала им что-то говорить, а те прислушивались, с трудом различая слова из-за неумолкавшего грохота голосов.
Год спустя, на праздник суккот, когда убрали каждый свой урожай, родился Овед3333
Овед – отец Иессея, к которому пришел Самуил, чтобы помазать на царство младшего из его восьмерых сыновей – Давида (Руфь 4:17—22; 1 Цар. 16:1—13).
[Закрыть]. Мальчика так назвали соседки Мары: «Он будет, – перебивали они одна другую, – отрадой и кормильцем твоей старости. Теперь видно, что Бог благоволит к вам3434
Бездетность до сих пор считается у иудеев Божьим наказанием.
[Закрыть], и отныне тебе вернется твое прежнее имя – не Мара, а Ноеминь, потому что видим радость в глазах твоих».
* * *
Всю свою жизнь Мара вспоминала, как была нянькой для маленького Оведа, как таяло ее сердце от каждого шага младенца, как она была счастлива, когда он впервые встал на свои еще не уверенные ноги. Она помнила все. До и после переселения ее в Экрон – в изгнании, в филистимском плену.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?