Текст книги "Бог. Новые ответы у границ разума"
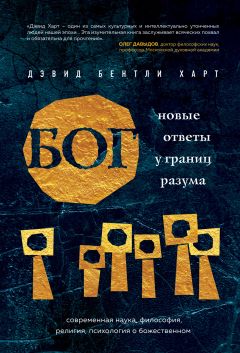
Автор книги: Дэвид Харт
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
2. Картины мира
I
Если бы философия обладала способностью устанавливать неопровержимые истины, не поддающиеся сомнению, и если бы философы были, как правило, совершенно не заинтересованными представителями своей науки, тогда можно было бы говорить о прогрессе в философии. На самом деле, однако, философские предпосылки и тенденции в любую эпоху определяются преобладающими культурными настроениями либо теми идеологическими установками, которые одобряются образованными слоями общества.
Чаще всего история философии была историей предрассудков, маскировавшихся под принципы, и поэтому она была всего лишь историей модных течений. Сегодня так же возможно быть интеллектуально скрупулезным платоником, как это было более двух тысяч лет назад; просто это популярно. В последнее столетие англо-американская философия в основном перенимала и уточняла методы «аналитического» рассуждения, часто руководствуясь предположением, что это – форма мышления, с большей легкостью очищаемая от неизученных унаследованных предпосылок, нежели «континентальная» традиция. Это – иллюзия. Аналитический метод зависит от ряда молчаливых предположений, которые в свою очередь не могут быть проверены путем анализа: таковы отношения между языком и реальностью или отношения между языком и мышлением, или отношения между мышлением и раскрытием самой реальности, или природа вероятности и возможности, или разного рода притязания, которые можно сертифицировать как «значимые», и т. д. В конце концов стиль философствования аналитической философии не является более чистым или более строгим, чем любой другой. Время от времени фактически она функционирует как отличный способ избежать разумного мышления вообще; и, безусловно, ни один философский метод не обладает свойством настолько скрывать свои самые произвольные метафизические догмы, самые вопиющие пороки и самые очевидные изъяны от самого себя, и ни один другой из методов с такой же вероятностью не допустит чрезмерного упрощения ради продвижения к ясности. Как всегда, правила определяют игру, а игра определяет правила. Более того, поскольку образованный класс, как правило, в любой данной фазе истории также наиболее глубоко постигает теории, то столь же вероятно (и намного вероятнее, чем в случае со среднестатистическим человеком), что наиболее интеллектуально гибкие профессиональные философы, как и их коллеги по естественным и гуманитарным наукам, готовы спокойно принимать господствующий консенсус некритически, даже с легковерностью, и соответствующим образом приспосабливать к нему свое мышление по всем вопросам. К счастью, философская подготовка часто помогает им в этом, наделяя их определенной степенью изобретательности, которая защищает от острых угрызений совести.
Если все это кажется намерением отчаяться в способности разума освещать реальность, то это не так. «Философия» и «разум» – не синонимы. Если существует вообще рациональное мышление как возможность – то есть если существует какое-то реальное соответствие между сознанием и миром, а не просто случайная и функциональная связь, созданная эволюцией, – то существует много философских проблем, которые рассуждающий ум может решать плодотворно, и философ, который внимателен к этим вопросам и обсуждает их, не прибегая инстинктивно к какому-либо канону философской догмы, занят поистине достойным исследованием. Все, что я хочу сказать, – никогда не следует быть чересчур наивным относительно уровня нынешней философской культуры или воображать, будто новейшие типы мышления в каком-либо значимом смысле более продвинуты или более авторитетны, чем те, которые существовали столетие, тысячелетие или два тысячелетия назад.
Есть некоторые вечные вопросы, к которым всякая примечательная философия возвращается снова и снова; но нет таких логических открытий, которые делали бы все прежние ответы устаревшими. Некоторые классические ответы на эти вопросы продолжают жить и возвращаются, иной раз потому, что они остаются намного более значимыми, чем ответы (или отговорки), сформулированные более поздними школами мысли. И наоборот – менее значимые ответы часто пользуются большим преимуществом, чем их соперники просто потому, что они соответствуют предрассудкам эпохи. Я думаю, было бы справедливо сказать, что большинство академических философов в наши дни склонны к строгому и компетентному материалистическому или физикалистскому взгляду на реальность (хотя многие из них могут и не использовать эти термины), и часто может складываться – по-своему популярное – впечатление, будто подобная позиция имеет исключительно здравое и рациональное основание. Но в действительности материализм – это одна из наиболее проблематичных философских позиций, с наиболее обедневшим пояснительным диапазоном, и одна из самых упрямых и (за отсутствием лучшего слова) магических в своей логике, даже если она была в моде пару с лишним столетий. А мода ведь меняется.
Три или четыре десятилетия назад комфортный и самодовольный атеизм был почти универсальным консенсусом философских факультетов во всем развитом мире, но за последнее поколение или около того в академической сфере произошло возрождение чрезвычайно утонченных форм теистической философии, в том числе замечательное возрождение многих традиционных теистических аргументаций. Многие из лучших и более глубоко мыслящих философов-атеистов открыто признают, что их позиция в значительной степени является идеологической приверженностью, а не просто неизбежным итогом добросовестных размышлений, и что другая сторона имеет свои собственные внушительные аргументы.[23]23
Изящно ясную трактовку произвольного основания материализма у многих современных философов, особенно в отношении философии сознания, см. в: Laurence Bonjour, “Against Materialism,” in Robert C.Koons and George Bealer, eds., The Waning of Materialism (Oxford: Oxford University Press, 2010), pp. 3–23.
[Закрыть]
Однако, на мой взгляд, действительно интересная проблема современного философского размышления о Боге или природе бытия заключается не в том, что в любой конкретный момент может относительно преобладать та или иная академическая группа, а в том, какие предположения разделяют друг с другом самые разные люди и как эти предположения формировались господствующими течениями в истории культуры. Поскольку философские движения способны влиять на ход социальной и политической истории (а это, к сожалению, случается часто), то философия в любом конкретном времени и месте нередко бывает лишь отражением картины мира, свойственной преобладающей культуре, моделью реальности, которую большинство людей обыкновенно себе представляют, прежде чем призадуматься о многом, и средне обученный философ часто занят всего лишь попытками представить формальный отчет об этой картине и ее рационализацию, как он (или она) эту картину понимает. Современная философия формировалась в эпоху, когда понимание как природы, так и разума радикально изменилось по сравнению с тем, каким оно было в античности или в Высоком средневековье. Во многих отношениях, хотя и не самых важных, это изменение выразилось в пересмотре космической географии и физики движущихся тел: в переходе от геоцентризма к гелиоцентризму, постепенном исчезновении планетных сфер и их замене вакуумом пространства, открытии инерции, обнаружении эллиптических орбит и т. д. В других отношениях, однако, это был пересмотр методов, обычно использовавшихся для исследования природы, и метафизических принципов, которыми, видимо, определялись эти методы. В первом случае изменение было частично вызвано реальными открытиями относительно физического порядка; во втором – сочетанием практических и идеологических интересов. Однако, в течение в общем-то короткого времени для большинства людей было практически невозможно отличить подлинный прогресс в научном знании от случайных изменений предрассудков. Новая картина мира возникла как единое целое, в котором, как всегда, неразрывно смешались истина и ошибка, установившиеся знания и беспочвенные предрассудки.
II
Большинство людей, обладающих какими-либо базовыми знаниями о культурной истории, вероятно, имеют некоторое представление об архитектуре Вселенной во времена Античности, Средневековья и начала Нового времени, которую описал в «несовершенной» форме Аристотель (384–322 годы до н. э.), на которую нанес последние – надолго ее закрепившие – штрихи Птолемей (около 90 – около 168 до н. э.). Земля пребывает неподвижно в центре системы взаимосвязанных небес: неизменяемых прозрачных сфер, каждая из которых непосредственно охватывает другую, большую, чем она сама, в регулярной последовательности – вверх и вовне; каждая из первых семи сфер содержит «планету» (по порядку: Луну, Меркурий, Венеру, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн), за ними следует stellatum, или сфера неподвижных звезд, а еще дальше – таинственный primum mobile, или Небо «Перводвигателя». Однако за пределами этого Неба находится «сфера» Неподвижного Двигателя, понимаемого либо как неизменный духовный интеллект, не имеющий непосредственного отношения к низшим вещам, чистая «мысль, которая мыслит мысль», либо как Бог, активный создатель вселенной. Что касается того, как нужно было понимать «место» за пределами небес, существовала некоторая двусмысленность. Аристотель полагал, что какая бы реальность ни лежала за пределами звезд как чистая форма и чистая действительность, не существующая ни в каком пространстве, ни в каком-либо времени (ведь пространство и время существуют только там, где есть нереализованный потенциал для движения или изменения, некий дефицит действительности, и для Аристотеля Перводвигатель был абсолютно реальным и совершенным); но Аристотель в своей Физике мог говорить о Неподвижном Двигателе как расположенном снаружи по отношению к Небесам или на их окружности.
Христианские мыслители видели двусмысленность иного рода, но столь же реальную: для них за пределами primum mobile лежала бесконечная и бесконечно прекрасная светлость эмпирей, собственно Божьих небес; но в то же время они не верили, что Бог находится в каком-либо конкретном месте, поскольку он трансцендентен пространству и времени и поэтому полностью и непосредственно присутствует в каждом месте и в каждый момент. В любом случае, как для язычников, так и для христиан, Неподвижный Двигатель был причиной не прекращающихся вращений небес не потому, что он (безличный или личностный) был для них какой-то внешней побудительной силой, а потому, что он действовал как непреодолимая сила притяжения. Primum mobile движим своей любовью к Неподвижному Двигателю, своим естественным желанием и склонностью к высочайшему совершенству и «стремился» подражать неизменному совершенству божественного, как только способна изменяющаяся вещь: непрерывным и неизменным вращением. Поэтому он проходит по всей круговой цепи нижних небес один раз каждый день, с Востока на Запад, с силой, заставляющей низшие сферы, которые поспешили бы следовать за ней, если бы могли, отступить и вращаться намного слабее, в противоположном направлении – с Запада на Восток.[24]24
Aristotle, Physics VIII.10, 276b; ср.:. idem, De Caelo I.9, 279a. [Рус. пер. см. в: Аристотель (4 тт.), М.: Мысль, 1976.] Возможно, самое удивительное и доступное описание древнего и средневекового видения космоса можно найти в: C.S.Lewis, The Discarded Image (Cambridge: Cambridge University Press, 1964).
[Закрыть]
Этот космос был одновременно научной и метафизической гипотезой, но и объектом, наделенным великой художественной красотой, полным высот и глубин, сложности, великолепия, возвышенности и изящества; он был образом вечного танца звезд, движимого первозданной силой любви, которая влечет все вещи к божественному, он был образом, поэтичность которого едва ли можно было бы превзойти. В самом деле, он был полон света: согласно этим представлениям, на небесах не было природной темноты, потому что все сферы пронизывались накалом эмпиреев; ночь существовала только здесь, внизу – как слабая коническая тень, отбрасываемая Землей на фоне бесконечных океанов небесного сияния.
Это не было просто моделью реальности, которая не оспаривалась веками; были ученые в поздней Античности и в Средневековье, христиане и мусульмане, которые временами ставили эту модель под вопрос – полностью или частично. Но – в широком смысле – казалось, что «сохранять видимость» вещей лучше, чем прибегать к любой другой доступной модели. Однако она не обладала эмоциональным смыслом, как часто думают о ней современные люди. Например, это неосмотрительной банальностью следует счесть утверждение, будто сопротивление коперниканству в начале Нового времени было вызвано некоей отчаянной привязанностью к геоцентризму, которая подстегивалась горделивой убежденностью в том, что человечество составляет центр всей реальности. Это просто ошибочное утверждение.
Верно то, что, почти не имея понятия о принципе инерции и будучи по большей части неспособными верить в возможность истинного вакуума, древние и средневековые люди, естественно, предполагали, что любое движение Земли само по себе приводит к видимым смещениям наземных объектов и траекторий и поэтому оно должно быть устойчивым, а Небеса должны вращаться вокруг Земли; но это не означает, что они видели Землю как наделенную каким-то возвышенным статусом в отличие от прочих сфер – как раз наоборот. В старой модели дело обстояло, скорее, так, что Земля и ее жители помещались на низший и худший уровень реальности. Здесь внизу все было подвержено неустойчивости: рождение, распад, смерть и непрекращающиеся изменения.
Ниже сферы Луны в постоянном потоке находились четыре кардинальных элемента-стихии, атмосфера представляла собой турбулентный вихрь соперничающих ветров, повсюду царил распад. Выше сферы Луны, наоборот, располагалась область нетленного пятого элемента – эфира – и неизменных небес, а также непорочного и прекрасного небесного света, чьи всего лишь слабые, разбавленные и непостоянные следы мы улавливаем здесь, на Земле. Отсюда знаменитый «перевернутый» образ космоса у Данте в двадцать восьмой песне «Рая», где поэт, позволяя мимолетно взглянуть на духовную форму творения, видит горящий свет Бога как центр всего, с primum mobile, вращающимся вокруг него как наименьшая, наиболее быстрая и наиболее внутренняя сфера, и все остальные сферы, излучаемые в «обратном» порядке и пропорции оттуда, и все они населены разными чинами ангелов, а наш мир наиболее удален от центра этого вечного небесного танца. Многих в новой космологии особенно поразило не то, что человечество было исключено из сердца реальности, но что изменение и беспорядок были введены в прекрасные гармонии горнего мира.
Однако исчезновение геоцентрической модели Вселенной, каким бы дезориентирующим оно ни казалось, было не самым радикальным изменением – с точки зрения, сложившейся в начале Нового времени. Реальность была пересмотрена на гораздо более тонком уровне. Для философов и ученых времен премодерна[25]25
Условно «премодерн» здесь и далее означает эпоху до «модерна», т. е. до Нового времени (начинающегося с эпохи Ренессанса и протестантизма – XV–XVI века); соответственно, эпоха Нового времени в XX веке (после Второй мировой войны) сменяется «постмодерном».
[Закрыть], вплоть до самого начала возникновения философской и научной мысли на Западе, нельзя было провести абсолютное разделение между физическими и метафизическими объяснениями космоса или хотя бы между материальными и «духовными» причинами. Вселенная была сформирована и поддерживалась сложным переплетением имманентных и трансцендентных посредничеств и сил. Это было следствием неразрывного союза того, что Дэниел Деннетт любит называть «подъемными кранами» и «небесными крюками»: то есть как тех причин, которые, так сказать, поднимают снизу, так и тех причин, которые спускают сверху. Основной способ, каким позднеантичные и средневековые мыслители понимали порядок природы, сводился к четырем аристотелевским категориям причинности: материальной, формальной, действующей и целевой. Первая из них – это просто основная материя, из которой всё формируется – скажем, мрамор, с которым работает скульптор, или стекло, из которого изготовлена бутылка, – низший и самый повсеместный уровень того, что является «первоматерией», субстрат всех физических вещей, настолько абсолютно неопределенный, что не содержит в себе ничего, кроме чистой потенциальности, и лишенный какой-либо актуальности, не зависящей от того, что сообщает чему-либо субстанцию и форму. Формальная причина – то, что делает конкретную субстанцию тем, что она есть, например статуей или бутылкой, включая все атрибуты, относящиеся к ней, такие как холод, статическая твердость и репрезентативная форма, или такие как хрупкость, прозрачность и текучесть. Действующая причина – создающий или побуждающий фактор, который объединяет форму и материю в единую субстанцию – таковы, например, скульптор или стеклодув вместе со своими ремесленными инструментами. Целевая, или финальная, причина – конечная цель и назначение данной вещи, использование, для которого она предназначена, или то благо, которому она служит, или следствие, к которому она изначально (хотя и бессознательно) направлена и которое в определенном смысле возвращает к действующей причине – например, празднование великого события, воспоминание об эстетическом удовольствии или хранение и транспортировка вина или виски. Возможно, впрочем, не следует выбирать для примеров только человеческие артефакты, поскольку в классическом представлении все конечные вещи производятся работой этих четырех видов причинности: слонов, гор и звезд не меньше, чем статуй или бутылок. И потом, помимо всех этих четырех, по крайней мере в христианский период, существовал еще один вид причинности, не всегда, как следовало бы, явно очерченный на фоне остальных, однако куда более непомерно отличавшийся от них, чем сами они – друг от друга. Это можно было бы назвать «онтологической» причиной, которая одна только способна не просто создать, но создать из ничего: тот бесконечный источник бытия, который дарует существование каждой контингентной вещи и всей Вселенной, без которого ничто – даже сами возможности вещей – не может существовать.
Конечно, сегодня у нас не настолько в обычае думать о «форме» или «финальной цели» как вообще о причинах, особенно вне сферы человеческого производства. Как правило, мы думаем о физических реальностях, имеющих причиной исключительно другие физические реальности, действующие как первичные и внешние силы и просто передающие энергию от себя к своим следствиям. Мы можем допустить, что, когда задействован рациональный фактор, цели и планы также могут действовать как причины в аналогичном или метафорическом смысле; но природу мы склонны рассматривать как бессознательный физический процесс, материю в движении, из которой случайно возникают форма и цель – как следствия, а не как причины. Это в значительной мере объясняется тем, что интеллектуальный мир, в котором мы были воспитаны, есть мир, чьи господствующие дискурсы – науки, философии и идеологии – возникли вследствие замещения «аристотелевского» мира «механической философией», а также более индуктивным и эмпирическим научным методом, который начал складываться в поздней схоластической мысли и достиг своего рода гармоничного синтеза в начале Нового времени в трудах Фрэнсиса Бэкона (1561–1626) и других ученых (хотя на самом деле Бэкон был не таким уж и радикальным механицистом, каким его считали). Старый взгляд на реальность позволял подходить к физическому космосу и ко всем составляющим его частям как к органическим структурам, которые можно было истолковывать с точки зрения цели и формы, потому что почти все предполагали, что материальные процессы сами по себе не могут порождать или оживлять упорядоченный мир природы; тогда следовало прибегать к более «духовным» – или, в любом случае, нематериальным – причинам для объяснения того, как потенции материи могут стать актуальными и интегрироваться в логически связные целостности, из которых состоит природа. Проблема с этим предположением, хотя, по крайней мере в глазах тех, кто выступал за эмпирический метод Нового времени как за некий «новый инструмент», была связана не столько с логикой, сколько с практикой. Финальные (целевые) и формальные причины можно теоретически допустить, но нельзя в достаточной мере практически исследовать, и их слишком легко можно использовать в качестве объяснений без необходимых эмпирических данных. Тогда, возможно, лучше подходить к природе как к набору механизмов, упорядочивающий принцип которых – не какая-то мистическая внутренняя форма или врожденная телеология, а чисто функциональное расположение их отдельных частей и действий. Вместо того чтобы начинать исследования с целей, к которым якобы направлена природа, лучше начинать с самых элементарных материальных фактов – индуктивно и экспериментально, исходя из них и продвигаясь дальше осторожно и постепенно. Таким образом, механическая философия принципиально вынесла за скобки формальные и целевые (в аристотелевском смысле) причины и ограничила научный поиск материальными и действующими причинами. По ходу дела она радикально переосмыслила материальную и действующую причинность, начав описывать материю «саму по себе» уже не просто как потенциальную возможность, требующую введения какой-то более высокой формы, чтобы стать чем-то актуальным, а скорее, как нечто вроде субстанциального и действующего фактора (требующего самостоятельного рассмотрения), который нужно было просто встроить в реальный механический порядок с помощью какой-то действующей упорядочивающей силы (первые ученые Нового времени вполне довольствовались тем, что представляли эту силу как божественного конструктора природы).
Излишне говорить, что весьма значительную часть чудесной силы и плодовитости современной науки можно отнести к аскетическому режиму, которым этот новый эмпиризм связал научную мысль. Честный отказ от всех метафизических предположений и от любых притязаний на какие-либо «высшие» причины требовал от ученых еще более кропотливого внимания к деталям, еще более точной инвентаризации фактов, еще более настойчивого применения эксперимента, классификации и наблюдения. Строго говоря, это неправда, что стремительный и неуклонный прогресс научной мысли и достижений в эпоху модерна был исключительно результатом простых, неприкрашенных эмпирических исследований, но и от них было бы мало толку, если бы не тот пересмотр научного мышления, которого требовал новый эмпирический подход. Тем более печально, что новый антиметафизический метод вскоре (вероятно, это было неизбежно) гипертрофировался, превратившись в своего рода метафизику. В течение очень короткого времени, относительно говоря (максимум несколько поколений), эвристическая метафора чисто механического космоса стала своеобразной онтологией, представлением о реальности как таковой. Для этого было много причин – научных, социальных, идеологических, даже теологических, – но результатом, в общем-то, стало единообразие: западные люди быстро приобрели привычку смотреть на Вселенную не просто как на нечто, что можно исследовать согласно механистической парадигме, но как на самый настоящий механизм. Они стали воспринимать природу не как реальность, управляемую и объединяемую изнутри высшими или более духовными причинами, такими как форма и цель, а как что-то просто искусственно собранное и упорядоченное извне некоторой комбинацией действующих сил, а, возможно, и одной верховной внешней действующей причиной – неким божественным конструктором и создателем, демиургом, богом машины, которого даже многие благочестивые христиане стали считать Богом.
Трудно преувеличить, насколько глубокий концептуальный сдвиг это произвело в культуре – интеллектуальной, а со временем и общенародной – Запада. По сравнению с этим отказ от аристотелевской и птолемеевской космологии требовал лишь небольшой корректировки мышления – на очень ясном и сознательном уровне. Но утрата более широкого ощущения целостного единства метафизических и физических причин, а также духовной рациональности, полностью пронизывающей и поддерживающей Вселенную, которая произошла на более тонком, более безмолвном, более бессознательном уровне, разверзла воображаемую пропасть между мирами премодерна и модерна. Теперь люди в известном смысле обитали во Вселенной, отличной от той, в которой обитали их предки. В старой модели весь космос – его великолепие, изумительный порядок, все большие глубины – был своего рода теофанией, проявлением трансцендентного Бога в самих глубинах и высотах творения. Вся реальность участвовала в тех трансцендентных совершенствах, которые имели бесконечное завершение в Боге, и все это пришло к выражению в нас, в нашем рациональном созерцании, логически связном изложении и художественном праздновании красоты и величия существования. Так что человеческое бодрствование перед тайной бытия было уже и открытостью божественному, потому что мир был образом Бога и причастностью к Богу как источнику всякого бытия. Опять же (и это нужно подчеркнуть) такое видение рационального порядка творения было неизмеримо далеким от понимания мира деистами или сторонниками «разумного замысла», считавшими мир замечательной машиной, спроектированной и изготовленной неким исключительно предприимчивым сверхчеловеческим интеллектом. Видеть космос как полностью пронизанный, объединенный и поддерживаемый божественной интеллектуальной силой, сразу трансцендентной и имманентной (Логос, или нус, или, если бросить взгляд на Восток, дхарму или дао), достигающей малейших возможностей вещей и поднимающейся к высочайшей действительности, вовсе не означает видеть космос всего лишь как артефакт, сконструированный из разрозненных частей каким-то весьма находчивым умом, но сам по себе лишенный сознания и механический, при всей своей красоте и таинственности сводимый лишь к массе произвольных декоративных[26]26
Одно из значений греч. слова kosmos – «украшение; декорум».
[Закрыть] эффектов. В первом случае мы видим творение как отражение природы Бога, открытое для трансценденции изнутри; во втором случае мы воспринимаем мир как отражение только божественной силы и как замкнутый на самом себе.
Согласно модели, которая заменила старую метафизическую космологию, по крайней мере в ее все еще рефлексивно деистической форме, фактически нет вообще никакого надлежащего контакта между разумом и материей. Беспокойная машинерия природы представляет собой совокупность не связанных друг с другом частей, в которых у единой силы интеллекта нет никакого надлежащего или необходимого места. Даже человеческий разум обитает во Вселенной только как своего рода жилец или пришелец, а не как полноценный причастник более высокого духовного порядка всех вещей, способный интерпретировать физическую реальность с помощью естественной интеллектуальной симпатии и склонности. В средневековой философии было стандартное предписание: человеческий интеллект может познавать внешний объект по двум взаимосвязанным причинам. Во-первых, интеллект и этот объект, оба, в соответствии с их различными способами деятельности, участвуют в единой общей рациональной форме (например, в форме, которая воплощена и выделена в какой-то бледно-желтой розе, вяло клонящейся с краешка фарфоровой вазы, но это также присутствует в моих мыслях, как что-то, что сразу схватывается понятием и интуицией в тот момент, когда я улавливаю взглядом эту розу). Во-вторых, интеллект и этот объект одновременно исходят из единого бесконечного источника постижимости и бытия, создающего все вещи, и охватываются им. Поэтому познать что-либо – это уже означает (пусть смутно и несовершенно) познать действие Бога как внутри каждой вещи, так и внутри нас самих: это – единый акт, познаваемый в согласии и единстве двух отдельных инстанций-полюсов, «объективной» и «субъективной», хотя и, в конечном счете, неразделимых. Напротив, Рене Декарт (1596–1650) – философ, которого, как правило, считают символом перехода от премодерна к философскому методу модерна, – полагают, пришел к взгляду на человеческую душу как (по выражению Гилберта Райла) на «духа в машине».
Хорошо это или нет, но правда: Декарт считал все организмы, в том числе человеческое тело, механизмами, и, конечно же, думал о душе как о нематериальном «обитателе» тела (хотя и допускал, несколько неадекватно это объясняя, взаимодействие между этими двумя в корне несоизмеримыми видами субстанции и даже их сотрудничество в третьем виде субстанции). Согласно более ранней модели, человек мог познавать Бога, познавая конечные вещи, просто через свою врожденную открытость и зависимость от Логоса, сияющего во всех вещах, а также за счет нерасторжимого – брачного – единства сознания и бытия. Однако это совершенно немыслимо в картезианской модели, в которой душа просто пребывает в теле и наблюдает механическую реальность, с которой у нее нет никакой естественной преемственности и с которой она связана чисто внешним образом. Вот почему для Декарта первое «естественное» познание Бога – это всего лишь своего рода логический, в значительной степени лишенный характерных черт вывод о «существовании» Бога, заключаемый главным образом на основании присутствия в индивидуальном сознании некоторых абстрактных идей, таких как понятие бесконечного, которые внешний мир внушить сознанию не способен. Все это полностью соответствовало новому механическому взгляду на природу и все это ставило и душу, и Бога полностью вне космической машины: один населяет ее внутри, другой управляет ею извне.
Как я уже сказал, растворение геоцентрического космоса с его мерцающими меридианами, сияющими кристаллическими сводами и непреходящим великолепием, возможно, было утратой для воображения западного человечества, но это была утрата, легко компенсируемая величием нового образа небес. Гораздо более значимым было, в конечном счете, исчезновение этого более старого, метафизически более богатого, неизмеримо более загадочного и гораздо более духовно привлекательного понимания трансцендентной реальности.
В эпоху механистической философии, когда всю природу можно было рассматривать как бесконечное нагромождение бездушных событий, Бога скоро начали понимать всего лишь как самое колоссальное и самое бездушное из этих событий. Поэтому в период модерна спор между теизмом и атеизмом в значительной степени превратился не более чем в противоречие между двумя разными по степени влияния атеистическими видениями существования.
Такая борьба между теми, кто верил в этого бога машины, и теми, кто не верил в него, была борьбой за обладание уже обезбоженной вселенной. Взлет и падение деизма были эпизодом не столько в религиозном или метафизическом мышлении, сколько в истории космологии Нового времени; кроме нескольких этических добавлений, все это движение было в основном упражнением в дефективной физике. Бог деистической мысли был не полнотой бытия, чьей (полностью зависимой от него) манифестацией являлся бы мир, а всего лишь частью превосходящей все реальности, которая включала и его самого, и его произведение; и сам он был связан с этим своим произведением лишь внешне, как один предмет связан с другим. Космос не жил, не двигался и не существовал в этом боге, а этот бог жил и двигался, и существовал в этом космосе как отдельное существо среди других существ, как отдельная и определенная вещь, как всего лишь некое презренное «Высшее существо». И поскольку его роль была лишь ролью первой действующей причины в непрерывном ряду действующих причин, то требовалось только разработать физические и космологические теории, не имеющие явно никакой потребности в «данной гипотезе» (как выразился Лаплас), чтобы этого бога вообще изгнать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































