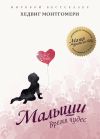Текст книги "Зовем воображение на помощь. Детская нарративная терапия"

Автор книги: Дэвид Марстен
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Как только Морин отпраздновала свою первую победу, Тревога доказала, что все еще может вывести ее из равновесия. Один из способов справиться с застарелой проблемой – создать богатую описанием историю. Для того чтобы создать насыщенную описанием историю, нужно определить, как долго проблема существует. Любая почтенная проблема претендует на знатное происхождение, что еще важнее – на происхождение, полное бесславных подвигов. Просто послушайте, как беспокоится Беверли, вспоминая о прошлом: «Морин с самого начала была чувствительной. Она всегда с трудом переносила перемены, сильно волновалась. Когда я вернулась на работу, ей было труднее, чем сестре, хоть она и старше. В ту неделю, когда я начала работать, ей было трудно укладываться в кровать, она могла не спать всю ночь». Что происходит, когда мы представляем проблему как некое заклинание, вводящее Беверли (а заодно и нас, если мы будем недостаточно осторожны) в состояние беспомощности? (Мы же видим тревожный оттенок прошлых событий, несомненно повлиявших на нынешнее положение Морин.) Чары, наложенные проблемой на некоторые моменты из прошлого, теперь определяют будущее. Беверли овладевают мрачные размышления о том, что ждет ее ничего не подозревающего ребенка: «Что, если она никогда это не перерастет? Сейчас, пока я с ней рядом, с этим можно справиться, но, когда она станет старше, что она будет делать, если не научится справляться с этой проблемой?» Пока эта история разворачивалась во времени, проблема отошла в сторонку и любовалась искусной работой, напоминая любимого персонажа Морин из детской книжки «Паутина Шарлотты» (White, 1980).
Помните, как паучиха Шарлотта вплетала в свою замечательную паутину хвалебные слова – так, чтобы поросенка Уилбура, ее юного протеже, хвост крючком, признали слишком ценным для бесславной участи быть поджаренным и поданным целиком на блюде? В случае Морин, вместо того чтобы получать такие комплименты, как «чудо что за девочка», «великолепная», «блестящая» (вспомните, какими эпитетами наделяют Уилбура), она скорее получит ярлыки «слишком чувствительной», «плохо приспособленной» и «тревожной». И достопочтенные, и бесславные истории пользуются тем, что время часто достраивает реальность, вплетая свободные концы происходящего в искусно сотканное, практически фабричное полотно прошлого. Разница в том, что у проблем ткань истории не столько фабричная, сколько сфабрикованная, подделанная. Все, что нужно для подделки, – выстроенная в нужном порядке цепь событий (немного паучьего шелка) и суконный, наполненный расхожими стереотипами язык рассказчика.
С помощью историй мы путешествуем во времени. Наша цель в этой экспедиции состоит не в том, чтобы откопать бесценные реликвии прошлого (например, «расскажите мне о своем детстве») или, используя силу оракула, подтвердить уже предрешенное будущее. Скорее нам нужно обнаружить спорные территории, на которых идет борьба. Там нас ждет богатый ассортимент разнообразия сюжетных моментов, среди которых можно выбирать резко противоположные. Так ткачи используют в своем плетении контрастные нити. Иначе, когда мы сокращаем множество возможностей до единого паттерна так, будто других вариантов и альтернативных точек зрения не существует, жизнь становится однотонной, ограниченной, в прошлом и будущем не остается других возможностей (Morson, 1994). Рассказ о том, как Тревога испытывала Морин, но девочка одержала над ней верх, выступая и от лица сестры, и от своего собственного, расширяет наш взгляд на вещи, формирует образ двух противоборствующих сторон: храброй девятилетней девочки и ее достойного противника. Теперь мы можем отделить цели проблемы от целей девочки.
Мы можем задать такие вопросы, которые будут фокусироваться на двух сюжетных линиях:
• Какие у Тревоги самые любимые воспоминания из твоего прошлого?
• О каких случаях из твоего прошлого Тревога хотела бы заставить тебя забыть, хотя их важно помнить?
И вопросы, которые помогут выявить два возможных варианта будущего:
• Если бы Тревога навязала тебе свою волю, какое будущее она бы тебе уготовила?
• Если твое будущее основывается на твоих мечтах, а не на кошмарных представлениях Тревоги, каким оно может быть?
Многие говорят, что лучшее средство от преследования прошлого и предопределенности будущего – жить в моменте, однако нарратив как форма повествования заставляет нас задержаться в настоящем лишь настолько, насколько это нужно для того, чтобы сделать шаг назад, а затем шаг вперед. Истории зависят от количества времени, причем сильно. Как напоминают нам специалисты в области психологии развития Элинор Окс и Линда Кэппс, «структура, которая позволяет нам отличить один нарратив от другого, – это хронология» (Ochs & Capps, 2001, p. 18). История «уплотняется» (Geertz, 1973; White, 1997), когда мы оглядываемся на свое прошлое, по пути выбирая воспоминания определенного рода. Это особая коллекция воспоминаний, которая может пролить свет на, казалось бы, предопределенное будущее с обещанием прекрасного урожая – или неурожая (Freedman & Combs, 1996).
Хильда Линдеманн Нельсон указывает на то, как нам важно вести повествование о времени и его последствиях от первого лица: «Эти истории обращены в прошлое, они составляют мое понимание того, кем я была по отношению к ним, но в то же время эти обращенные в прошлое истории формируют мое поле действий, в котором я могу выстраивать истории, обращенные в будущее, и они будут направлять мои будущие отношения с ними» (Lindemann Nelson, 2001, p. 77). Когда мы оглядываемся назад, может возникнуть ощущение, что будущее предопределено теми событиями, которые произошли в прошлом, что такова теперь наша судьба. Однако вместо того, чтобы пытаться вообще избежать путешествий, убрать паспорта и оставаться в одном часовом поясе (как будто это действительно возможно), мы с радостью готовимся к отъезду. А если проблема претендует на то, чтобы быть нашим биографом, турагентом или гидом, мы в состоянии эту ее претензию оспорить.
Убедительность нарративаНарративы захватывают нас и проживаются нами. Они основа нашей идентичности. Они говорят нам, кто мы и что мы можем в жизни. Как объясняет Линдеманн, «мы относимся к себе и к другим согласно тем историям, с помощью которых мы объясняем себе, кто мы и кто они» (Lindemann Nelson, 2014, p. 49). Когда Морин предстала перед мамой, учительницей и, возможно, перед самой собой как тревожный ребенок, неспособный справиться со своей Тревогой, она оказалась в позиции обедненной идентичности и ее воспринимали по ее проблеме. Любой заслуживающий похвалы опыт, который мог бы способствовать развитию насыщенной истории, сверхъестественным образом испарялся и казался скорее призрачным, чем реальным. Когда обеспокоенные родители обращаются за помощью и в разговор включаются учителя, школьные консультанты, психотерапевты и психиатры, проблема может потребовать всего нашего внимания, но мы отказываемся предоставлять ей эксклюзивные права. Вместо того чтобы принимать проблему как родную, мы можем относиться к ней как к незваному гостю, как к чужаку, поскольку мы видим, куда она клонит и как сильно хочет нас убедить в своей точке зрения.
Беверли: Кажется, в последнее время все вызывает у нее стресс. Когда я забираю Морин из школы и она не находит меня в толпе родителей, она беспокоится, что я не пришла или что со мной что-то случилось. Накануне она подслушала, как я разговаривала с матерью, которая, как вы можете представить, сейчас не в лучшем состоянии.
Д.М.: Вы имеете в виду с тех пор, как вы потеряли отца?
Беверли: Он был моим отчимом. Он для меня всегда был больше, чем просто маминым мужем, хотя я полюбила его не сразу. Мой отец умер, когда мне было 25, так что, когда в нашей жизни появился папа Джим, я уже жила на Западном побережье. Но он всегда был единственным дедом, которого знали девочки.
Д.М.: Значит, ваша мама пережила это дважды.
Беверли: Да, и для нее это было трудно: сначала мой отец, а теперь дедушка Мо, хотя между этими событиями прошло много лет. Остались одни девочки, да, милая? (Обращается к Морин, обнимает ее.) Но мы собираемся жить долго. (Поворачиваясь к Д.М.) Вчера вечером, перед тем как лечь спать, она спросила меня, умрет ли бабуля.
Д.М. (обращаясь к Морин): Сейчас Тревога сильна?
Морин: Да.
Беверли: Она чувствительная. Я ей сказала, что бабуля сейчас очень переживает. (Поворачивается к Морин.) Но твоя бабушка сильная. (Поворачиваясь к Д.М.) Они с бабушкой очень близки, несмотря на то что моя мама живет в Чикаго. Они переписываются в интернете, общаются в «Скайпе», и этой весной мы снова собираемся в гости. Мо очень волнуется.
(Несмотря на то что нам еще предстоит узнать, что именно Тревога затрагивает в Морин, не очень ясно, что именно тревожит – возможно, это связано с отношениями с бабушкой. Непонятно, подойдет ли это волнение для развития истории. Мы никогда не знаем наперед, в этом-то и удовольствие ведущего.)
Д.М.: Морин, ты волнуешься перед встречей с бабушкой больше, чем мама и сестра?
Морин: Да.
Д.М.: Ты можешь мне сказать почему, можешь предположить, почему перед поездкой в Чикаго ты волнуешься больше всех в семье?
Морин: Я не знаю.
Д.М.: Потому что ты любишь летать в самолете, любишь путешествовать? Чикаго – твой любимый город или ты скучаешь по бабушке? (Предлагает разные возможности, пытаясь подтолкнуть Морин к размышлениям.)
Морин: Я скучаю по бабушке.
Д.М.: Беверли, сильные чувства Морин к бабушке – так проявляется ее чувствительность? (Д.М. пытается понять, оставила ли Тревога хоть каплю возможности интерпретировать чувствительность Морин не как уязвимость, а как-то иначе?)
Беверли: Ну конечно!
Д.М.: Я подумал, не в этом ли причина. Вы можете рассказать больше о чувствительности Морин? Какой она была, прежде чем появилась Тревога?
Беверли: Боже… Первое, что приходит на ум, – то, как она всегда обо всех заботилась, особенно о сестре.
Д.М.: Можете ли вы рассказать побольше о том, как она заботилась об Энн?
Беверли: Энн младше, чем Мо, но ненамного. У них разница в возрасте всего 19 месяцев. Мы хотели, чтобы они были близки. Все эти истории о том, как старшие сестры ревнуют, когда рождается малыш, особенно так быстро, не про нас. Морин любила Энн с первого дня.
(Мы проверяем сюжетную линию, которая помогла бы нам представить Морин с другой стороны.)
Беверли продолжает рассказывать истории, иллюстрирующие нежные чувства, которые Морин испытывала к младшей сестре.
Беверли: Она в ней с первого дня души не чаяла. Когда я пела младшей дочке, Морин пела со мной, когда еще не знала слов. Она очень старалась. Мы вместе за ней ухаживали, правда?
Морин: Угу.
Д.М.: Может, Тревога взяла верх над чувствительностью Морин в последнее время? Может, до того как она появилась, вы думали о чувствительности Морин иначе? (Заглядывает в прошлое – возможно, там найдутся элементы предпочитаемого нарратива.)
Беверли: Да, тогда я думала, что это дар (кажется задумчивой).
Д.М.: Дар? Если этот дар предназначался не для Тревоги, тогда для чего он может быть предназначен? (Отделение Тревоги от чувствительности освободило место для новой истории.)
Беверли: Для любви! (Начинает плакать.)
Д.М.: Почему у вас на глазах появляются слезы, когда вы озвучиваете, что Морин одарена способностью любить? (Этот вопрос нужен для того, чтобы помочь Беверли сделать следующий шаг и продолжить создавать насыщенное повествование, а еще он нужен, чтобы Морин получила подтверждение ценности своего дара.)
Беверли: Да, именно так – способность любить. Она моя особенная девочка. (Беверли смотрит на дочь с любовью.)
Д.М.: Морин, у тебя есть способность любить? (Этот вопрос предназначен не только для того, чтобы воздать должное Морин, но и для того, чтобы дать ей возможность подумать, подходит ли ей это описание.)
Морин: Да. (Кажется, гордится этим, хотя отвечает скромно, как ответило бы большинство в такой ситуации.)
Д.М.: У тебя хорошо получается любить бабушку и сестру?
Морин: Да, хорошо!
Д.М.: А как ты это объясняешь? Что ты об этом думаешь? Как у тебя получилось так хорошо любить?
Морин: Это все из-за времени, в которое я родилась.
Д.М.: Что это значит? (Кажется, Д.М. удивлен.)
Морин: Я родилась незадолго до дня святого Валентина, так? (Смотрит на маму.)
Беверли (с улыбкой.): Так и есть. Десятого февраля. Она родилась в неделю святого Валентина.
Д.М.: Тебе с самого начала была дана любовь?
Морин: Я знала, как любить, еще до своего рождения.
(Теперь эта история начинается еще раньше. Д.М. размышляет, можно ли продлить эту сюжетную линию до Беверли и других любящих членов семьи так, чтобы эта история стала частью жизни семьи. Это еще предстоит выяснить.)
С помощью вопросов Д.М. и свидетельства Беверли теперь пролит свет на то, что раньше было в тени.
Почти так же, хотя и гораздо меньшим объемом слов, восьминогая защитница Уилбура ткачиха Шарлотта смогла положить начало истории о необыкновенном поросенке, пробуждая фантазию у всех, кто с ним встречался (White, 1980). Люди прибывали из далеких краев, чтобы поглядеть на знаменитого поросенка, и стояли, завороженные, глядя то на Уилбура, то на паутину, то снова на Уилбура. Слова Шарлотты уносили посетителей в другой, поразительный мир. Когда Уилбур сидел у всех на виду под паутиной Шарлотты, в которую она вплела хвалебные слова о нем, он тоже вдохновился нарождающейся историей и увидел новые возможности: увидел, каким поросенком он может стать. Гости, посещавшие ферму, и те, кто бывал там каждый день, были если и не очарованы, то по крайней мере склонны чувствовать «таинственное в обычном» (Faris, 2004, p. 46). Такова сила историй.
Стоит повторить, что мы очень заинтересованы в знакомстве с проблемами. Мы хорошо понимаем, что, если их игнорировать или предоставить самим себе, проблемы будут только счастливы скрываться и сеять хаос в жизни детей и их семей. Проблемам нужно уделять внимание, но оно не должно быть безраздельным. Это не означает отрицать их вклад или игнорировать их склонность устраивать беспорядок – об этом мы подробнее поговорим в главе 3.
ДеталиНарративы основываются на жизненном опыте, независимо от того, насколько точно он вспоминается. Наш рассказ о прошлом неизбежно полагается на память, а память всегда фрагментарна и субъективна (Bruner, 2004). Мы можем чувствовать непреодолимый соблазн, особенно когда пересказываем спорные события и говорим о своей роли в них, настаивать на том, что все однозначно (например: «Это не то, что я сказал, и я не так говорил!»), но наш слушатель с большой вероятностью будет нам возражать. Как бы ни было соблазнительно взять на себя роль объективного наблюдателя, ни у кого из нас нет этой сверхъестественной способности.
Нарративы не просто весьма субъективны, они еще и очень избирательны. Они не включают весь пережитый опыт. Это было бы громоздко и включало бы такие подробности, что рассказ об одном дне легко занял бы сотню страниц, как это продемонстрировано в рассказе о дне Леопольда Блума, антигероя в «Улиссе» Джеймса Джойса (Joyce, 1986). На самом деле бывает, что человек приходит к концу дня всего лишь с небольшим набором деталей, сохранившихся в том или ином виде «для отчета». Так функционируют нарративы, согласно которым мы живем, – неважно, служат ли они предпочитаемым или проблемным историям. В любом случае нарративы получаются прочными не благодаря их исчерпывающей детализации, а благодаря тщательному отбору деталей. Дэвид Карр объясняет, как избирательное формирование возникающего нарратива при ограничении широты тематики в конце концов придает ему ту концентрацию, которая нужна каждому рассказу, чтобы стать связным: «Всякий посторонний шум и помехи удаляются. Выбор производится из всех событий и действий, в которых может участвовать герой, и только небольшое их количество попадает в рассказ. В жизни же, напротив, все остается на своих местах вместе с помехами и шумом» (Carr, 1986, p. 123).
Нарративы возвращаются. Эффективнее всего они организуются согласно конкретной теме (например, непоправимый ущерб, некомпетентность, подлость, доброта, героизм, отвага, патология), собирая те моменты сюжета, которые подходят друг другу. Как только идея существования у Морин дара чувствительности снова попала в поле зрения (благодаря воспоминаниям о ее переживаниях и действиях, например о ее любви к бабушке или о том, как она всю жизнь заботилась об Энн), этот нарратив встал в один ряд с нарративом, привнесенным проблемой. Именно так мы сохраняем чувство собственного достоинства и ценности у ребенка, когда проблема перестает быть единственной темой, которая имеет право быть раскрытой.
Здесь стоит провести различие между теми ограничениями, которые «служат проблемам» (и уводят детей в замкнутое пространство – такие истории словно бы высечены из камня, а авторские права на них принадлежат проблемам), и теми ограничениями, которые создают рамки для насыщенного, хотя и концентрированного развития истории. Мы стараемся оживить те нарративы, которые оставляют место для признания особенных способностей ребенка. В истории, где основной сюжетной линией была способность любить, Морин имела возможность полнее ощутить жизнь даже в тех случаях, когда появлялась Тревога. Теперь она не ограничена рассказом о девочке с тревожным расстройством, а получает доступ к конкурирующему нарративу о девочке, чья чувствительность, хотя и приносит иногда страдания, крепка и достойна признания. Отсюда, с этой точки, открывается новый вид: да, к Морин по-прежнему приходит Тревога – в конце концов, жизнь сурова, – но Морин не теряет равновесия, она оказывается устойчивой.
ИнтригаНарративные терапевты разграничивают чисто нарративный интерес к развитию сюжета и освященную веками терапевтическую технику рефрейминга (Watzlawick, Weakland & Fish, 1974). Мы не одинокие рассказчики. Если бы это было так, мы бы сложили свою историю и единственной нашей трудностью было бы донести эту историю до семьи. Мы бы в одиночку конструировали нарратив, иллюстрирующий таланты терапевта. Тогда мы бы стали не просто необходимы, мы заняли бы центральное место.
Вместо этого мы стараемся сделать так, чтобы оказаться «не в центре, но при этом оставаться влиятельными» (White & Morgan, 2006). Наше влияние – хотя оно, несомненно, необходимо в творческом процессе – отводит ведущую роль детям в союзе с членами их семей. Мы пробуждаем воображение и расширяем пространство возможностей, но никогда не наполняем его, не определяем, пусть мы и умеем делать это тактично, в каком направлении ребенку лучше двигаться. В результате мы не знаем и не хотим знать заранее, что произойдет дальше. Представьте рассказ, в котором и герой, и сюжет знакомы с самого начала и события, хотя они еще не случились, легко предсказать, а их исход едва ли вызывает сомнения (вспомните, например, мультфильмы Диснея или приключенческие блокбастеры). В таком случае терапевт превратился бы в экстрасенса. Фактически терапевт рассказывал бы семье, ввергнутой проблемой в ужас, что ожидать стоит того-то и того-то, таким образом он снимал бы напряжение, лишал бы рассказ интриги, а креативный процесс – смысла.
Есть мнение, что в области непосредственной практики смысл важнее, чем интрига, но мы оставляем место для театрального действа, полагая, что в жизни-драме, непредсказуемой, с крутыми поворотами сюжета, больше силы, чем в жизни, представляющейся простой и хорошо знакомой. Если сюжет проявляется только по мере продвижения и есть ощущение, что события могут увести нас в любом направлении, рассказ оживает. Гари Саул Морсон объясняет, что «творческий процесс обычно не выглядит как прямой путь к цели, а представляет собой серию импровизаций, ложных зацепок, потерянных и обретенных шансов, перебор новых идей и ревизию старых» (Morson, 1994, p. 24). Невозможно было предвидеть, что Тревога присвоит чувствительность Морин и что способность любить вдохновит ее продолжать борьбу. Как мы скоро увидим, Морин определила условия, по которым будет жить и любить согласно собственному моральному кодексу.
Истории становятся лучше тогда, когда происходящие в них события важны и меняют ход сюжета таким образом, что его развитие невозможно предсказать, хотя все очень органично и вполне можно себе представить. Это не означает, что ограничений в истории не существует, они дают необходимые рамки, формируют повествование, делая его связным. А иначе мы можем обнаружить, что рассказываем не цельную историю, которая по мере развития сюжета становится особенной, неповторимой, а фрагменты историй, которые представляют собой не что иное, как разрозненные, не переплетенные друг с другом нити. Именно поэтому мы следуем сначала за одной нитью повествования, потом за другой, начинает вырисовываться какой-то узор, но мы все еще не знаем какой – рисунок узора остается на усмотрение ребенка. Мы не можем предугадать, какой вид все это примет в конце концов – вот в чем интрига.