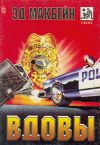Текст книги "Логово"

Автор книги: Дин Кунц
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Во вторник, ранним утром, едва наступил рассвет, сонливость Линдзи как рукой сняло. Все ее тело, каждый мускул и каждая жилочка ныли и болели, и то немногое время, что ей удалось поспать, ни в коей мере не повлияло на ее вконец истощенный организм. Но она упорно отказывалась принимать снотворное. Не желая откладывать дела в долгий ящик, она настояла, чтобы ее немедленно отвезли в палату к Хатчу. Дежурная сестра, предварительно посоветовавшись с Джоунасом Нейберном, который все еще находился в больнице, повезла ее в кресле-каталке по коридору в палату 518.
Нейберн, с опухшими от бессонницы красными глазами и весь взлохмаченный, тоже находился там. Простыни на ближайшей к двери кровати развернуты не были, но имели весьма помятый вид, словно доктор несколько раз в течение ночи ложился на них отдохнуть.
К этому времени Линдзи уже кое-что выяснила о Нейберне – меньшую часть от него самого, большую от нянечек и медсестер – и знала ходившие о нем легенды. До недавнего времени он был известен как крупный специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, но в течение последних двух лет, после потери жены и двух детей, погибших ужасной смертью, он большую часть времени отдавал реанимационной медицине в ущерб своей хирургической практике. Он был не просто предан своей работе. Он был одержим ею. В обществе, которое только стало приходить в себя после тридцатилетнего периода потворства личным амбициям и «я-первизма», легко было восхищаться таким бескорыстным человеком, каким был доктор Нейберн, и все вокруг действительно боготворили его.
Линдзи же просто была от него без ума. Ведь он спас жизнь Хатчу.
Несмотря на свой несколько помятый вид и воспаленные от бессонной ночи глаза, Нейберн быстро подошел к занавеси, отделявшей кровать Харрисона от остальной комнаты, и отдернул ее, затем, ухватившись за ручки кресла Линдзи, подкатил ее ближе к мужу.
Ночью прошел сильный ливень. Теперь же утреннее солнце, пробившись сквозь щели между ребристыми пластинками жалюзи, покрыло одеяло полосками золотистого света и тени.
Из-под псевдотигровой шкуры виднелись только одна рука и лицо Хатча. И хотя кожа на них имела тот же полосатый окрас огромной кошки, было заметно, что он еще очень бледен. Сидя в кресле и рассматривая лежащего за кроватной решеткой Хатча под необычным ракурсом, Линдзи, заметив у него на лбу окруженную расползшимся во все стороны уродливым синяком рану с наложенным на нее швом, почувствовала, что у нее начинает мутиться в голове.
Если бы не показания монитора и едва заметное движение вверх-вниз одеяла на его груди, она бы ни за что не подумала, что он жив.
Но он был жив, жив, и она ощутила, как в груди у нее стеснило дыхание и к горлу подкатил ком – верные признаки подступивших слез, такие верные, как молния, предвещавшая близкую грозу. То, что она может сейчас заплакать, ужасно ее удивило. Ее грудь взволнованно вздымалась.
Она не плакала ни тогда, когда их «Хонда» сорвалась с обрыва в пропасть, ни во время тяжелейших физических и эмоциональных испытаний, которые ей выпало пережить в эту кошмарную, только что прошедшую ночь. Она не гордилась своим стоицизмом, она просто была такой, какой была.
Нет, не совсем так.
Такой, какой она стала во время страшного поединка Джимми со своей ужасной болезнью. С того момента, как был поставлен диагноз и обнаружен рак, ему оставалось жить ровно девять месяцев, столько же, сколько она потратила, чтобы зачать и с любовью выносить его в своем чреве. И в конце каждого дня этого медленного угасания ей хотелось забраться с головой под одеяло и, свернувшись калачиком, дать волю слезам и плакать до тех пор, пока они из нее не вытекут до конца и она, пересохнув, не превратится в прах и не исчезнет с лица земли. Сначала она иногда плакала. Но ее слезы очень пугали Джимми, и она поняла, что любое выражение душившего ее горя было не чем иным, как выражением жалости к самой себе. Даже когда она плакала на стороне, он догадывался об этом; он всегда был чересчур восприимчивым и мнительным для своих лет, а болезнь только обострила эти свойства характера. Тогдашняя теория иммунологии придавала огромное значение положительным эмоциям, смеху и уверенности как успешному оружию, которое необходимо использовать в борьбе с тяжелыми недугами. И она научилась подавлять в себе ужас при мысли, что может потерять его. Теперь он всегда видел ее только смеющейся, любящей, уверенной в нем, в его мужестве, не сомневающейся в том, что он одолеет свою страшную болезнь.
Ко времени смерти Джимми Линдзи так великолепно научилась подавлять в себе желание плакать, что теперь вообще уже не могла этого делать. Лишенная возможности дать выход отчаянию в слезах, она замкнулась в себе, в своих переживаниях. Стала быстро худеть – сначала на десять, пятнадцать, а в конце и на все двадцать фунтов, – пока не превратилась в ходячий скелет. Перестала мыть голову и причесываться, следить за собой и своей одеждой. Убежденная, что она не оправдала ожиданий Джимми, пообещав ему свою помощь в борьбе с болезнью и не оказав ее, она считала, что не имеет права радоваться пище, следить за своей внешностью, получать удовольствие от книг, кинофильмов или музыки – вообще от чего бы то ни было. С течением времени Хатчу пришлось приложить немало усилий и терпения, чтобы доказать ей, что ее желание взять на себя всю вину жестокой, коварной и слепо разящей судьбы было такой же болезнью, как и болезнь Джимми.
И хотя она так и не сумела возвратить себе умение плакать, ей все же удалось выбраться наружу из того эмоционального провала, в который она забилась. И с тех пор она так и жила на краю пропасти, всегда рискуя сорваться вниз.
И вот теперь, после столь длительного срока воздержания, слезы удивили и обеспокоили ее. В глазах у нее защипало, и они вдруг стали горячими. Все вокруг потеряло свои очертания. Не веря случившемуся, дрожащей рукой она коснулась своей щеки и ощутила катящуюся по ней влагу.
Нейберн вынул из стопки на тумбочке салфетку и подал ей.
Эта маленькая услуга подействовала на нее так сильно, что она уже больше не могла сдерживать рыдания.
– Линдзи…
От всего, что произошло с ним, у него пересохло горло и голос был хрупким и едва слышимым; она скорее увидела движение губ, чем услышала его. Но она была абсолютно уверена, что это было сказано не в бреду, что он обращался именно к ней.
Салфеткой она быстро стерла слезы и наклонилась вперед в своем кресле-каталке, коснувшись лбом заградительной сетки на кровати. Глаза его были открыты и ясны, и он смотрел прямо на нее.
– Линдзи…
Он нашел в себе силы выпростать из-под одеяла правую руку и протянуть ей.
Она наклонилась еще больше вперед. Взяла его руку в свою.
Кожа его была сухой. Поверх ссадины на ладони была приклеена тонкая марлевая повязка. Он был еще слишком слаб, и пожатие его было едва ощутимым, но он был теплый – господи! – он был теплый и живой.
– Ты плачешь, – сказал Хатч.
И это было правдой, Линдзи действительно плакала, а вернее, ревела навзрыд и одновременно улыбалась сквозь потоки слез. То, что не смогло в течение этих ужасных пяти лет сделать горе – вызвать у нее слезы, – радость сделала в какую-то долю секунды. Она плакала от радости, и ей казалось, что так и должно быть и что это ее исцеляет. Она чувствовала, как с сердца один за другим слетают железные обручи, сжимавшие его, и все потому, что Хатч жив. Был мертвым, и вот, надо же, живой!
Но если не чудо может так взволновать сердце, то что же еще способно это сделать?
– Я тебя люблю, – прошептал Хатч.
Потоки слез превратились в водопады, – о господи! – в реки слез, и она услышала свой собственный голос, говоривший: «Я люблю тебя!», и почувствовала на своем плече руку Нейберна, и этот трогательный добрый жест показался ей чрезмерной милостью, и она заплакала еще пуще. Она плакала и смеялась одновременно и видела, что Хатч тоже улыбается.
– Все в порядке, – хрипло выдавил он из себя. – Самое… страшное… позади. Все… плохое… мы уже… пережили…
19В дневное время, скрываясь от лучей солнца, Вассаго ставил свой «Камаро» в подземный гараж, когда-то до отказа забитый электротележками, ручными тачками и грузовыми машинами, которые использовались бригадами по обслуживанию парка аттракционов. Теперь, угнанные кредиторами, все эти средства передвижения исчезли. «Камаро» одиноко стоял в центре огромного сырого помещения без единого окошка.
Из гаража по широкой лестнице – лифты уже давно не работали – Вассаго спустился еще ниже, на другой подземный уровень. Этот этаж располагался под всей территорией парка аттракционов и вмещал в себя, кроме специального помещения охраны с десятками видеомониторов, на которых как на ладони просматривался весь парк, любой его закоулок, еще и центр управления всеми механическими аттракционами, сверху донизу нашпигованный сложнейшей ультрасовременной электронной аппаратурой, а также помещения для столярных и электромеханических мастерских, столовую для обслуживания персонала, раздевалки с запирающимися шкафчиками для сотен костюмированных служащих, работавших повсеместно, лазарет для оказания срочной медицинской помощи и, помимо этого, различные кабинеты, где располагалась дирекция парка и другие помещения.
Не останавливаясь, Вассаго прошел мимо дверей, ведущих на этот уровень, и спустился еще ниже, на самый последний этаж подземного комплекса. Несмотря на обильно прогретые солнцем песчаные грунты Южной Калифорнии, на такой глубине от стен исходил влажный известковый запах.
Из-под ног Вассаго не шарахались и не разбегались с писком в разные стороны крысы, и это его удивило тогда, много месяцев тому назад, когда он впервые спустился в свое будущее подземное царство. Ни одной крысы не встретил он за все те несколько недель, что бродил по мрачным переходам и безмолвным комнатам огромного пустого пространства, хотя он бы не возражал против такого соседства. Крысы ему нравились. Пожиратели падали, эти рыскающие по пятам смерти уборщики сбегались на пир при первом запахе гниения. Видимо, они не наводнили подвалы парка потому, что по закрытии все, что можно было отсюда унести, было унесено, место осталось совершенно голым. И кроме покореженного бетона, изодранной в клочья пластмассы и ржавеющих металлических конструкций, покрытых тонким налетом пыли, да валявшихся на полу обрывков бумаги, там не было ничего, что могло бы заинтересовать крыс, опустевшее пространство было таким же стерильным для грызунов, как летающая вокруг Земли космическая станция.
В конце концов крыс наверняка привлечет его коллекция в Аду, и, после того как твари набьют там свои желудки, они останутся жить с ним по соседству. Вот тогда у него и будет подходящая компания, с которой ему станет не скучно коротать светлое время дня, когда он не может выходить по своим делам.
В конце четвертого, и последнего, лестничного марша, двумя этажами ниже подземного гаража, Вассаго вошел в дверной проем. Дверей в нем не было, как не было их нигде по всему комплексу: их утащили сборщики утиля и продали за несколько долларов каждую.
Прямо за порогом начинался большой, шириной в восемнадцать футов, тоннель. Пол был ровный, и точно по центру его бежала жирная желтая полоса, как на шоссе, которым по замыслу его создателей тоннель и был. Бетонированные стены, изгибаясь, плавно переходили в потолок.
Другая часть этого самого нижнего яруса была отдана под склады, где когда-то хранилось несметное количество припасов. Здесь было все необходимое, чтобы поставлять продукцию в разбросанные по всей территории парка закусочные-забегаловки: пластиковые стаканчики и запакованные в целлофан гамбургеры, коробки с жареной кукурузой и хрустящим картофелем, бумажные салфетки и маленькие пакетики из фольги с кетчупом и горчицей. Деловые бланки. Пакеты с минеральными удобрениями и банки со средством против насекомых, используемые бригадой по благоустройству территории парка. Все это – и многое другое, необходимое для обеспечения жизнедеятельности этого маленького города, – давно уже исчезло отсюда. Теперь складские помещения были пусты.
Целая сеть небольших тоннелей соединяла их с грузовыми лифтами, подававшими товары наверх, к аттракционам и в рестораны. С их помощью можно было доставлять пищевые продукты и в случае поломки какого-нибудь из аттракционов людей для его починки, не беспокоя при этом посетителей и не разрушая иллюзий, за которые они заплатили деньги. Через каждые сто футов на стене красовалась нарисованная краской цифра, обозначавшая тот или иной маршрут, а на пересечении тоннелей имелись даже специальные вывески, на которых маршруты указывались стрелками:
ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ
РЕСТОРАН «АЛЬПИЙСКИЙ ЗАМОК»
КОСМИЧЕСКОЕ КОЛЕСО
ГОРА БИГ ФУТ
У первого перекрестка Вассаго свернул направо, у следующего налево, потом еще раз направо. Несмотря на то что даже его глаза почти ничего не могли разглядеть в кромешной тьме этих переходов, он бы все равно нашел нужное ему направление, так как к настоящему времени знал их так же хорошо, как очертания своего собственного тела.
Наконец он подошел к висевшему рядом с лифтом указателю: «МЕХАНИЗМ ДОМА УЖАСОВ». Дверей у лифта не было, как не было в шахте и кабины, и подъемного механизма, вывезенных и проданных на металлолом. Шахта лифта уходила вниз на четыре фута от уровня поля тоннеля и поднималась вверх на пять этажей сплошной темноты до уровня, на котором располагались помещения охраны, центра управления аттракционами, дирекции и другие, затем еще выше до Дома ужасов, где находилась его коллекция, и еще выше – на второй и третий этаж этого аттракциона.
Вассаго переступил через порог и скользнул на дно шахты лифта. Примостился на матраце, который специально притащил из верхнего мира, чтобы в своем логове чувствовать себя более уютно.
Когда, запрокинув голову, он посмотрел вверх, то в темноте шахты смог разглядеть только ближайшие два-три этажа. Проржавевшие стальные ступеньки служебной лестницы убегали вверх и скрывались в сплошном мраке.
Поднявшись по лестнице до нижнего этажа Дома ужасов, можно было попасть в служебное помещение, расположенное прямо за стенами Ада, в котором находился механизм, приводивший в движение гондолы, и велись ремонтные работы в случае его поломки – до того, как он был навсегда вывезен отсюда.
Из помещения к безводному теперь озеру царства теней, из которого появлялся Люцифер, замаскированная раньше под скалу, вела дверь.
Он находился в самом глубоком месте своего убежища, на два этажа и четыре фута ниже Ада. Здесь, как нигде, он чувствовал себя как дома. Там, в мире живых, он ощущал себя тайным властелином мира, но мира, которому не принадлежал. И хотя действительно ничего на свете не боялся, его охватывала постоянная, едва заметная тревога, когда покидал мрачные, черные и глухие своды своего логова.
Вскоре он открыл крышку довольно массивного полиэтиленового холодильника с внутренней облицовкой из пенопласта, в котором хранил свои запасы содовой. Он всегда предпочитал этот шипучий напиток всем другим. Так как доставать лед удавалось не всегда, содовая оказалась теплой, но его это мало беспокоило.
В холодильнике было и что перекусить: плитки «Марс», стаканчики с арахисовым маслом, шоколадки «Кларк», пакет жареного картофеля, сухое печенье, пирожные «Орео». Когда он стал обитателем пограничной полосы, что-то стряслось с его обменом веществ; он мог есть что угодно и сколько угодно, но вес его тела оставался неизменным. Самое же удивительное было то, что всякой пище он предпочитал, хотя никак не мог себе это объяснить, только ту, которую любил, когда был ребенком.
Он откупорил банку тепловатой содовой и сделал большущий глоток.
Достал из пакета пирожное «Орео». Осторожно, стараясь не повредить, разделил вафельные шоколадные облатки. К облатке, оказавшейся в левой руке, пристал белый кружок сладкой начинки. Значит, когда вырастет, он будет богатым и знаменитым. Если бы начинка пристала к облатке в правой руке, это означало бы, что он может стать знаменитым, но необязательно богатым: к примеру, звездой рок-н-ролла, убийцей президента Соединенных Штатов или кем там еще, возможностей прославиться было хоть отбавляй. Если бы начинка равномерно пристала к обеим облаткам, это означало бы, что надо съесть еще одно пирожное или рискнуть остаться вообще без будущего.
Пока Вассаго медленно слизывал языком начинку, с наслаждением ощущая, как она постепенно тает у него во рту, он не отрываясь смотрел вверх, в пустоту шахты лифта, удивляясь, как это ему пришло в голову выбрать для своего убежища именно этот покинутый парк аттракционов, когда в мире существует масса других укромных местечек. Мальчиком, когда парк еще работал, он бывал здесь несколько раз, самый последний – восемь лет тому назад, тогда ему было двенадцать – примерно за год с небольшим до его закрытия. В тот, можно сказать, особый вечер своего детства он совершил тут свое первое убийство, открыв тем самым свой длинный послужной список смерти. И вот он снова здесь.
Он слизнул остатки начинки.
Съел первую шоколадную вафлю. Затем съел вторую.
Достал из пакета еще одно пирожное.
Глотнул тепловатой содовой.
Ему хотелось быть мертвым. По-настоящему мертвым. Это был единственный способ начать жизнь по Другую Сторону.
– Если бы да кабы, – вслух проговорил он, – во рту б росли грибы.
Съел второе пирожное, докончил содовую, растянулся на матраце и заснул.
Ему снились сны. Сны были о людях, которых он никогда не знал, о местах, где он никогда не бывал, и о событиях, свидетелем которых он не был. Вода, в которой плавают куски льда, со всех сторон окружает его, марево снега, поднятое в воздух сильным порывом ветра. Женщина в кресле-каталке смеется и плачет одновременно. Больничная койка, вся в полосах золотистого света и тени. Та же женщина в кресле-каталке, смеется и плачет. Та же женщина в кресле-каталке, смеется. Та же женщина в кресле-каталке. Та же женщина…
Часть 2
Снова живой
На нивах жизни зреет урожай
Порой в иное время года,
Когда нам кажется,
Что истомленная земля
Уж более не плодородит.
И нет нужды, едва забрезжит свет,
Спешить в холодные поля.
Когда мороз осеннее тепло сменяет,
Натруженным рукам
Не грех и отдохнуть.
Но под землей, укрытые снегами,
Грядущих лет не дремлют семена
И порождают в душах веру,
Что лучшие наступят времена.
На нивах жизни зреет урожай.
Книга Печалей
Четыре
1Хатчу казалось, что время повернулось вспять и он в четырнадцатом веке, стоит, словно безбожник, перед судом Инквизиции.
В кабинете адвоката было двое священников. Несмотря на свой средний рост, отец Жиминез выглядел весьма внушительно и оттого даже казался выше ростом, с черными смоляными волосами и даже еще более темными глазами, в черном костюме с белым стоячим воротничком. Он стоял спиной к окнам. Едва заметно раскачивающиеся от легкого ветерка пальмы и голубое небо над Ньюпорт-Бич, видневшиеся из-за его спины, не снимали напряжения, установившегося в отделанном красным деревом и заполненном старинными вещами кабинете, и абрис Жиминеза на фоне окон выглядел зловеще. Отец Дюран, лет на двадцать пять моложе отца Жиминеза, был худ, аскетического вида, с бледным лицом. Молодой священник явно испытывал восторг от коллекции ваз, курильниц и чаш Сатсумы периода Мейдзи, помещенных в большой стеклянный шкаф в дальнем углу кабинета, но у Хатча было такое чувство, что Дюран только притворялся, что полностью поглощен японскими фарфоровыми изделиями, а на самом деле исподтишка наблюдал за ним и Линдзи, плечом к плечу сидевшими на софе времен Людовика XVI.
Присутствовали в кабинете и монахини, и Хатчу они казались еще более опасными, чем священники. Монашеский орден, представляемый ими, отдавал предпочтение просторным старомодным одеждам, которые в наше время редко кто носит. На головах у них были белые крахмальные апостольники, и обрамленные белой тканью лица выглядели особенно суровыми и зловещими. Сестра Иммакулата, директриса детского приюта Св. Фомы, напоминала хищную черную птицу, примостившуюся в кресле справа от софы, и Хатч не удивился бы, если бы она вдруг, издав хриплый гортанный крик и взмахнув широкими складками своей мантии, взлетела под потолок и, сделав несколько кругов по комнате, спикировала оттуда прямо на него, чтобы выклевать ему глаза. Ее заместительница, чуть моложе своей начальницы, явно нервничая, без устали вышагивала взад и вперед по кабинету, и взгляд ее был подобен лазерному лучу, способному пробить стальной лист. Хатч, напрочь забывший ее имя, называл ее про себя Монахиня Без Имени по аналогии с Клинтом Иствудом, сыгравшим Человека Без Имени в одном из старинных ковбойских фильмов.
Он был явно несправедлив, даже более чем несправедлив к ним, оттого, видимо, что ужасно нервничал. Ведь все, кто присутствовал сейчас в кабинете адвоката, собрались здесь, чтобы помочь ему и Линдзи. Отец Жиминез, ректор церкви Св. Фомы, бравшей на себя львиную долю финансирования сиротского приюта, возглавляемого сестрой Иммакулатой, был не более зловещ, чем, скажем, священник в фильме «Нам по дороге», и скорее напоминал актера Бинга Кросби, правда в латиноамериканском исполнении, а отец Дюран был в действительности добрым и скромным человеком. Сестра Иммакулата в такой же степени напоминала хищную птицу, как танцовщицу в стриптизе, а неподдельная искренность, сквозившая в улыбке, почти не сходившей с лица Монахини Без Имени, более чем компенсировала любые отрицательные чувства, которые можно было бы приписать ее пристальному взгляду. Священники и монахини пытались хоть как-то поддерживать легкий непринужденный разговор; Хатч же и Линдзи нервничали так, что ни о какой светской беседе и речи быть не могло.
Слишком многое было поставлено на карту. И это полностью выбивало почву из-под ног Хатча, заставляло его сильно волноваться, что было ему несвойственно, ибо более благодушного, чем он, человека трудно было сыскать на свете. Он хотел, чтобы эта встреча прошла успешно, так как от нее зависели их с Линдзи счастье, их будущее, наконец, их попытка открыть новую страницу в своей жизни.
Конечно, это было не совсем так. И он явно преувеличивал, чересчур драматизируя ситуацию.
Но ничего не мог с собой поделать.
С тех пор как более чем полтора месяца тому назад он был воскрешен из мертвых, они с Линдзи прошли сквозь горнило сильнейших эмоциональных потрясений. Гасившая всех и вся в их жизни волна отчаяния, нахлынувшая на них после смерти Джимми, внезапно откатилась прочь. Они поняли, что живы и что снова вместе только благодаря медицинскому чуду. Не быть в полной мере благодарным за эту отсрочку и не пытаться до предела использовать подаренное им время было бы несправедливо ни по отношению к богу, ни по отношению к врачам, непосредственно спасшим им жизни. Более того, это было бы просто глупо. Кто мог осудить их за то, что они не желали забыть Джимми и так долго оплакивали его, но в какой-то момент они позволили охватившему их горю выродиться в жалость к самим себе, и это привело их к хронической депрессии, что уже было явным перехлестом.
Понадобилась смерть Хатча, его воскрешение из мертвых, близость к смерти самой Линдзи, чтобы вывести их из состояния вечной подавленности, и это, по его мнению, свидетельствовало о том, что они оказались более упрямыми, чем он раньше предполагал, и меньше всего стремились к тому, чтобы изменить свой стиль жизни. И поэтому нужна была именно такая встряска, чтобы заставить их выбраться из своей скорлупы и заново начать строить совместную жизнь.
А начать строить жизнь сызнова означало для них обоих иметь в доме ребенка. Это желание не было сентиментальной попыткой возродить прошлые чувства, не было оно и невротической потребностью, заменив Джимми другим ребенком, забыть наконец о его кончине. Просто им нравилось возиться с детьми; они обожали детей; и отдавать себя полностью ребенку казалось им верхом блаженства.
Но ребенка они могли получить только через усыновление. В этом-то и была вся загвоздка. Беременность Линдзи протекала тяжело, роды были долгими и болезненными. Рождение Джимми едва не стоило ей жизни, и, когда он наконец появился на свет, врачи предупредили ее, что больше она не сможет рожать.
Монахиня Без Имени перестала ходить взад и вперед по кабинету, отвернула широченный рукав своей мантии и посмотрела на часы.
– Может быть, пойти и выяснить, почему она задерживается?
– Не надо торопить ребенка, – мягко сказала сестра Иммакулата, пухлой белой ручкой расправляя на коленях складки мантии. – Если вы будете ее торопить, она подумает, что вы сомневаетесь в ее способности самой обслужить себя. Нет ничего такого, с чем она не могла бы сама справиться в туалете. Да и не в этом, видимо, дело. Просто ей требуется какое-то время побыть одной, чтобы хоть немного успокоиться.
– Простите за задержку, – проговорил отец Жиминез, обращаясь к Линдзи и Хатчу.
– Все в порядке, – сказал Хатч, нервно ерзая на софе. – Ее можно понять. Мы и сами как на иголках.
С самого начала выяснилось, что огромное число – целая армия – супружеских пар ждали своей очереди, чтобы усыновить ребенка. Некоторым приходилось дожидаться своего часа в течение двух лет. Проведя пять лет без ребенка, Хатч и Линдзи не желали становиться ни в какую очередь.
У них было только две возможности, первая из которых заключалась в усыновлении ребенка другой расы: черного, желтого или латиноамериканца. Большинство пар, желающих усыновить ребенка, были белыми и хотели бы стать приемными родителями именно белого ребенка, который мог бы сойти за их собственного, в то время как бесчисленному множеству сирот из различных национальных меньшинств приходилось довольствоваться только приютами и несбыточными мечтами когда-нибудь обрести свою собственную семью. Цвет кожи ничего не значил для Хатча и Линдзи. Они были бы счастливы заполучить любого ребенка, независимо от его расовой принадлежности. Но в последнее время извращенно интерпретируемые «доброжелателями» социальные права привели к принятию целого ряда новых законов и постановлений, направленных на то, чтобы под любым предлогом наложить запрет на возможность усыновления ребенка другой расы, а разветвленная система государственной бюрократии приняла это к исполнению и проводила в жизнь с неукоснительной умопомрачительной точностью. Предполагалось, что ребенок не может быть полностью счастлив, если будет воспитываться вне своей этнической среды, что было, мягко говоря, элитарной чепухой – а по существу, расизмом наоборот, – придуманной социологами и псевдоучеными, которые даже не удосужились спросить, что думают по этому поводу одинокие, покинутые и никому не нужные дети, чьи права они вознамерились защищать.
Второй возможностью было усыновление ребенка-инвалида. Среди сирот детей-инвалидов было гораздо меньше, чем сирот из нацменьшинств, – даже так называемых технических сирот, родители которых живы, но отказались от ребенка, потому что он резко отличался от своих сверстников. Но, с другой стороны, несмотря на то, что их было гораздо меньше, спрос на них был значительно ниже, чем на детей из нацменьшинств. К тому же у них было то неоспоримое преимущество, что обычно они редко попадают в сферу интересов инициативных групп, стремящихся навязать политически безупречные, с их точки зрения, способы их социального обеспечения и ухода за ними. Рано или поздно какая-нибудь массовая организация олухов царя небесного сумеет-таки добиться принятия таких законов, по которым зеленоглазых, светловолосых или глухих детей смогут усыновлять только соответственно зеленоглазые, светловолосые или глухие родители. Хатчу и Линдзи повезло в том смысле, что они успели подать заявление об усыновлении ребенка-инвалида до того, как эти непредсказуемые силы хаоса замыслят свое черное дело.
Вспоминая порой о тех бюрократических препонах, с которыми им пришлось столкнуться полтора месяца назад, когда они впервые приняли решение усыновить ребенка, Хатч зеленел от злости, и у него рождалось дикое желание нагрянуть в эти конторы и передушить там половину чиновников, чтобы те, кто останется в живых, хорошенько подумали, прежде чем морочить людям голову. Прознав о таких его мыслях, добропорядочные монахини и монахи ордена Св. Фомы долго будут думать, прежде чем передоверят ему одну из сироток из своего приюта!
– У вас все в порядке со здоровьем, никаких побочных эффектов после всего, что вам пришлось пережить, не наблюдается, у вас хороший аппетит, сон? – спросил отец Жиминез, желая, видимо, хоть как-то заполнить затянувшуюся паузу в связи с непредвиденной задержкой той, ради которой они все здесь собрались, не имея при этом в виду выразить сомнение по поводу притязаний Хатча на полное исцеление и отличное здоровье.
Линдзи – по характеру более импульсивная и склонная к преувеличениям, чем Хатч, – вся подалась вперед и с ноткой раздражения в голосе заявила:
– По статистическим показателям выздоровления реанимированных после смерти людей Хатчу нет равных. Доктор Нейберн от него в восторге и даже выдал ему справку о том, что он полностью здоров. Все это изложено в нашем заявлении, и имеются соответствующие документы.
Пытаясь как-то смягчить реакцию Линдзи, чтобы священники и монахини, не дай бог, не истолковали неверно смысл ее слов, Хатч сказал:
– Я и правда чувствую себя отлично. Я бы вообще ввел кратковременную смерть как обязательную лечебную процедуру. Очень расслабляет, и совершенно по-иному начинаешь смотреть на вещи.
Все вежливо рассмеялись.
По правде говоря, Хатч действительно был полностью здоров. Первые четыре дня после воскрешения он был очень слаб, ко всему безучастен, страдал от диких головных болей и провалов памяти. Но спустя некоторое время ему удалось восстановить свои физические и интеллектуальные способности на все сто процентов. И вот уже почти полтора месяца, как он ведет прежний нормальный образ жизни.
Случайно оброненная отцом Жиминезом фраза о качестве его сна смутила Хатча, и, видимо, именно это заставило Линдзи столь решительно выступить в его защиту. Своим ответом на вопрос священника он подразумевал, что спит хорошо, хотя на самом деле это было не совсем так, но, поскольку его странные сны и их эмоциональное воздействие на его психику были явлениями скорее любопытными, чем опасными, он полагал, что не совсем погрешил против истины.
Они так близко подошли к заветной черте, от которой начнут отсчет своей новой жизни, что он ужасно боялся нечаянным необдуманным словом свести на нет все их усилия. Несмотря на то что католические службы, ответственные за передачу детей в руки их будущих опекунов, очень серьезно подходили к решению этой задачи, они не стремились воздвигать бессмысленные препоны и выискивать различные поводы, чтобы попытаться оттянуть окончательное решение, чем грешили аналогичные светские службы, особенно когда речь шла об опекунах, подобных Хатчу и Линдзи, весьма уважаемых членах общины, и об усыновлении ребенка-инвалида, чье будущее не мыслилось вне рамок специальных учреждений для такого рода детей. Новая жизнь может начаться для них уже на этой неделе, если их ответы не заронят в душах священнослужителей церкви Св. Фомы, которые пока были на их стороне, сомнения, могущие заставить их переменить свое первоначальное решение.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?