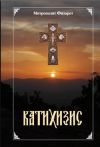Текст книги "Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 1. Риторика христологии"

Автор книги: Дирк Уффельманн
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Страдание само по себе становится заразным через сострадание.
[Ницше 1988, 6:173]
Выдающееся значение имитации, напрямую адресованной личности и усиленной групповыми механизмами, затмевается дарвиновской теорией имитации в том виде, в каком ее подает Сьюзен Блэкмор в книге «Машина мемов» (The Мете Machine) [Blackmore 1999], присоединяясь к Ричарду Докинзу с его трудом «Эгоистичный ген» (The Selfish Gene) [Докинз 2013]. Блэкмор распространяет имитацию «в широком смысле слова» [Blackmore 1999:6 и сл.] также и на многое другое, на образцы повествования, на теоремы и т. п. В качестве отмежевания от Блэкмор и Докинза предлагается различать, идет ли речь о групповом габитусе, о модели, которую представляет прежде всего только одна персона, или же об информации из вторичных культурных источников.
Если в дальнейшем говорится об имитации, если утверждается особое мнемотехническое освоение модели (см. 5), то в противовес дарвиновскому балласту симплицистической теории Докинза не имеется в виду активная роль [Blackmore 1999: 7 и сл.] «мемов»[94]94
Неологизм «мем», по словам Докинза, создан по аналогии с односложным «ген», хотя, собственно говоря, корректнее было бы сказать «мимема» [Докинз 2013: 174]. Халл [Hull 1988: 42] напоминает о том, что еще в 1904 году Семон предложил понятие «мнем».
[Закрыть]. Как прежде, так и сейчас, пожалуй, именно христианство в качестве социальной системы [Koschorke 2001: 127], как диспозитив, если пользоваться термином Фуко, продвигает свои концепции. Из культурологической перспективы этой работы, ориентированной на детали, нас не интересует также (в отличие от антропологико-эволюционистского удара против всех в версии Докинза и Блэкмор) мнимая преемственность «мема» кенозис (как будто он сохраняет свою субстанцию[95]95
О разграничении историко-философского и историко-богословского суб-станциализма см. 11.2.
[Закрыть] и якобы воспроизводится идентичным образом в различных актантах[96]96
Заимствование понятия из: [Greimas 1967: 224].
[Закрыть] и противостоит другим «мемам»). Речь идет, скорее, о разнообразных трансформациях, которые эта концепция испытывает в истории русской культуры[97]97
Прорисовка линий этих трансформаций внутри религиозной традиции и за ее пределами понимается – также в отличие от меметической эволюционной теории Докинза (за что его многократно упрекали; см. [Grayling 2006]) – не как нападение науки на религию, а как вклад в культурологическую историю религии.
[Закрыть]. Устойчивое восприятие концепции кенозиса как находящегося в состоянии перемен отнюдь не интерпретируется как успешный результат эволюционного приспособления внутри «мемплекса христианство» [Blackmore 1999: 192][98]98
Напр., посредством отсылки к так называемому «альтруистическому трюку» [Blackmore 1999: 189].
[Закрыть], когда вытесняются другие «мемы», а как специфическая традиционная линия внутри одной культуры. Следовательно, фигура самоуничижения, в том виде, в каком она закрепляется в советской культуре, не должна рассматриваться в качестве того же самого исторического субъекта, как это было бы согласно павлианскому мотиву, и должны подробно изучаться существующие между ними различия и несходства.
Идентификация отдельных схожих феноменов как реализации одного «мема» происходит всегда только в исторической исследовательской перспективе, т. е. ex post. Только ретроспектива посредством установления сходства в несхожем синтезирует новые для каждого контекста конструкции воспоминаний [Rusch 1987], превращая их в традиционную линию (здесь: фигур уничижения). Следом за Яном Ассманом можно описать этот процесс как деятельность истории памяти по осознанному отбору, всякий раз оперирующей уже в режиме ex post: «Она концентрируется на тех аспектах значения или релевантности, которые являются продуктами воспоминаний в плане связи с прошлым и которые проступают только в свете позднейших обращений к ним и чтения» [Assmann J. 2001: 27]. В этой работе, подобно тому, как это происходит в концепции изобретенной традиции (invented tradition) Эрика Хобсбаума особое внимание уделяется преемственностям в повседневном использовании (Хобсбаум: «обычай» (custom) [Hobsbawm 1983:2]) кенотических мотивов и нововведениям определенных импликаций традиционности" с идеологическими целями[99]99
В отличие от Хобсбаума, здесь при использовании понятия «традиционности» речь идет в меньшей степени о конструировании ритуалов или формул [Hobsbawm 1983: 4] и в большей – об идеологемах, о притязаниях на традиционность, при помощи которых осуществляются идеологические требования.
[Закрыть][100]100
Такие случаи укрепления неизменной кенотической традиции, которые встречаются в России, особенно в XIX веке, в эмиграции, а затем вновь в конце XX века, служат эссенциализации некоей мнимо неизменной христианской или только православной традиции («с заглавной буквы Т» [Post Р. 2001: 57]), национальному или культурософскому отграничению от других (как, например, от противников кенотических практик, или теологий, или христианства в целом).
[Закрыть]. Таким образом, речь идет о контаминации внешней традиционности и применяющейся в случае необходимости новой направленности в интерпретации.
Исходя именно из этих соображений здесь при рассмотрении содержания реконструируемых культурных линий преемственности, вслед за Яном Ассманом [Assmann J. 2001: 29], отдается предпочтение конвенциональному разговору о «фигуре»[101]101
Имеется в виду «фигура» в мнемоническом и риторическом смысле, а также – как мотив. Дополнительный аргумент в пользу концентрации на концепциях литературных персонажей (ср. 1.8.2) – это факт, что по причине слабой подготовки по части систематического богословия (см. 4.1.4) и запоздалости философии и биологических наук в истории русской культуры именно литература представляет собой привилегированный дискурс для развития антропологических концепций.
[Закрыть]. Так что в последующем изложении – вне эволюционистских тотальных гипотез – речь идет лишь об интенциях меморизации, а также о мнемоническом и мнемотехническом освоении определенных практик или методов[102]102
Как это предусматривает, например, расхожий способ прочтения (Флп 2:5) (см. 2.2.3.1) или защита молитвы Иисуса (4.5.8.3).
[Закрыть] и об их культурно-специфических проявлениях[103]103
Людвиг Штайндорфф [Steindorff 1994:11] досадует, что заявленная тем самым «тематическая сфера “Мемориа”» у исследователей Восточной Европы в целом не вызывает достаточного интереса.
[Закрыть].
Однако одну черту родства с дарвинистской меметикой, лежащую менее в области антропологических предположений, и более – в методе, демонстрируемый здесь опыт исследования имеет несомненно: в перспективе последующее изложение, опираясь на древнейшие выявляемые проявления (здесь (Флп 2:5-11)), ориентируется на образец, который воспроизводится в определенных линиях традиций. Исследование переносит традиционное христианское требование к подражанию Христу (imitatio Christi) на культурно-теоретическую, точнее на культурно-меморио-теоретическую модель. Ибо при подражании Христу речь идет не просто об «идее», которую необходимо накопить или заново сконструировать, а о некоем мнемоническом императиве, о «меме в квадрате». Мнемонически самый успешный текст европейских культур – Библия [Рурег 1998][104]104
Тот факт, что в данной работе не поддерживается озвученное Пайпером возвышение Библии до действующего субъекта, становится понятен на основе возражений против Докинза и Блэкмор, приведенных ранее.
[Закрыть] – передает наставление о самоуничижении дальше. Флп 2:5-11 получает роль – разумеется, в метафорическом смысле – «генотекста»[105]105
«Генотекст» Кристевой [Kristeva 1970: 72], см. об этом также 9.6.2.
[Закрыть], дискурсивные и культурные «отростки» которого прослеживаются в работе. Метафора об отношениях «родители – дети» в плане культуры, как это предложили Бойд/Ричерсон в своей работе «Культура и процесс эволюции» (Culture and Evolutionary Process) [Boyd/Richerson 1985:63], образует, таким образом, эвристический скелет данной работы.
Этот путь не в последнюю очередь вдохновлен метафизической самопроекцией христианства. Предполагаемое христианской догматикой движение сверху вниз, от божественного Логоса через его инкарнацию – к явлениям мирского порядка, получает еще и культурно-историческую реконструкцию в качестве приданого; она должна описать генеративные, платонические представления[106]106
В этом смысле Касседи прав, говоря, что изображение через кенозис обладает «встроенным идеализмом» [Cassedy 1990: 103]; при этом, впрочем, он чересчур идентифицирует христологию и платонизм; не все, что по-русски называется воплощением, автоматически является христологическим (как это утверждает Касседи [Cassedy 1990: 108]).
[Закрыть] об исконном, метафизическом начале (учение о Логосе; см. 2.2.5) и постепенный спуск в низины реализуемого в истории культуры, если она не хочет полного перекоса по отношению к своему предмету. Самое большее, она может попытаться все вновь и вновь указывать на предполагаемый и конструированный характер данного движения сверху вниз.
Транспортируемая различными средствами информирования и лелеемая институциями, следящими за текстами и смыслом[107]107
Понятия теории канонизации, введенные Алейдой Ассман и Яном Ассманом [Assmann/Assmann 1987].
[Закрыть](ересиологическим дискурсом, школьным богословием, катехизисами и т. д.[108]108
См. 2.7.2, 2.7Λ-2.7.6 и 4.4.3.
[Закрыть]), фигура самоуничижения помогает своему привилегированному актору, Иисусу Христу, подняться в ранг «образцового субъекта» (см. 1.2.7). Достаточно одного только количественного доминирования образа Иисуса Христа в европейской культурной истории для объяснения его привилегированной пригодности для все новых имитаций, трансформаций, интерпретаций и также художественных воплощений[109]109
Так, можно прочитать утверждение Клюге в его рецензии книги Казака: «Центральная фигура христианской веры стоит… также в центре русской литературы» [Kluge 2002: 242].
[Закрыть].
1.6. Богословие, риторика и теория литературы
1.6.1. Риторическое приложение к богословиюНе только художественные тексты делают старейший литературоведческий инструмент, риторику, которая связана с христианством на протяжении длительного пути, желанным подспорьем. Богословие как слово о Боге, богословие, так или иначе нуждается в языковом восполнении (или, в смысле грамматологии Деррида [Derrida 1967], в щекотливом дополнении). Таким образом, богословие годится именно для неориторически-деконструктивных видов чтения:
Деконструктивное чтение… должно заниматься вопросом, как представления о Боге и о взаимоотношениях Бога и человека оформляются с помощью языка, а не предполагают и не отрицают реальность Бога [Dahlerup 1998: 82].
Языковое восполнение или дополнение ни в коем случае не должно тогда, как это делает, например, Алекс Шток в своей «Поэтической догматике» (Poetische Dogmatik), стыдливо изыматься под тем предлогом, что все это лежит «вне и ниже основного поля деятельности для догматики» [Stock 1995–2001, 1: 11]. Нет, без риторичности – в широком смысле слова начиная с образной организации любого, даже самого безыскусного человеческого знакового высказывания – не существует речей о божественном[110]110
В этой работе излагается богословская аргументация, чтобы выявить ее предпосылки. Изображение ходов богословской мысли или импликатов при этом не имеет само по себе никакого исповедального или полемического характера. Религиоведческий и литературоведческий фокус, направленный на религию как знаковую систему, ограничивается освещением функционирования человеческого говорения о божественном.
[Закрыть].
Если всякое говорение о божественном в этом смысле неизбежно риторично[111]111
О выстраивании воздействия, превосходящего риторичность человеческого слова, такого как «дух» или «харизма», см. 3.2.1 и 3.5.4.3.
[Закрыть], то может не быть никакого inventio (лат. «изобретение»), которое уже не подверглось бы воздействию тропов от elocutio (лат. «образ выражения словами»); в качестве конституентов богословского говорения риторические тропы можно располагать на обоих уровнях, т. е. описывать их как inventio путем elocutio (ср. 2.9.1 и 3.1.5). На основании inventio-elocutio масштабы тетопа выявляются эвристически, хотя мнемоническая пригодность определенных (парадоксальных) христологических оборотов речи не обходится без специфического когнитивного диссонанса по части inventio-elocutio. В то время как связка inventio-elocutio и тетогга пронизывают все исследование, моменты dispositio (лат. «расположение») важны прежде всего в литургии (см. 4.3) и в литературном повествовании (см. 4.3.9, 5.2 и 6-10), a pronuntiatio (лат. «декламация») временами имеет значение для проповедников (см. 4.3.4).
Богословие и риторику со времен Павла и Августина зачастую рассматривают в проблематичном отношении [Meyer/Uffelmann 2007]. Если христианская ересиология часто прибегает к критике риторики (см. 2.3.2), то Ницше, наоборот, использует риторику как критику метафизики [Man 1979: 109].
Противопоставляющее разделение богословия и риторики исключено, ведь богословие тоже нуждается в средстве передачи своего сообщения. Так, религиозная антириторика сама по себе является риторикой (ср. 2.10), и указание на принципиальную неуместность человеческой речи создает свою негативную риторику (см. 3.5.6 и 3.6). Негативная (или кенотическая) риторика может посредством апофатической ссылки на отсутствующее присутствие внести свой вклад в построение некоей метафизики.
Дезиллюзионирование кажущегося в таком случае претендует на то, чтобы указать на истину [Man 1979: 113]. И здесь религиозный эффект достигнут также риторическим способом (поскольку антириторичен), и риторический язык описания может быть здесь использован, чтобы концептуализировать элементы, которые являются конститутивными для этой богословской речи.
Словно в духе «Метаистории» (Metahistory) Уайта [White 1973], где тропы являются определяющими в историографии [White 1978], в эвристическом риторическом «Метабогословии» делается попытка показать, как виды речи о божественном выполнены в риторическом плане и выстроены с помощью тропов (причем вопрос о предположительном существовании независимой от языка божественной субстанции может быть поставлен в скобки).
К тому же кенотическая христология представляет собой то поле богословия, которому в особенной степени[112]112
Еще до мариологии и затем в союзе с ней [Meyer 20016]; ср. 3.6.4.
[Закрыть] вручена ответственность за явление божественного на всеобщее обозрение, самопрезентация божественного в его другом облике, в несхожем с ним, в человеческом, который выступает как знак божественного (см. 2.1.6). Для описания этого семиотического аспекта концепции инкарнации риторика является возможным средством метабогословия.
Помимо этого, христологические ереси становятся лучше понятны, если видишь их риторические стратегии; еретическое оказывается тогда решением в пользу «ложной» (отклоняющейся от официального консенсуса) риторической стратегии (см. 2.11.1). Риторика в этом случае может стать «метаересиологией».
1.6.3. Богословие как метариторикаПоскольку среди богословских предпосылок числится воздействие божественного на земное знаковое, богословие со своей стороны всегда является также мерилом риторического описания этих знаковых репрезентаций божественного. Следовательно, богословие может в эвристическом ракурсе служить «метариторикой». Богословская ересиология и критика риторики исторически переплетаются в понятии тропа[113]113
Понимается как изменение в природе Христа, а также – как риторическое средство (см. 2.3).
[Закрыть]. Так, в христологии рассматриваются не только отдельные риторические фигуры, такие как парадокс[114]114
См. 2. Также Хеннинг Шроер, один из наиболее чувствительных к риторике богословов, считает, что именно парадокс очень подходит для того, чтобы выстроить интердисциплинарный мост между богословием и литературоведением [Schroer 1992: 68].
[Закрыть], а все знаковое оформление в целом (см. 3).
Риторика и богословие в ходе всей истории христианства связаны неразрывно; богословие, если снять вопрос о его риторике, может развиваться только с существенными пробелами, и со своей стороны богословие держит наготове инструмент для описания человеческого говорения, во всяком случае там, где оно заявляет о себе как о религиозном. То обстоятельство, что хиазм риторики как эвристического «метабогословия» и богословия как эвристической «метариторики» методологически плодотворен, – это свидетельство впоследствии будет получено.
1.6.4. Христология как один из истоков проблемы репрезентацииПри этом дело обстоит совсем не так, что репрезентация божественного с помощью знаков в Античности и Средневековье была еще беспроблемной, и только в Новое время, начиная с барокко, в русле чисто символического понятия знака стала проблематичной – и это в большей или меньшей степени с линейным нарастанием[115]115
Как утверждает Джозеф Хиллис Миллер [Hillis Miller 1963: 4, 6 и сл.].
[Закрыть]. Скорее «материализация» Бога в фигуре раба испокон веку считалась сомнительной формой изображения; по ней и по ее бесспорности можно проследить кризис репрезентации вплоть до самых древних времен – по меньшей мере до раннего христианства (см. 3.1.6).
Если тезис Федотова о русской кенотической традиции [Федотов 1996–2013,10: 95-125] составляет основной вдохновляющий стимул этой работы в аспекте истории культуры (см. 1.1.4–1.1.6), то все же он ничего не сможет добавить в необходимую, на мой взгляд, поправку, состоящую в том, что в самом кенозисе Христа заложена динамика, которая дает старт сигнификационным процессам и при этом благоприятствует образным формам выражения, которые не поддаются линейному описанию через сходство, а могут быть описаны через «несходное» и через трансформацию.
Есть свидетели такого семиогенного рассмотрения кенозиса, и вряд ли они могли бы быть разнообразнее (и определенно, никогда еще не назывались на одном дыхании): пока христологические парадоксы с учением о communicatio idomatum (лат. «общение свойств») развивают свою парадоксальную образность, можно вместо этого предложить центральную для всего православия работу «Точное изложение православной веры» («Εκδοσις ακριβής τής ορθοδόξου πίστεως») или, соотв., «О православной вере» (Defide orthodoxa)[116]116
До 749 года; подробно об этом см. 2.8.5.1.
[Закрыть] Иоанна Дамаскина и его происходящую от (Флп 2:6 и сл.) защиту образов (см. 3.4.4.2 и 3.4.4.3). Затем Леонид Успенский на фоне богословия иконы – скорее случайно – приходит к созданию понятия «кенотическое неподобие» [Лосский/Успенский 2014:117] (ср. 3.6.2). Что касается современной теории сигнификации через несхожесть, то необходимо в качестве родственного по духу сочинения назвать работу Жоржа Диди-Юбермана «Фра Ангелико. Несходство и фигурация» (Fra Angelico. Dissemblance et figuration [Didi-Huberman 1990]) – лишь в малой степени христологическая, скорее вдохновленная неоплатониками и мариологией (ср. прежде всего 3.6.4). Подход Диди-Юбермана будет представлен здесь в расширенном виде и распространен на сферу художественной литературы и секулярных трансформаций.
1.7. Построение работы
Предлагаемая вашему вниманию работа распадается на три отчетливо разделенные – по методологии и познавательным целям – части: вдохновленное неориторикой прочтение тропов дискурса[117]117
В противоположность анализу дискурса у Фуко в данной риторике дискурса речь идет в меньшей степени о прагматических рамках дискурса [Foucault 1971] и в большей – о риторической микроструктуре; неориторическое прочтение христологического дискурса составляет тем самым дополнение прагмадискурсивного аналитического метода прочтения.
[Закрыть] кенотической христологии (I), культурологически ориентированное поэтапное описание судьбы, выпавшей на долю образца самоуничижения Христа в русской истории (II) и детальное прочтение «светской», далекой от христианства литературы в контексте христологических структур (III). В то время как в части I, «Риторика христологии», речь идет о системных вопросах (Какую роль играют риторические тропы для построения, стабилизации и оформления догмата?), в части II, «Русские репрезентации и практики», нас интересуют диахронические изменения, которые христологическая модель испытывает в России, прежде чем в части III, «Литературные трансформации», не будут выработаны литературные, «секулярно-христологические» транспозиции.
Использование пусть испытывающего исторические перемены, но все же во всей своей системности устойчивого вокабуляра риторики для понимания европейской христологии, в том смысле не является прокрустовым ложем для описания его исторического развития, что послехалкидонская христология – это консервативный, в высшей степени рекуррентный дискурс[118]118
Примером может послужить попытка Владимира Лосского еще в середине XX века определить христологию Православной Церкви только исходя из отвержения ересей времен древней Церкви [Lossky 1989: 95-118] и счесть кенозис при Кирилле Александрийском уже исчерпывающе определенным [Лосский 1989: 195 прим. 225]; см. также 4.4.4.
[Закрыть]. Даже христологические концепции XVI или XIX веков в очень малой степени сопоставляют себя с контекстом своего времени, и меряют свою деятельность патристическими мерками; православия это касается в еще большей степени, чем католицизма и протестантизма. Аргументы в этом дискурсе неустанно оцениваются заново, но новых практически не поступает. «Догматическая память» нейтрализует (в соответствии с конструктивистскими предположениями) историческую хронологию, создавая системное единство. В этом смысле в главах по риторике христологии (I) вначале вполне удается абстрагироваться от комплекса политических, социальных и культурно-исторических феноменов с расстановкой соответствующих христологических акцентов (ср. 2.2.6), прежде чем при изложении – вновь опять-таки риторическом, поскольку речь идет о тропах, метонимии и метафоре, вполне поддающихся описанию русского развития кенотической христологии – рассматриваются культурные практики и фигуры догматики в соединении одного с другим и с диахроническими их изменениями (II), чтобы в завершение вновь навести фокус на литературные тексты как средство передачи информации (III).
Культурно-исторический контекст, который в части I находится в стороне, в части II оказывается в центре внимания. Здесь в фокусе находится вопрос о том, в каких жанрах и практиках кенотическая модель распространялась в России и какие изменения она при этом испытывала. Это накладывается на вопрос о том, какие генерируются метонимии и метафоры на базе образца самоуничижения Христа. Тот факт, что «переносы» такого рода доводят модель до выхолащивания, до лишенной этоса цитаты структурности, отчетливее всего видно в комбинациях транспозиций, состоящих из художественной литературы и отказавшейся от христианства, секулярной (в русском контексте по большей части социалистической) направленности модели.
1.7.3. Спуск и подъем, или Материализация и усложнениеПри этом во всех трех частях происходит многократное движение в виде спусков и подъемов. В части I с помощью средств риторики, теории знаковой системы и речевых актов проводится анализ того, как инкарнационно-христологический дискурс описывает логоцентрическую фигуру (см. 3.1.5), в соответствии с которой обнаруживает, являет себя божественный Логос, опускаясь до «образа раба» (Флп 2:7), и как эта человеческая природа Христа далее репрезентирует себя в разнообразных метонимических и метафорических воплощениях. С онто-богословской точки зрения это спуск от первичного (Божественного) к вторичным (богочеловеческим) и третичным (сотворенным человеком) репрезентациям, но одновременно это – направленное вверх, анагогическое указание на божественную природу Христа (см. 3.4.4.2).
Вторая часть начинается с того пункта, когда Киевская Русь с наблюдательной вышки православного традиционализма внезапным рывком предположительно полностью христианизируется, причем затем христианство в России в позднесоветский период доходит до своей низшей точки. В русле культурологического пересматривания этого традиционалистского конструкта упомянутое внезапное праначало, напротив, предстает как долгий, столетиями длившийся процесс христианского пронизывания русской культуры, который достиг своей кульминации на рубеже ΧΙΧ-ΧΧ веков (см. 4.2.4), когда были уже значительны противостоящие (социалистические) течения, которые, как мы пытаемся показать это в III части, так или иначе, в неочевидной форме, продолжали участвовать в христологической модели. Здесь современный процесс, который общепринятым образом описан как секуляризация (см. 5.6.1), выглядит как спуск, что, однако, перечеркивается литературоведческой перспективой, в рамках которой симтоматологические и деконструктивистские прочтения имеют собственную эстетику неочевидного, двойственного и комплексного – и эти черты по мере удаления от христологической модели нарастают.
1.8. К чтению литературных текстов
1.8.1. К истории литературы: типы текстаТексты, которые читались для этого труда, начинающегося христологической риторикой и завершающегося вопросами истории литературы, распадаются, сообразно своему месту в таблице трансформаций (см. 1.4.5), на разные подгруппы: сначала это литература в жанре церковной письменности (см. 4.3), составляющая подавляющее большинство древнерусских письменных текстов. Далее рассматриваются художественные тексты Нового времени, в основном периода между поздним XVIII веком и ранним XX, в которых пример кенозиса Христа цитируется в сопровождении более или менее явных христианских провозвестий (см. 4.3.9 и 5) – в эксплицитных цитатах слов Христа, в литературных трансфигурациях [Ziolkowski Т. 1972], а также в структуре литературного изображения. Достоевский сопровождает нас здесь постоянно (см. особенно 5).
Далее изучению подвергаются тексты, которые преднамеренно выводятся из христианского обихода и в которых христологические фигуры выступают в полемической форме[119]119
Чернышевский, Островский (см. 6 и 8).
[Закрыть], но которые, невзирая на это, действенны – и по большей части направлены против той полемики по борьбе с христианством, которая лежит на поверхности[120]120
Примечательно, что немалая часть случаев христианского использования кенозиса Христа в художественной литературе XIX и XX веков может быть понята как ресакрализация и реакция на такую полемику. Гоголь, Достоевский, Ерофеев (см. 4 и 5 местами, 6.9 и 9).
[Закрыть].
Наконец, в определенных литературных текстах кенотический образец используется в целях, которые призваны оставить христианство позади[121]121
Это имеет место прежде всего у Горького (см. 7).
[Закрыть], но в них совершается попытка использовать испытанный способ для другой политической цели (например, для социализма), сохранив положительную окраску инструментария, и таким образом структурно остаются неразрывно связаны с христологическими и мариологическими схемами.
К этим паразитическим попыткам инструментализировать кенозис в поздний советский период добавились, наконец, литературные метанаблюдения, которые, казалось бы, сами по себе не призваны были передавать какие-либо ценностные аспекты, а только их реферировали и инсценировали. Кенозис стал тогда выставочным экспонатом в концептуалистском музее дискурсов – причем одновременно как христианский и как паразитарно-антихристианский шифр контроля поведения[122]122
См. Сорокин (10).
[Закрыть].
Пять подробно проанализированных текстов образуют нечто вроде приблизительной последовательности поколений – Чернышевский (1863), Горький (1906), Островский (1935), Ерофеев (1969) и Сорокин (1984). Они охватывают, в той мере, в какой они обрели канонический статус (Ерофеев), некогда имели его (Чернышевский, Горький, Островский) или добиваются сейчас (Сорокин) в качестве авторитетных представителей, выборку из широкого спектра литературных привязок к кенозису Христа в описанные 120 лет русской и советской истории литературы; и, разумеется, эта картина не является исчерпывающей. При концентрации на пяти прозаических текстах-образцах внимательному чтению (close reading) было отдано предпочтение по сравнению с возможным привлечением широкого спектра текстов.
В то время как вдохновленные скорее прохристианскими идеями тексты XIX века, в особенности кенотика Достоевского, нашли широчайший отклик у исследователей[123]123
Не говоря уже о необозримом количестве отдельных исследований по произведениям «Идиот» и «Легенда о Великом Инквизиторе» [Onasch 1976], [Holquist 1977: 102–123] и [Thompson D. 1991: 273–318], а также обширные фрагменты мегаглавы о Достоевском у Дунаева [Дунаев 2001–2003,3:404–744] затрагивают христологический способ прочтения Достоевского. См. об этом также [Uffelmann 2008в].
[Закрыть], относительно пяти подробно разобранных текстов, которые выпадают из спектра неуязвимого христианства, этого практически не скажешь. Вот почему этому феномену уделено пристальное внимание, в то время как относительно Достоевского, Гоголя и других канонических авторов XIX – начала XX века мы удовлетворимся расстановкой новых акцентов. Акцент в III части придется не на произведения, отчетливо маркированные с точки зрения христианства и кенозиса, такие, как «Мастер и Маргарита» Булгакова (1940), а на подробную, деконструктивистскую интерпретацию текстов, в которых христианские кенотические сигналы не так заметны.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?