Текст книги "Русская литература: страсть и власть"
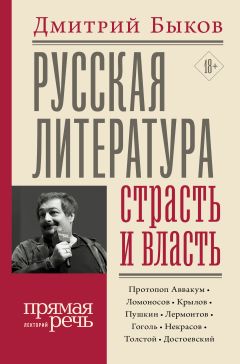
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Николай Гоголь
«Тарас Бульба»
Тарас Бульба» – настолько своеобычная повесть Гоголя, что нужны немалые мыслительные усилия, нужна большая концентрация мысли, чтобы о ней говорить.
«Тарас Бульба» входит в цикл «Миргород». Название очень символическое и очень важное. «Миргород» Гоголя – на самом деле Миргород, как сказано в первом эпиграфе, «нарочито невеликий при реке Хороле город», то есть маленький городок. «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны» – второй эпиграф, из записок одного путешественника. У Гоголя же Миргород – это образ украинского мира, а «Миргород» – заявка на строительство украинского мира, украинской вселенной.
Гоголь – гениальный писатель, вероятно, самый значительный писатель России второй половины девятнадцатого столетия, невзирая на то, что после него работают такие титаны, как Толстой, Тургенев, Достоевский, Чехов.
У Михаила Бахтина есть такой термин – хронотоп. Он обозначает место действия, сочетание времени и места (хронос – время, топос – место). И вот все главные хронотопы, другими словами, главные локации русского мира заложил Гоголь. Сначала он выдумал Украину. Украинской литературы до этого не было, и все главные темы, картины, герои, мотивы украинской литературы заложены Гоголем. Именно Гоголь постановил, и с тех пор это не отменилось, что главный украинский жанр – это миф, мифопоэтическое произведение, эпос, который к реальности не имеет большого отношения. Собственно, украинского реализма не существует до сих пор. Написать украинский реалистический роман, как показал опыт, невозможно. Либо получается сразу миф (в частности, все производственные романы Павло Загребельного – это была чистая метафизика, чистая сказка), либо получается пародия.
В общем, русский реализм еще можно создать, а украинский не получается никак, это всегда огромная гипербола. Это или героический эпос вроде «Тараса Бульбы», или страшная былина вроде «Страшной мести». То есть Гоголь создал свою версию украинского фольклора, хотя версия эта, конечно, не совсем украинская – гораздо ближе она к немецким романтическим источникам. Можно сказать, Гоголь переписал немецкие фольклорные и гофмановские сюжеты на украинском материале. И «Страшная месть» – это не что иное, как «Эликсиры сатаны» Гофмана, переложенные на Украину, «Заколдованное место» или «Вечер накануне Ивана Купала» – это классические сюжеты немецких романтиков, разработанные в украинском антураже, а Вий – это вообще гном из немецкой сказки.
После «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголь начал писать вещи, более приближенные к украинской реальности. Они все равно, конечно, сатирические, гиперболические и неподлинные, но, по крайней мере, уже написаны на современном Гоголю материале. Это «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», это «Старосветские помещики» – самый смешной гоголевский текст, над которым и современный читатель не удержится от хохота, это «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Но самый большой до «Мертвых душ» текст Гоголя – это второй вариант «Тараса Бульбы». Второй – потому что первый был набран без авторского наблюдения (автор уехал в Италию), набран с большим количеством ошибок, и, кроме того, Гоголь радикально переписал эту вещь, расширив батальные сцены.
«Тарас Бульба» – это попытка написать всю историю Украины, но задача текста гораздо глубже. И вот здесь мы вступаем в область темнот и догадок. Потому что адекватной интерпретации «Тараса Бульбы» нет до сих пор. Мы не знаем, про что вещь, о чем и для чего она, собственно, написана. Разумеется, в любой школе, особенно сегодня, повторяют волшебные слова «нет уз святее товарищества» и «отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего». И в этом смысле Остап – герой, Андри́й – предатель, а Тарас Бульба – носитель лучших традиций боевого гопака. Все это, конечно, очень умилительно, но не имеет никакого отношения к гоголевскому замыслу.
Гоголь – рано созревший человек. «Страшную месть» писал двадцатидвухлетний автор, у которого при этом за плечами уже большой литературный опыт. Гоголь, который младше Пушкина на десять лет, был его достойным и равным, хотя несколько назойливым собеседником. Ведь Хлестаков – это немножко автопортрет, «с Пушкиным на дружеской ноге». Гоголь дал родителям пушкинский адрес, чтобы они ему посылали письма. Пушкин очень смеялся этому детскому тщеславию, но терпел. При этом Гоголь действительно очень неглуп, и сочинять большую вещь, да еще в двух редакциях, ради того чтобы противопоставить родину и панночку, он бы, наверное, не стал.
Тема «Тараса Бульбы» гораздо шире. Это своя версия евангельской истории. Как мы помним, еще Борхес говорил, что в основе каждого народа, каждого фольклора, каждого национального типа лежит три эпоса: эпос о войне, эпос о странствии и эпос о самоубийстве бога, или, скажем шире, эпос о Прометее, о Христе, о боге, который гибнет за людей. Так вот, есть еще один сюжет, без которого народ не существует и без которого эпос не полон. Это сюжет о том, как дети разрушают мир отца, о том, как гибнет ветхозаветный мир. Ветхий Завет – это царство закона, а Новый Завет – это царство милосердия. Он гораздо выше, продвинутее, более advanced, по-современному говоря. И конечно, мир Нового Завета гуманнее, разнообразнее, человек в нем свободнее, нравственного выбора у него больше. Мир Ветхого Завета – это мир детства человечества, когда Бог в нем выступает строгим отцом. А в мире Нового Завета Бог дал человеку свободу. И один из самых устойчивых, один из самых страшных сюжетов мировой литературы – это история о том, как сын разрушает ветхозаветный, жестоковыйный, во многих отношениях страшный мир отца. Это и есть миф о Христе.
Дело в том, что у Христа, трикстера, странника, волшебного учителя, который проповедует и творит чудеса: превращает воду в вино, воскрешает мертвых, исцеляет больных, – очень сложные отношения с отцом. И это одна из основополагающих вещей в мифологии национальной. Христос, конечно, любящий сын, и, конечно, он продолжает дело отца. Но он периодически хочет подправить замысел отца, он обращается к отцу с молитвой в Гефсиманском саду: «Господи, да минует меня чаша сия». Он корректирует учение отца, в частности, то, что получил Моисей, те скрижали, которые были получены во время Нагорной проповеди. «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» – спрашивает Христа Петр. «Не говорю тебе: “до семи”, но до семижды семидесяти раз». Христос корректирует мир отца в пользу большей доброты. И вот Гоголь берет сюжет о том, как мир отца разрушается детьми, и дети разложены у него на две ипостаси. Остап – это сила, честь, жестокость, когда нужно; Андрий – это любовь, милосердие. Андрий не из одной похоти к панночке идет. Он же несет, когда идет в осажденный город в первый раз, хлеб для ее умирающей матери. И не только для нее.
Движимый состраданием, он швырнул ему (изголодавшемуся. – Д.Б.) один хлеб, на который тот бросился, подобно бешеной собаке, изгрыз, искусал его и тут же, на улице, в страшных судорогах испустил дух от долгой отвычки принимать пищу.
Андрий остается в Дубно не только потому, что любит панночку, – его милосердие останавливает. Помните, когда приезжают Остап и Андрий, Андрий идет поцеловаться с матерью, а Остап – подраться с отцом.
Тарас Бульба – это человек, для которого характерна ветхозаветная, жестоковыйная жестокость, то, что Алесь Адамович назвал «радость ножа». Его дети совершенно другие. Остап – это носитель закона, идеи закона, преданности, верности, и для него война – это долг, а не радость. А Андрий – носитель любви, милосердия, сострадания, поэтому он гибнет, как гибнет ведь и Христос. Но даже гибелью своей он ветхозаветный мир отца разрушает. И Тарас тоже гибнет, и его мир гибнет, потому что он «последний из могикан». Мир Запорожской Сечи находится на пороге гибели. Пришли новые люди. Люди, которые умнее, честнее, милосерднее.
Скажу больше: почти все великие романы, особенно в России, романы и девятнадцатого, и двадцатого века, – это романы семейного упадка. Романы, в которых гибнет мир родителей и начинается новый мир детей. Мир, в котором родителям чаще всего нет места. Это и «Отцы и дети» Тургенева, и «Будденброки» Томаса Манна, «Братья Лаутензак» Фейхтвангера в Германии, и «Дело Артамоновых» Горького в России.
Буквально копией Гоголя был в послереволюционной России Исаак Бабель. И пьеса Бабеля «Закат», и одноименный его рассказ – это «Тарас Бульба» двадцатого века, абсолютно точный.
Проблема в том, что прошлое никогда не хочет уходить, мертвый хватает живого. И Тарас Бульба пытается продлить свой жестокий мир, мир, стоящий только на насилии, на радости этого насилия. Мы можем, конечно, сказать, что Андрий – предатель. Но проблема в том, что понятие предательства в этом случае – это понятие Тараса Бульбы. Для него предатели те, кто сострадает чужим, чужой стране. А для Гоголя это не так, он Андрию сочувствует не меньше, чем Остапу. Оба они погибают, каждый – за свою правду, но оба встречают смерть героически. Андрий не просит прощения у отца, не просит сохранить ему жизнь, он понимает: он пошел против своих. Но в будущем мире понятие «свой – чужой» не будет определяющим. Там выше этой готтентотской морали будет милосердие. И об этом Гоголь говорит совершенно отчетливо, в мире Гоголя милосердие – великая вещь.
Есть в повести один довольно забавный персонаж – жид Янкель. Почему «жид», понятно – потому что, во-первых, во времена Гоголя евреев иначе не называли, во-вторых, Гоголь сам не большой любитель иудейского племени:
Бедные сыны Израиля, растерявшие всё присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печах и даже заползали под юбки своих жидовок.
Но Янкель – тоже человек из будущего. Он думает не о воинской доблести. Он торговец, он маркитант. Он медиатор, посредник; для него нет своих и чужих. Он именно свой во всех мирах, границы для него проницаемы. Он помогает Тарасу, даже спасает Тараса. Он добрый малый, этот Янкель, но и хитрый, он тоже человек нового мира – мира, в котором господствуют другие стратегии, в котором есть вещи помимо войны: есть торговля, есть хитрость, есть умение подольститься. Это человек гибких, я бы сказал, даже женских стратегий. А мир Тараса обречен прежде всего потому, что это мир ригидный, оцепенелый. Мир жестоколюбия. У него все конструкции предельно строгие. Я уже не говорю о том, что мир Тараса жестокий. Помните, как в Сечи разделываются с запорожцем, убившим товарища?
Тут же, при нем, вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею.
Самый страшный страх Гоголя, оговоренный, кстати, и в известном завещании, – это страх быть похороненным заживо; не зря он эту историю вставляет в повесть. Это попытка работать с собственными тайными страхами. Мир Сечи для Гоголя очень неуютен. Гоголь – книжник. Слабый физически, вечно болевший, любящий больше не войну, а чтение, писание, кулинарию, путешествия. Гоголь, конечно, не персонаж Запорожской Сечи. Для Гоголя любимые герои – сыновья Тараса, один из которых верен своему делу, а другой милосерден к своему противнику.
«Тарас Бульба» – произведение эмоционально очень сложное, оставляющее нас наедине с довольно серьезными вопросами. Да, Тарас Бульба произносит знаменитый свой финальный монолог: «Да разве найдутся на свете такие огни и муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу!» Вот только гибнет эта сила. И гибнет во многом из-за собственных предрассудков.
«Тарас Бульба» – это история об обреченной гибели. У Тараса много прекрасных черт. Это и храбрость, и некоторое остроумие. Способен он и на человеческую жалость, и на безоглядную отцовскую любовь: когда Остап «упал… силою и выкликнул в душевной немощи: – Батько! где ты! слышишь ли ты все это? – Слышу! – раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул». Но при всем при этом Тарас Бульба явно не тот герой, которого Гоголь считает близким. Тарасов мир – это старый, романтически прекрасный, песенный, но гибнущий мир, на смену которому приходят люди вроде Гоголя. Люди, отмеченные милосердием, талантом и творческой способностью. «Тарас Бульба» – это гоголевские похороны мифа.
«Вий» как русская эротическая утопия
Все научные, чрезвычайно сложные, очень многочисленные трактовки «Вия» всегда представлялись мне некоторым колдовством на пустом месте, некоторой ритуальной пляской. Пожалуй, самое экзотическое из того, что я прочел за время подготовки к этой лекции, это версия о том, что Гоголь изображает в своей странной повести борьбу православия с католичеством, и церковь, в окнах которой застревают страшные сущности, – это идеальная католическая церковь с химерами, какой она ему рисовалась. То есть церковь после посещения нечистью и Вием католизируется и тем достигает своего, гоголевского идеала.
Еще более занимательны разнообразные психоаналитические трактовки, которые говорят о тайной ненависти Гоголя к православию и тайном страхе перед ним. И интересна трактовка Андрея Синявского, которая мне представляется наиболее близкой к истине. Она изложена в книге «В тени Гоголя». Это ироническая книга, и особенно пикантно в ней заявление Синявского: «Я многих спрашивал: “Откуда и для чего – «Вий», если Вий едва упомянут?!” – И многие мне возражали резонно: “Ну, просто так”, – отвечали…» Только тот, кто знает, что эссеистически эта книга сочинялась в лагере, поймет всю прелесть упоминания об этих «многих». О Пушкине они рассказали Синявскому немало интересного – о том, например, что Пушкин, чуя свой фарт, всегда носил с собой пару заряженных пистолетов, – но о Гоголе ничего внятного сообщить не смогли.
Гоголевская повесть, как совершенно правильно Синявский замечает, стоит в центре его творчества, ровно в середине: вещь 1835 года, слегка сокращенная и улучшенная в собрании сочинений 1842-го, вещь пограничная. Одним своим ликом, светлым, радостным, юмористическим, она как бы обращена к Киеву, к забавам бурсаков, грамматиков и риторов, к великолепной сцене попойки казаков, во время которой один все время жалуется, что он горький сирота, а другой, утешитель, не в силах удержать голову на плечах, постоянно роняет эту голову на стол, повторяя: «Так уж воля Божия положила. Уже что Бог дал, того не можно переменить». А второй – мрачный, темный, демонический лик повести – обращен к ночной Украине, к страшному хутору, на котором и детей не крестят, и не женятся, потому что церковь стоит в полном запустении, сам вид этого хутора напоминает собою адскую равнину, куда ведет длинный, очень крутой спуск, на котором лошади чудом не перевернули гигантскую брику, и сама эта гигантская брика выглядит адским каким-то транспортом, везущим непосредственно в ад. Помните разговор Хомы с возницей:
…если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром – положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней? – Да, – сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, – достаточное бы число потребовалось коней.
Осмысленный диалог с этими казаками невозможен: они, даже напившись, все время пытаются допытаться у бурсака, каково там, в бурсе, – образ какой-то нарастающей адской бессмыслицы.
В повести вообще много неясного, что Гоголь предусмотрительно списал на народность этой легенды, на ее такую чистую, непосредственную фольклорность. Не надо в народной сказке объяснять, что делала ведьма в хлеву, куда она положила Хому, что случилось во время его отсутствия с двумя его товарищами, с богословом и ритором. Не нужно объяснять, почему у ведьмы отдельно где-то на выселках тайный хлев для экспериментов, когда она по ночам изображает из себя грозную старуху, а днем является красавицей, – не проще ли красавицей обольщать путника? Абсолютно не прописаны остались таинственные истории предыдущих ее обольщений, скажем, история, когда она псаря Микиту так влюбила в себя, что он «сгорел совсем; сгорел сам собою». Все эти неясности легко устраняются, если мы откажемся от попыток рассматривать «Вия» как религиозное высказывание, метафизическое высказывание, фольклорное даже высказывание, а рассмотрим как историю любви, изложенную в безупречно романтическом духе.
Мы все забываем, что Гоголь – романтик. Разговоры о том, что Гоголь – великий реалист, может быть, еще имели какой-то смысл до набоковского эссе о Гоголе, где Набоков безупречно доказал, что нет ничего более далекого от реальности, чем гоголевский взгляд на вещи. Его постоянные гиперболы, невероятно яркие метафоры, его тягу символизировать все что угодно уж никак не назовешь реализмом.
Гоголь по преимуществу мифотворец, романтик, для которого любовь всегда существует в остром конфликте между реальностью и мифом и реальностью и прелестной гипнотизирующей нас выдумкой. Трагедия заключается в том, что выдумка заканчивается, мы видим реальность, и эта реальность убивает нас. Точнее всего, пожалуй, к этой трактовке подошел Синявский, сказав, что «Вий» – это повесть о зрении, «о страшном искушении и о страшной опасности – взглянуть и увидать», как оживают создания нашей фантазии и наши фантазии порвут нас в клочки, что, собственно, и случилось с Гоголем.
Довольно наивны легенды и о том, что Гоголь был девственником, что он был убежденным некрофилом, которого возбуждала только мертвая красота, вроде той, что, наблюдая за умиранием молодого красавца Виельгорского, он испытывал якобы эротическое возбуждение (о гоголевской некрофилии говорится в книге Кристофера Патни). Конечно, и Гоголь, и Пушкин любят описывать мертвые тела, но не потому, что их к ним тянет, а потому, что это прекрасная фабульная возможность («И до утра всё стучались / Под окном и у ворот»). Тот же Синявский, замечая, что мертвецы Пушкина всегда румяны, всегда вампиричны, всегда жизнерадостны, всегда полны жизни, имеет в виду лишь то, что Пушкин наполняет живой кровью создания своего воображения. Легенда о Гоголе-девственнике пущена Белинским, который в одном из своих писем, достаточно фривольном, пишет: «…до чего доводит и гениального человека онанизм». И тем не менее эта легенда, как и легенда о его посмертном пробуждении, оказалась исключительно живучей, Гоголь этими легендами окружен.
Другое дело, что Гоголь испытывал по отношению к любви тот мучительный комплекс, который многажды в литературе описан и который, пожалуй, наиболее ярко выражен у него в повести об Иване Федоровиче Шпоньке. Это панический страх перед браком. Но Гоголь, в отличие от большинства людей, на этом зацикленных, мог об этом писать, это аутотерапия с помощью литературы. Вполне возможно, и «Женитьба» есть такой акт аутотерапии: жених выпрыгнул в окно, лишь бы только не оставаться наедине с предметом любви.
Страх перед браком у Гоголя имеет и более высокую природу: у Гоголя представление о женщине как существе высшего рода и высшего ряда, как о существе полубожественном не терпит сличения с реальностью. Это катастрофа, крах. Вспомним его знаменитое письмо матери от 24 июля 1829 года, где он говорит, что он влюбился бы, но «она слишком высока для всякого, не только для меня», она слишком совершенна, он боится даже подойти близко – боится быть испепеленным. Гоголь матери никогда не врал. Он по отношению к ней всегда очень честен. Молитва матери, пишет он, имеет особый смысл, сердце матери различит любую ложь, разум матери всегда его оберегает. Поэтому, когда он рассказывает о том, что влюбился, но боится, это вполне вписывается в его психологический портрет. Более того, есть даже подозрение, что объектом его влюбленности была Александра Осиповна Смирнова-Россет, которую он называл «ласточкой Розеттой», с которой состоял в самой интимной, самой доверительной переписке, но и мысли у него не могло быть о том, чтобы к ней приблизиться, потому что она была замужем и утверждала, что никогда не оставит мужа, хотя оставляла всегда спасительный зазор, говоря, что он ей только друг.
Почему я думаю, почему уверен, что Гоголь имел сексуальный опыт, хотя этот вопрос, конечно, десятый? Вспомним полет Хомы Брута на ведьме:
Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу… <…> Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою…
Это сильное и полное описание любовного акта, метафорическое, разумеется, поскольку мы имеем дело с романтической прозой, но не узнать тех физиологически абсолютно точных деталей, которые разбросаны по этому тексту, человек, хоть раз проходивший через подобный опыт, не может. В этом суть этой истории и дальнейшее ее развитие. С одной стороны, перед нами романтическая любовь, которая неизбежно ведет к убийству, к гибели своего объекта, любимых убивают все. С другой стороны, самое страшное, что может произойти потом, – материализация этого объекта, это свадьба, это мертвец, приходящий из могилы, вечно романтический сюжет, для того чтобы забрать возлюбленного. Это траверсированная, вывернутая наизнанку история о том, как мертвый жених приходит за своей невестой. Мы помним ее по «Людмиле» и «Светлане» Жуковского, помним по «Леноре» Бюргера, переводившейся многократно. Панночка возвращается за Хомой с тем, чтобы забрать его в свой страшный мир. Почему страшный? Потому что для Гоголя женский мир – это мир хаоса, мир неупорядоченности, мир страстей, которые утаскивают за собой вполне рационального героя. Ведь Хома немного вор, немного врун, добрейшая, в сущности, душа. Больше всего он любит задавать трапака под музыку, выпить, покурить родную люльку. Для него мир хтонический, мир подземный, мир страсти абсолютно закрыт. Вот в этот мир сводящей с ума страсти его и уводит за собой панночка. Вот этого-то больше всего и боялся Гоголь. Боялся, что ясность его рассудка, в чем он не мог сомневаться, поскольку гениальность его бесспорна, ясность мысли, его творческий полет, его творческая сила уйдут в эту страшную бездну, она будет испепелена страстью потому, что страсть для него – это однозначно темное начало.
Разумеется, когда вся нечисть приводит Вия – это тоже достаточно легко трактуемый в психоаналитическом плане фрагмент, потому что что́ такое Вий? История носа, который отправился в странствия отдельно от тела, заставила Набокова говорить о том, что нос и детородный орган в случае Гоголя как-то странно перепутаны местами. Нос – это главная эрогенная зона в гоголевских произведениях, самостоятельно действующий фаллос. И Вий стоит в одном ряду с этим трехбуквенным понятием, что не требует никаких доказательств, потому что от него-то, от его звериной похоти в конце концов и гибнет Хома. Этот Вий стоит в одном ряду со страшным существом Дием (Дивом, богом ночного неба), со страшным Веем, вьюном, который обозначает собой вихрь, со страшным Нием – хозяином подводного царства. Вий – нечто тяжело движущееся, приземистое, страшно сильное, земляное – вот это и есть тот провод, который привязывает героя к аду, тот провод, который привязывает его к ненавидимому миру телесности. Ведь Хома Брут не просто так сделан философом, Хома Брут все-таки во многих отношениях человек, ориентированный на идеальное, при всей своей прагматике. А когда его силком загоняют в гроб страсти, в тесный дом, как трижды подчеркивает Гоголь эту метафору, здесь и коренится его гибель. Потому что страсть всегда могила, а в русской романтической, русской эротической утопии прекрасна только та любовь, которая не приближается к земному, которая не выдерживает сравнения с земным. И именно Гоголь первым задал в «Невском проспекте» этот страшный мотив превращения прекрасной дамы в проститутку, а Блок развил его предельно в своей «Незнакомке» и в своей жизни. Идеальный мир русского мечтателя – это мир, когда все земное отделено от тебя меловым кругом, а ты стоишь в круге своих фантазий безгрешных и прекрасных и не позволяешь мировому хаосу схватить тебя и утащить в свое подземное неёвое, виёвое царство. Это то, чему мы должны изо всех сил сопротивляться.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































