Текст книги "Русская литература: страсть и власть"
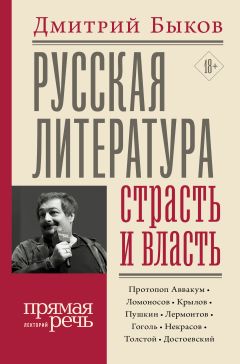
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Три кавказских пленника: Пушкин, Лермонтов, Толстой
Не так часто это бывает, что три ведущих русских писателя, связанные с Кавказом биографически и мировоззренчески, пишут три текста с одинаковыми названиями – «Кавказский пленник».
Для Пушкина «Кавказский пленник» – поэма этапная, начатая в Гурзуфе в 1820 году и завершенная в 1821-м. Самая популярная поэма Пушкина, во всяком случае, при его жизни. Мало того, что она ходила по России в бесчисленных списках еще задолго до публикации, мало того, что цитатами из нее обменивались, как паролями, как мы можем судить по переписке современников, но она превратилась почти сразу после своего появления в балет, который в Петербурге с успехом шел. Из всех романтических поэм Пушкина она пользовалась наибольшей славой, и именно за это Пушкин ее не любил. Известен его устный отзыв, в котором он говорит, что эта вещь много ниже «Руслана и Людмилы», хотя по стиху, безусловно, лучше, безусловно, сложней. Как учит опыт русской литературы, с Пушкиным лучше соглашаться.
Если рассмотреть «Кавказского пленника» объективно, без придыхания и пиетета, с которым мы рассматриваем большинство пушкинских вещей, придется заметить, что здесь налицо абсолютно ходульный романтический сюжет и при этом великолепное наполнение. Во-первых, четкий, чеканный, удивительно звонко звучащий стих, во-вторых, это начало перехода русской поэзии, перехода от книжного, байронического романтизма, на который молодой Пушкин оглядывается, к тому реализму, который мы увидели в «Онегине». Скажу больше. Поскольку «Онегин» задумывался как произведение сатирическое и в известном смысле пародийное, объектом пародии здесь служит не только байроновский «Дон Жуан», но и в огромной степени собственная поэма «Кавказский пленник». Потому что, если мы вспомним ключевую сцену объяснения Онегина с Татьяной, это та же самая сцена объяснения пленника с молодой черкешенкой, просто перенесенная в русскую усадьбу.
Но интересно в версии сюжета поэмы не это, не то, как он трансформируется в сатирической ткани «Онегина», – интересно то, как выстраивается очень глубокий, по-своему сложный сюжет «Кавказского пленника», который и изобличает в Пушкине гения. Дело в том, что это очень важная, сущностная особенность пушкинской поэтики. Особенность большинства пушкинских эпических текстов, поэм, романов в стихах, драмы «Борис Годунов» заключается в еле заметном смещении угла зрения, когда дается традиционный вроде бы конфликт, и вдруг в прологе, эпилоге, комментарии он разворачивается в иную плоскость. Как самый известный случай – огромное, занимающее почти треть поэмы, вступление у «Медного всадника». Сам по себе сюжет «Медного всадника», может быть, не представлял бы ничего сложного. Но вступление помещает этот эпизод в огромный исторический контекст.
«Кавказский пленник» весь держится на эпилоге. Потому что сама по себе схема «Кавказского пленника», тоже очень важная, тоже очень влиятельная для русской литературы, строится довольно просто: это история о столкновении пресыщенной, охладелой, во многих отношениях духовно иссякшей европейской цивилизации и цивилизации традиционной, коренной, архаичной. Еще Синявский заметил, что Пушкин, изображая столкновения, всегда болеет за обе стороны. Это очень видно и в стихотворении «Делибаш», где он радуется: «Делибаш уже на пике, а казак без головы», это видно практически во всех стихотворениях кавказского цикла: Пушкин одинаково любуется и русскими солдатами, и горцами. Он и в «Полтаве» болеет и за Карла, который «мучим раной», и за Петра, который «за учителей своих / Заздравный кубок подымает». И в «Кавказском пленнике» Пушкина равно пленяют обе стороны. С одной стороны, он симпатизирует, как романтический традиционный автор, пленнику. Это, во-первых, человек, действительно много думавший («Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей», как мы помним из «Онегина»), но это не пошляк, в отличие от Онегина, Пленник – это прежде всего храбрый воин, человек, который поехал на Кавказ искать смерти, потому что пережил, как и Пушкин, серьезную любовную драму: он отвергнут женщиной, которая его не поняла. Это не просто молодой байронит, это сложный человек, потому и гибнущий от этой сложности, что хочет погрузиться в мир более примитивный, от своей сложной любви, от своей духовной пресыщенности перейти к тому миру, где имеют ценность простые вещи: жизнь, смерть, глоток воды в жару. Это вполне сознательное опрощение, которое во многих отношениях предсказывает опрощение толстовцев и героев уже второй половины века.
Противостоит ему здесь культура, которой Пушкин тоже любуется. Нельзя не заметить, с каким восхищением, без малейшей насмешки, описывает он простые горские нравы и главную добродетель этого мира, которая в системе ценностей Пушкина, радикально христианской, почти самурайской, имеет самый большой вес.
Главная добродетель, которую ценит Пушкин в горцах, – это пренебрежение к смерти и постоянная забота о том, как ты выглядишь, как не дать противнику показать, что ты спасовал. Для Пушкина горец – человек, постоянно живущий на лезвии ножа, на грани смертельного риска, и поэт этим восхищается. Восхищается дисциплиной и слаженностью этой жизни, и великолепной боевой осанкой горцев, и аскетизмом их быта, и гордым, неприступным, таинственным видом их женщин. Для Пушкина эта культура прежде всего примечательна своим полным отказом нравиться чужеземцу. Она глубоко самостоятельна внутренне. Она существует по своей логике. Для горцев пленник – забавное чудо, и, может быть, черкешенка эта безымянная именно потому его и полюбила, что он совсем другой. Он человек, измученный выбором, – для горцев выбора нет, поэтому она, узнав, что он принадлежит другой, остается ему верна. Он – человек, измученный разнообразными вариантами, – для горцев вариантов нет. Для них существует, во-первых, фаталистическое абсолютно мировоззрение, диктуемое Кораном, и, во-вторых, раз сделанный выбор им довлеет: черкешенка не может пленника разлюбить, это было бы предательством. И даже зная, что он принадлежит другой, она помогает ему бежать и убивает себя. Это для нее единственно возможный, тоже в каком-то смысле самурайский выбор.
Это противостояние двух культур, которое Пушкин почувствовал очень точно, стало главным сюжетом девятнадцатого века, и думаю, что и двадцатого, потому что Пушкин наметил проблематику, которая во время чеченской войны всплыла очередной раз, ничего в этом смысле не изменилось. Другое дело, что в эпилоге поэмы эта коллизия снимается, – и снимается коллизией куда более насущной и актуальной – ее снимает государство: «Смирись, Кавказ, идет Ермолов». Отношения России и Кавказа, отношения архаической, по-своему очень достойной культуры и модерна с его душевным холодом, – эта драма могла бы иметь совершенно неочевидные продолжения. Но в нее вмешалось государство, покорило Кавказ военной силой, и эта драма снялась или, скажем, законсервировалась, превратилась в скрытый гнойник. Едва намеченный конфликт двух мировоззрений военная сила превратила в грубую милитаристическую процедуру покорения. И в результате «Кавказский пленник» – это не поэма о том, как пленник соотносится с пленившим его народом, это поэма о том, как Кавказ сам становится пленником этого государства. Вот та коллизия, которая потом намечена была у Лермонтова в «Споре»: Кавказ «Шапку на брови надвинул – / И навек затих». Пушкинский эпилог переводит поэму из морального плана в план военно-политический, вот эта-то коллизия и вызывает наибольший интерес.
При колоссальной популярности «Кавказского пленника», особенно среди русского офицерства, он вызвал довольно неоднозначные трактовки у современников Пушкина. В частности, Вяземскому, который начинал как оголтелый либерал, а потом, к 1880 годам, стал таким же оголтелым консерватором. принадлежит отзыв о «Кавказском пленнике»:
Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести… Поэзия не союзница палачей… гимны поэта не должны быть никогда славословием резни.
Мы понимаем, что Ермолов – далеко не сатрап режима, благодаря его предупреждению спасся Грибоедов. Ермолов покровительствовал ссыльным декабристам – в общем, мы знаем другого Ермолова. Но для современников Ермолов – носитель начала зверского. Это крайне жестокий покоритель Кавказа, его рассматривали в одном ряду с Муравьевым – душителем Польши. «Польша и Кавказ, – говорил Дюма, – это два гнойника на теле России, с утратой обеих этих частей России когда-то предстоит смириться». Как видим, его пророчество сбылось наполовину. Ермолов, воспетый Пушкиным в финале, – не тот человек, который разрешает этот конфликт, это человек, который загоняет конфликт в глубину, который оставляет его тлеть. И финал поэмы рассказывает, как российское государство сняло конфликт архаики и модерна: архаика и модерн оказались в этом государстве на равных правах, одинаково под его тяжелой пятой.
«Кавказский пленник» – глубочайшая поэма о том, как в России в условиях экспансии Российской империи большинство конфликтов теряет свою актуальность. Остается только один конфликт – конфликт свободы и несвободы. О Пленнике говорится: «Свобода! Он одной тебя / Еще искал в подлунном мире». И вот он выходит на свободу – а куда он возвращается? Он возвращается в военный лагерь, в котором перекликались сторожевые казаки. Он из одной несвободы попадает в другую, армейскую, имперскую. Финал многозначителен, и в этом глубочайшее пушкинское прозрение, которое современникам было, конечно, неясно.
Поэма Лермонтова написана в четырнадцатилетнем возрасте и как таковая не может рассматриваться всерьез именно потому, что это произведение, во-первых, наивное, во-вторых, лоскутное. Автор пока только репетирует эпический жанр, щедрой рукой тащит из Пушкина, причем из разных текстов, в том числе из только что напечатанной шестой главы «Онегина». Примечательно здесь одно: беря пушкинский сюжет, Лермонтов в значительной степени корректирует две вещи. У Пушкина песня черкешенок – это один из самых знаменитых впоследствии, многократно положенных на музыку его текстов «Не спи, казак: во тьме ночной / Чеченец ходит за рекой». Это песня агрессивная, которая призывает быть настороже. У Лермонтова же песня мирная, любовная, почти идиллическая. Она отражает лермонтовское отношение к Кавказу, о котором скажем позже. А вторая значительная перемена – и это выдает в четырнадцатилетнем Лермонтове уже большего психолога, нежели был в двадцать лет Пушкин, – гораздо более жесткая мотивировка гибели героини. У Лермонтова Пленник не выживает, его убивает отец черкешенки, которая помогла пленнику бежать, и ей ничего, кроме самоубийства, не остается. У Пушкина самоубийство от любви – красивый романтический жест. У Лермонтова это неизбежность, обусловленная прямым конфликтом двух чувств: мучительной борьбы любви и долга.
Отношение Лермонтова к Кавказу довольно резко отличается от отношения Пушкина. Кавказ для Лермонтова – это не средоточие агрессивных, или архаичных или опасных тенденций, нет. Кавказ для Лермонтова – это в каком-то смысле рай. Это мир, в котором его душе уютно. Мы не будем утверждать, что душа Лермонтова – это душа христианская, душа добрая или чистая, но нельзя и не заметить, что это душа воина, душа смятенная, борющаяся и не самая добрая. Так вот, Кавказ для Лермонтова – это рай, но это рай, в который не всех пускают. Тот же листок, который «оторвался от ветки родимой», получает от молодой чинары весьма резкий отказ – та же самая ситуация, когда человек, измотанный страстями, истощенный ситуацией морального выбора, ищет приюта и покоя на молодом, девственно свежем Кавказе. И что же он получает в ответ? «На что мне тебя? – отвечает младая чинара. – / Ты пылен и желт, – и сынам моим свежим не пара». Вот это то, что Лермонтов чувствует и слышит на Кавказе: «Чеченец посмотрел лукаво / И головою покачал». Лермонтов хотел бы прийти на Кавказ учиться. Он хотел бы стать листком на этой чинаре. Он хотел бы влиться в эту традицию, потому что эта традиция ему по сердцу. Поэтому Печорин так подлаживается под чеченцев и гордится своей чеченской посадкой. Поэтому сам Лермонтов ищет дружбы с чеченцами. «Он мой кунак», – говорит он с гордостью об одном из них. Он не воспринимает их как врагов. Он воспринимает их как утопическое сообщество, в котором ему, одинокому в Петербурге, наконец нашлось бы место. По Лермонтову, два есть достойных занятия для мужчины: поэзия и война. Он идет на Кавказ, как другие идут в монастырь. Но трагедия в том, что Кавказ его не принимает. Уже в четырнадцать лет Лермонтов понимал, что пленник на Кавказе погибнет. Он здесь не нужен. Ему априори не верят – и больше того, эта цивилизация потому и сохранила себя в такой силе, в таком единстве, в такой абсолютной готовности к испытаниям, что она замкнута. Она не принимает контактов, ей эти контакты не нужны. И кстати, если у Пушкина между Пленником и черкешенкой завязывается не только роман, но и интенсивный диалог, у Лермонтова этого диалога нет. Герои почти не разговаривают. Это бессловесная история, и, может быть, поэтому она так трагична. Для Лермонтова гибель пленника – это предсказание собственной судьбы, понимание ее закономерности.
Кавказ в описании Пушкина предстает прежде всего как место опасности, точка опасности, место почти непрерывного боя. А у Лермонтова в «Кавказском пленнике» это страна райских пейзажей, невероятной красоты, это солнечная страна, страна облаков. Он не случайно помещает сюда впоследствии Демона:
На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил.
Здесь «…в грядущем нет желанья / И прошедшего не жаль». Это райская страна, в которой нет мелочных человеческих чувств. Даже вот той чести, которая так важна для Пушкина, нет. Это как бы загробная страна, страна загробного существования. Но попасть в эту страну можно только ценой смерти, как при жизни нельзя попасть в рай. И поэтому пленник гибнет.
Очень важно, что пушкинская глубоко христианская позиция приемлет, вбирает всё: и ислам («Подражание Корану»), и католическую позицию; пушкинское православие очень широко, очень всетерпимо. Лермонтов же в конце жизни окончательно делает выбор в пользу ислама: «Быть может, небеса Востока / Меня с ученьем их Пророка / Невольно сблизили». Вот это, пожалуй, ключевые слова. Фатализм, присущий исламу, обожествление войны и поэзии, обожествление странничества, определенная жестокость, присущая исламу, – все это чрезвычайно притягательно для Лермонтова. У Пушкина было четкое разграничение поэтического и политического. В 1831 году он пишет тому же Вяземскому, что поведение поляков во время их восстания поэтически очень понятно, и все-таки их надобно как можно скорее задушить. Для Лермонтова принятие чужой веры оборачивается в конечном итоге бегством из России. «Быть может, за стеной Кавказа / Сокроюсь от твоих пашей» – это мечта, которая так или иначе грела его весь остаток жизни.
Что же касается Толстого, то принято считать, что его «Кавказский пленник» относится к последнему периоду его творчества, тематически связан с «Хаджи-Муратом», и вообще это такой поздний голый Толстой, голая проза, практически лишенная его стилистической богатой сложности. Бытует мнение (в основном в головах школьников), что «Кавказский пленник» – что-то времен «Хаджи-Мурата», чуть ли не первоначальный эскиз к нему. Насчет первоначального эскиза, может быть, это и верно. Но «Кавказский пленник» написан между «Войной и миром» и «Анной Карениной». Его пишет Толстой в сорок четыре года, в 1872 году, и в своем эссе «Что такое искусство?» сам называет два удачных произведения. Это «Кавказский пленник» и «Бог правду видит, да не скоро скажет». Лев Шестов, философ-экзистенциалист, анализируя толстовское мировоззрение, пишет: «Ну не может же в самом деле Толстой в своей статье “Что такое искусство?” искренне полагать, что “Война и мир” – плохо, а “Бог правду видит, да не скоро скажет” – хорошо, что “Анна Каренина” – плохо, а “Кавказский пленник” – хорошо». Но Толстой так полагает вполне искренне, и сейчас, с исторической дистанции, видно, что «Кавказский пленник» как минимум не хуже.
Есть известный пример. Когда на раненых проводили испытание пенициллина, советский препарат оказался лучше американского. При том что количество раненых, процент исцелений был одинаков. Но количество пенициллина было разным. Русского препарата давали вдвое меньшие дозы. Его было мало. И вот «Кавказский пленник» – это художественный эффект, достигаемый вдвое, втрое, вчетверо, в десятки раз меньшими средствами. Во-первых, это вещь небольшая и страшно емкая, очень плотно написанная. Во-вторых, обратите внимание, как густо и точно прописан ее вещный мир. Малейшие детали запоминаются. Все, что горцы едят, то, как они надевают одни башмаки на другие, то, как одета Дина, молодая черкешенка, какого роста и сложения Жилин – мы всё это помним.
История «Кавказского пленника» выросла из эпизода 1853 года, когда Толстому было двадцать пять лет. В дневнике уже с привычным для него жестоким самоанализом он пишет, что был в деле и, кажется, вел себя неплохо. Он со своим чеченским другом, но мирным, звали его Садо (он потом перекочует в «Хаджи-Мурата»), охраняли обоз. Напали татары – на самом деле, по всей вероятности, чеченцы. Садо вскинул ружье, хотя оно не было заряжено, это произвело некоторое впечатление, и татары после нескольких выстрелов отстали. Достался им только молодой офицер, под которым подстрелили лошадь: она упала, офицер не смог встать – лошадь придавила ему ногу. Татары подскакали и зарубили его. Этот эпизод, из которого потом вырос «Кавказский пленник», попал в толстовские дневники и остался для него важной пробой, проверкой собственного мужества.
«Кавказский пленник» – быль, как определяет Толстой, – знаменует собой очень важный поворот в толстовской литературной работе. Тут появляются просторечие, сказовость, постоянные просторечные постпозитивные определения: у него было ружье дорогое, лошадь холеная и так далее. Но при этом намечается и некоторый духовный перелом тоже.
Трактовать толстовского «Кавказского пленника» довольно непростая задача. Есть отдельные подробные работы о том, что герои носят знаковые фамилии. Жилин – «жила, жилистый», это напряжение, некоторая аскеза, а Костылин все время опирается на костыль, он несамостоятелен духовно. И в общем, очень многие сводят мораль этого рассказа к тому, что плохо быть толстым, вот Костылин и остался в яме, а худой Жилин спасся.
Конечно, «Кавказский пленник» Толстого совершенно не про это. Тут промежуточный пока еще этап в долгой и очень интересной схеме толстовских отношений с исламом, и прежде всего с Кавказом. Для повести «Казаки» характерен еще некоторый ужас перед Кавказом и понимание, что кавказские традиции, кавказская аскеза, кавказский воинский долг вызывают у русского человека страх и непонимание. Этому противопоставлен добрый дядя Ерошка, который даже бабочку спасает от огня. А в «Кавказском пленнике» эти системы ценностей уже равносильны, и, между прочим, прямого-то конфликта между Жилиным и кавказцами нет. Жилина вообще воспринимают как друга, и больше того, герой способен спастись и выжить в той степени, в которой он примет местную систему ценностей. Он становится почти своим, и более того, многие его качества симпатичны горцам. У него никаких мировоззренческих установок, но у него есть гордость. Помните, как он переводчику велит сказать хозяину: «А ты ему, собаке, скажи, что, если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!» – и намеренно пишет письмо о выкупе так, чтобы оно до матери не дошло. Костылин же податлив, сразу демонстрирует готовность заплатить выкуп. У Жилина умелые руки, он может починить часы, он может починить ружье, он может починить замок – «днем ходит по аулу и рукодельничает». Он сделал Дине куклу и этим фактически спасся. В «Кавказских пленниках» Лермонтова и Пушкина есть некий эротический компонент – ничего этого у Толстого нет. Хотя Дине тринадцать лет и, в принципе, ее по местным законам уже пора выдавать замуж, но она очень инфантильна, она полюбила Жилина за куклу. И что замечательно, у Толстого в его были на маленьком пространстве важно все, даже порядок слов, – Жилин сделал ей куклу с носом, глазами и руками. Нос упоминается в первую очередь – большой горский нос. Эта кукла веселая – в пространстве, почти лишенном юмора. Потом наковырял в яме глины и из глины слепил Дине лошадь и курицу. Вот это художественное начало, которое есть в Жилине, удивительно гармонирует с собственным, пусть аскетическим, но абсолютно сакральным отношением горцев к искусству. Они его полюбили за то, что он умелец и художник.
По мысли Толстого, человек выживает в той степени, в какой он обладает добродетелями горцев, их профессионализмом во владении с оружием, их готовностью к испытаниям. Толстой вовсе не сторонник пользы. Жилин дорог горцам прежде всего, как и Толстому, своей эстетической составляющей. Он легкий. Вот это очень существенная черта толстовской поэтики. Мы Толстого ассоциируем с какой-то тяжестью, с бородой, с пахотой. А между тем как легко, одним касанием, точнейшими деталями сделан «Кавказский пленник», действительно кружево, гравюра. А Костылин тяжелый, и эта сырая тяжесть Толстому неприятна. Толстой любит толстых людей, у него толстые герои всегда хорошие. Это Кутузов, это Пьер Безухов, это круглый Платон Каратаев – все русское доброе и круглое. Но эта толщина должна быть легкой, как толщина Пьера, она должна сочетаться с силой, это не рыхлость, а это физическая сила. Когда Пьер срывает мраморную столешницу и замахивается на Элен, любуясь своей яростью, и ничего не может осмысленного выкрикнуть, кроме торжествующего «Авававава», мы в восторге. И быть толстым, по Толстому, значит прежде всего быть большим, сильным, нужна только легкость, отвратительна тяжесть. А Жилин легкий, его пытаются удержать с помощью тяжести, с помощью колодки, но он умудряется добраться до своих и с этой колодкой. А Костылина уж потом выкупили, «еле живого привезли». Радостные слова, но все-таки ехидные.
«Кавказский пленник» Толстого, повторим, – промежуточная фаза, промежуточная стадия толстовских отношений с Кавказом, компромиссная. Если ты будешь отрицать кавказскую злобу и кавказские архаические традиции, но перенимать лучшее, перенимать кавказскую легкость, гордость, силу, умелость, то это и будет идеалом. У Толстого это синтез, а не противопоставление. К концу своей жизни Толстой пришел к гораздо более мрачному мировоззрению, и не побоюсь сказать, что «Хаджи-Мурат» – это переписанный, подвергшийся ревизии «Кавказский пленник». Бытовые детали сходны, сцена действия, основные физические действия героев, их еда, их одежда, их язык – все сходно. Строй мыслей сходен. Не сходно другое. Главная мысль Толстого в «Хаджи-Мурате» такова: принадлежать к русской имперской бюрократической культуре, культуре Николая Палкина, Николая Павловича, очень плохо. Принадлежать к культуре имама Шамиля с ее такими же жесткими императивными требованиями к человеку очень плохо. Свободен только одиночка Хаджи-Мурат. Единственный достойный человека путь – это выпасть из всех сообществ и с неизбежностью погибнуть, сражаясь со своими, не будучи ни тем, ни этим. И Толстой поздний – это Хаджи-Мурат, как Толстой ранний – это Оленин из «Казаков», а Толстой зрелый – Жилин, который пытается вместить в себя всё.
Я бегло коснусь еще двух произведений под тем же названием. Это рассказ Маканина (правда, у Маканина рассказ называется «Кавказский пленный», чтобы несколько дистанцироваться, и пленный у него кавказец) и стихотворение Льва Лосева. В рассказе Маканина при всех его совершенствах и несовершенствах допущен очень важный поворот темы. Раньше это было столкновение женственной европейской души с мужественным и аскетическим характером Кавказа. Теперь это совсем новая стадия. Это женственный, в каком-то смысле покоренный, пассивный Кавказ. И не случайно там появляется типичный кавказский воин, который не воюет, а торгуется: русский майор продает ему оружие, а тот в ответ провиант, копченое мясо, там, хлеб, сигареты. И вот здесь зарождается замечательная метафора, что это уже не война, а торговля. Это извращение самой идеи войны. И это делает рассказ Маканина, может быть, неточным в деталях, но очень точным в интонациях, очень точным в прогнозах.
Ну а самое объективное и одновременно занятное изложение метафизики «Кавказского пленника» на современном стихотворном материале – это гениальное, на мой взгляд, стихотворение Льва Лосева, которое тоже называется «Кавказский пленник» и которым я считаю правильным закончить, потому что всегда приятно заканчивать стихами. Здесь важно: для Лосева все эти коллизии имеют ту ценность, которая может быть названа всемирной, которая выходит за пределы локального конфликта. Он трактует «Кавказского пленника» как историю о жизни, в которой пленники мы все. Мы все пленены. И никто из нас не может из этого плена освободиться.
На ногах у нас колодки —
в виде бабы, в виде водки,
в виде совести больной,
в виде повести большой.
Правда, нам все-таки остается толстовский императив: оставаться собой и при этом всё уметь, как они. Тогда мы как-нибудь поладим, как поладил Жилин с Диной. Без любви, но с взаимным уважением.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































