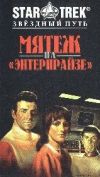Читать книгу "Мятеж"

Автор книги: Дмитрий Фурманов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Стоявшая огромная толпа пленных казаков ревела от бешеных восторгов, бурно выливала свой протест, кляла-проклинала обманщиков – недавних своих вождей, – за то проклинала, что никогда они не говорили настоящую правду, кричала приветственные советские клики, бросала шапки вверх, клялась, что никогда не даст наперед обмануть себя, что готова теперь, когда все стало ясно и понятно, готова теперь с оружием в руках защищать Советскую власть. Выступил старый казак:
– Мы ничего этого не знали, братья-казаки, что нам говорят теперь большевики. Знали вы али нет?
И толпа заклокотала, заухала:
– Нет!.. Ничего не знали! Знали, да не то… Обманывали!.. Все врали!.. А… а… ааа… га…
Настроение грозило разразиться стихийным взрывом.
– И я не знал ничего, старый дурак, – молвил старик, почесывая затылок.
Стоявшие рядом рассмеялись, и за громким их смехом остальные ничего не расслышали.
Загудели. Хотелось им знать, отчего смех.
– Как сказал? Что сказал? – кричали с задних рядов.
– Дурак, говорю, – выкрикнул старик.
– Кто дурак? – еще громче ухнули оттуда.
– Я…
Тут уж расхохотались все. Настроение быстро переменилось. Разрядилась напряженность. В этой атмосфере установившегося доверия к нам, повышенно сочувственного настроения как бы пропадали последние остатки недавней острой вражды.
– Нам што говорили? – продолжал старик, когда улеглись движение и хохот. – Нам говорили, что все станицы наши разорены дотла, что земли наши все поотобраны, а семьи казаков перебиты али разогнаны по черным работам…
– Все говорили! Верно! – откликнулась ему толпа.
– И опять не дело, – продолжал казак, – опять обман, потому наши семьи понаезжали ныне к Верному и сказывают, что живут, как жили. (Узнав, что в Верном масса пленных, казацкие семьи, особенно ближних станиц, действительно спешили тогда к Верному и всячески пытались проникнуть в казармы, передавали записки и т. д. Мы этому особенно не мешали, хотя и установили строгий контроль всем запискам и разговорам.)
– Наши семьи, – говорил старик, – нечего бога гневить, жалостью большой не горят, а только нас к себе ожидают, чтобы работать, значит… Вот што!
При вести о работе толпа заволновалась, зарокотала оживленно, – прорвалась давняя приглушенная тоска по земле, по семье, по труду…
– И теперь нам говорят, что отпущать будут по станицам… Да… Отпущать… Чтобы работали мы, а не воевали… Так где же разбой, про который нам говорили? Разве так разбойники поступают, чтобы отпущать нас по станицам?
Снова взрыв восторгов, оглушающие крики, буйно разорвавшееся радостное волнение.
Было у нас постановлено действительно, чтобы пленных свыше тридцати лет распустить по домам. Когда им об этом сообщили – можно представить, как встретили казаки эту давно жданную весть!
За стариком говорили мы:
– Товарищи казаки! Уж будем теперь звать вас своими товарищами, потому что – какие же вы нам враги? Будем товарищами по работе, по общей тяжелой работе, на которую зовет нас Советское государство. Довольно войны, довольно вражды. Вы поняли теперь, куда и к кому попали. У вас нет больше к нам недоверия, что было до сих пор. Этот старик казак вам рассказал свои мысли, – нам лучше того не сказать. Тридцатилетних и выше мы отпустим по станицам…
Дальше не дали говорить. Быстро сомкнулась, кинулась к центру, к ящику, где мы стояли, многотысячная толпа. Чуть не повалила, не подмяла под себя в каком-то диком, совершенно исключительном, исступленном порыве. Несколько минут, как в вихре, кружилось человеческое море голов.
– А… вва!.. Ура, ура!.. О… о… у… у… у!..
– Этих отпустим, – говорили мы дальше, – а других частью пошлем на орошение Чуйской долины, других возьмем к себе в Красную Армию: служили вы белым генералам, послужите теперь трудовому народу, послужите Советской власти…
– В армию! В армию! В Красную Армию!
И надо здесь же сказать: когда стали потом записывать их красноармейцами, осталось добровольцами немало и таких, которые имели право теперь же идти по станицам, – они на деле хотели доказать, что послужат Советской власти…
Выступил с речью представитель офицерства. Ему сначала не разрешали говорить, крики глушили слабый его голос.
Когда притихло, он говорил:
– Мы воевали – это верно. Но воевало ведь все казачество, – так ясно дело, что воевали и офицеры. Мы видим теперь и сами, что здесь приняли нас хорошо: не ждали, сказать по правде, мы такого приема. Все думали, что идем на расправу. А расправы нет. Никаких нет случаев, чтобы над нами издевались. И потом – всем офицерам дали амнистию. Мы и этого не ожидали… Вы вот говорите, что офицеры обманывали…
– Обманывали! Обманывали! – закричала толпа.
– Может, и верно, – продолжал офицер, – да мало ли, что там было…
– А как расстреливали?
– А как пороли?..
– А как допрашивали да пытали – говори!
Множились угрожающие крики-вопросы, бешено перескакивали один через другой. Снова близка была минута взрыва, в эту минуту казацкий гнев перехлестнул бы через край, были бы неизбежные жертвы.
Мы снова вскакивали на ящик:
– Товарищи казаки! Не время сводить нам старые счеты. Верно все, что говорите вы про обман офицерский, но вам же это самим наперед и наука. А мы теперь офицеров тоже берем в работу: одни в армии же у нас станут работать под нашим контролем, а другие… Среди них имеются ведь люди ученые – техники, агрономы, мало ли кто? Этих мы заберем на хозяйственную работу, они станут помогать нам в земельном отделе, в совнархозе – всем найдется, что делать.
– Правильно! На работу! – отозвалась дружелюбно и сочувственно толпа.
И часть офицеров была потом выделена, разбита на группы и отослана по разным советским учреждениям. Во время мятежа и это ставились нам в вину, демагоги здорово лаяли на этом деле.
Другую часть офицерства мобилизовали на техническую военную работу, а остальных, особенно работавших в контрразведке, поторопились передать особому отделу для допросов и ощупыванья.
После этого памятного многолюдного митинга, определив достаточно настроение пленных, мы все же ни на один час не ослабили своего за ними наблюдения. Пленных в казармах умышленно перемешали из разных полков, так что один другого они не знали. И в эту массу посылали верных своих ребят, поручив им не только вести работу, но и зорко следить за колебанием настроений, вызывать пленных на откровенные разговоры и точно выяснять роль и удельный вес каждого белого командира, характер его работы, в частности же – устанавливать случаи зверств, расправ, жестокости. Узнавали и «надежность» в прошлом каждой белой части. Одним словом, за короткое время получили о пленных наших точное и разностороннее представление. Человек тридцать казаков мы допустили к себе в партийную школу, и надо было видеть, с какой горячностью, с каким жадным интересом ухватились они за ученье! Заведующий школой говорил потом, что эти новички сделались едва ли не лучшими учениками.
Так понемногу – то в армию, то по домам, по лазаретам, на чуйские ли работы, в школу, по советским органам – мы распределили постепенно всю эту шеститысячную армию своих недавних врагов.
Центральной фигурой среди пленного казаческого офицерства был Бойко. Я пригласил его к себе. Годов ему было, вероятно, сорок два – сорок пять. Высок ростом, стройно, красиво сложен. Держится с большим достоинством. В умных глазах застыл глубокий стыд за свою беспомощность, сознание приниженности своего положения, может быть, сожаление о неудаче, – кто его знает, о чем он думает, о чем скорбит?
На спокойном суровом лице отпечатана уверенность в своих силах, напряженная сдержанность и печаль, печаль… О чем? Я стараюсь проникнуть, понять. Вижу, как он насторожился и следит за каждым словом, будто попал вот в безвыходную ловушку, и куда ни тронься из этой ловушки, повсюду расставлены цепкие, липкие тенета сети: малейшая неосторожность – и ты запутаешься в них, пропадешь…
По утомленному, тяжелому взору его темных глаз видно, как дорого пришелся ему этот плен, сколько позади оставлено мучительных, бессонных ночей, сколько тревог пережито и опасений и скорби, скорби по своей неудаче…
– Вы Бойко?
– Да.
Он не сказал «так точно», как говорили в подобных случаях другие офицеры. Он этот тон считал, видимо, для себя унизительным, решил проявить максимум самостоятельности, независимости мнения, смелости.
И я насторожился вместе с ним. И чем осторожнее он подбирал слова, чем длиннее делал паузы, все обдумывая и взвешивая заблаговременно, тем меньше оставалось у меня надежды вызвать его на откровенность, но и тем больше росла охота во что бы то ни стало этого добиться.
Сначала, прежде всего, попросил его сесть. Сел осторожно, будто и тут боялся какого-то подвоха: не провалиться бы куда?
И все не сводит глаз с моего лица, следит за словом, за тоном, за взглядом, усмешкой, за каждым моим движением, стараясь понять и уловить, насколько способен я видеть его внутрь, за словами понимать его скрытые мысли: насколько знаю и понимаю я все то, о чем говорю; где предел, грань в моих словах между простым, обычным любопытством и казуистическим, хитрым допросом и выпытываньем, где грань в словах моих между фальшью и искренностью? Он следит за мною напряженно и знает, что вижу, понимаю это, и оттого становится еще более осторожным, еще более подозрительным.
Один другого мы понимали хорошо: кто кого перехитрит и перевидит?
Глядя Бойко в умные черные глаза, я все больше убеждался, что здесь, в разговоре с ним, окончательно не нужна никакая особенная изворотливость, «ловкость рук и обман зрения», не нужна совершенно и самомалейшая попытка к фамильярности, какое бы то ни было словесное втирание очков, – он, видимо, чутко и сразу запрется на все замки, на все засовы.
С ним надо по-другому – в открытую!
После ряда беглых вопросов говорил ему:
– Я вас пригласил потолковать, а если хотите, и посоветоваться о самых различных делах. Не удивляйтесь тому, что я хочу и посоветоваться: полностью вашим словам я, конечно, верить не могу, да вы и сами хорошо это понимаете, почему не могу.
Он чуть склонил голову в знак согласия и так остался со склоненной головой.
– Ну да, – подтвердил я его кивок головой, – в прятки играть не будем. Вы один из вождей белогвардейских войск. Вы только-только попали к нам в плен…
– Сдались, – уронил он сквозь усы.
– Ну да, сдались, – повторил и я за ним. – И какой же был бы я глупец, на ваш собственный взгляд, если бы сегодня же полностью стал верить вашим словам, не так ли, а? Как вы думаете?
Он промолчал несколько секунд, ничего не отвечая, а потом:
– Я вас слушаю…
Он не хотел отвечать на вопрос.
– Словом, – продолжал я переть напролом, – факт взаимного у нас с вами недоверия и подозрения – совершенно нормальное, естественное, неизбежное явление.
Я выждал, не скажет ли что?
Но он не шелохнулся.
– Поэтому и ваша настороженность нисколько меня не удивляет. Наоборот, болтливость и развязность, если бы у вас они, паче чаяния, оказались, заставили бы меня самого призадуматься: какая им цена? В вашем положении быть особенно развязным – это или обнаружить свое умственное убожество или близорукость, может быть, даже глуповатость, или же обнаружить самонеуважение, род какого-то заискивательства, попрошайничества. Говорю грубо – простите меня. Но так ближе к делу. И верьте, не верьте – видел я вас на митинге в казармах, вижу теперь, по моему заключению, нет у вас этих вот указанных мной талантов. Поэтому я и иду с вами в открытую.
Он приподнял голову, посмотрел мне долго и пристально в глаза:
«Врет или не врет?» – гадал, видимо, Бойко. Не знаю, что он нашел в моем взгляде и на лице, но вдруг почудилось мне, что положение изменилось как-то к лучшему. Значит, ставка на открытую речь поставлена верно.
– Вы у нас в руках, вы – руководитель белой армии. Военная обстановка, разумеется, под всякими предлогами разрешила бы нам и с вами лично и с другими многое сделать безнаказанно. Мы не сделали ничего – вы это видели. И не по личной доброте не сделали. Я вас совершенно искренно хочу убедить в том, что в данном случае эта наша общая советская линия поведения: возможно безболезненней устранять все опасности и противоречия. Сразу этому, разумеется, вы поверить никак не поверите. Но, ей-же-ей, вы в этом убедитесь, когда поживете и поработаете с нами дольше. И тогда вы вспомните мои слова.
Он все молчал. Взор уже давно отвел от моего лица и снова опустил голову.
– Мы когда вот говорили там, на митинге в казармах, – продолжал я, – убеждены были, что слова наши примут за чистую монету. Мы больше говорили о труде, о том, как дальше работать. Это главное – работать! За работу, за мирный труд мы и воевали. Другой цели борьбы у нас ведь нет. Я с вами хочу посоветоваться теперь, насколько возможна совместная работа наша с офицерством? Ну, и с вами в частности. Действительно ли вы перешли к нам с чистым сердцем? И потом – как казаки? Что они, разойдясь по станицам, действительно способны забыть все и взяться за труд? Или можно ждать осложнений? Или их могут сбить, увлечь, снова поднять? Анненков вот с остатками ушел на Китай – что он, не сможет опять и опять привлечь к себе казаков?
– Думаю, нет, – ответил он как бы нехотя.
Ответ получился будто вынужденный.
– А почему нет?
– Не пойдут, – сказал Бойко. – Устали.
– И только? – удивился я. – Ну, а когда отдохнут да с силами соберутся?
– И тогда не пойдут.
– А тогда почему?
– На землю осядут. Стосковались. Они ведь знаете, как тоскуют по земле!
И он снова посмотрел мне в лицо, – теперь во взгляде определенно было нечто новое, чего не было, когда посмотрел он в первый раз. А в голосе звучали такие нотки, словно вот сам он, Бойко, глубоко тоскует по земле, по труду.
– Конечно, тем временем и мы дремать не станем, – говорю ему, – раскачаем земельный отдел, поможем казакам устояться, окрепнуть, это само собой. И политическую поведем работу…
– Ну, тем более, – подкрепил Бойко.
– И все-таки остается сомненье… Все-таки сомненье. И оно будет нам все время мешать в работе. Надо сделать так, чтобы ровно никаких сомнений, – понимаете?
– Понимаю, – ответил он ясно и уверенно.
– А вы можете быть очень полезны, знаете это?
– Я? – удивился Бойко.
– Именно вы. Ведь среди офицеров вы самый популярный человек. Да, пожалуй, и среди казаков. Вам они верят больше всех и к голосу вашему очень и очень прислушиваются, особенно те, что сейчас в Кульдже, в Китае…
– Возможно…
Он разгладил усы, и мне показалось, что чуть усмехнулся, поняв, к чему клонится моя речь.
– Вы искренно перешли? – в упор поставил я вопрос.
– Да.
– Безо всяких оговорок?
– Да.
– Значит, можно сделать вывод, что вы нам поможете во всем…
– Во всем? – спросил он. И вдруг спохватился. – Д-да, но первое требование, чтобы честь моя была соблюдена.
– На вашу честь мы не покушаемся. Но мы с вами только что говорили о том, как бы с наименьшими трудностями и бескровно завершить нам все бедствия Семиречья… В Китае несколько тысяч казаков. Они каждый час могут снова ворваться в область, и что ж тогда: снова война? Опять на месяцы и на годы нищета и разорение? А не лучше ли нам принять отсюда такие меры, чтобы они сдались без борьбы? Начать работу?
Он пристально следил за мною и, видимо, волновался.
– Могло бы так быть: вы, положим, и еще два-три влиятельных офицера, которых там отлично знают, обращаетесь к ним с воззванием, призываете сложить оружие? А попутно объясняете, что все эти разговоры о зверстве большевиков – вздор и клевета?
– Это можно, – согласился он совершенно неожиданно.
Такого поспешного согласия, я никак не ожидал и был несколько озадачен, как понять этот шаг? А впрочем, что же тут может быть?
– Ну, и хорошо, – заторопился я. – Пишите. Пишите все, что думаете. От сердца. Потом мы с вами прочитаем вместе, – может, какие углы и сгладить надо… Но это потом, вместе обсудим…
– Согласен. Я назавтра же принесу…
Лицо его теперь было совершенно спокойно. Он ждал, видимо, иных вопросов, иного разговора – того разговора, который так не любят пленные офицеры: почему воевал против Советской страны? Почему у белого командования был на хорошем счету и получал награды и отличия? Почему так жестоко обращался со своими солдатами? Где и сколько расстрелял большевиков? и т. д. и т. д.
Но этих вопросов ему не задавалось. Он успокоился. Пропадали остатки недоверия и недоброжелательности. Спросил:
– А с нами вы как?
– Да из центра, – говорю, – еще нет точных указаний, как поступить с офицерами. Но мы здесь уже сами дадим вам работу. Здесь будете, с нами, в Верном…
– Я бы в станице хотел побывать…
– Побывать? На время?
– Пока на время…
– Ну, что же, это, вероятно, под известным условием, можно будет сделать. Я поговорю, сообщу вам… Ну, а насчет воззвания как вы думаете: будет толк?
– Будет, – сказал он просто, уверенно.
– Пойдут?
– Казаки-то? Пойдут. Им только узнать, что здесь не трогают, – пойдут…
– Вот тогда – дело. Тогда, говорю, и за работу можно взяться по-настоящему, раз пропадет последняя угроза…
– Только, знаете ли, – говорил Бойко, – вы все-таки скажите своим, они иной раз – того…
– Что?
– Некоторых посадили… А по договору нашему, в Копале, этого как будто не должно. И потом были случаи – раздевают…
– Где это? – удивился я.
– Там, на месте. Мне передавали. Это очень восстанавливает против вас.
И он рассказал несколько случаев, назвав части и пострадавших. Я обещал ему, что сделаем расследованье.
Бойко простился и ушел, видимо, совершенно довольный разговором.
Наутро он принес воззвание. Кроме него, подписал только один, – сочли, что этого будет достаточно. В некоторых местах пришлось оставить несколько неясную терминологию, ибо, ежели взять слишком напрямки, это в казацком стане может поиметь как раз обратное действие.
Вот что говорилось в воззвании:
Открытое письмо к братьям казакам бывшего белого командования, сдавшегося в городе Копале
Братья казаки! Многие из нас бежали в 1918 году из Семиречья в Китай, в совершенно чуждое нам государство как по духу, так и по жизненным условиям; тогда многим пришлось вытерпеть много лишений. Мы бросили хозяйство, бросили своих родных, но это была не наша воля, не наше желание. Семиреченский фронт создался по тем же причинам, как и другие фронты, но, несомненно, усилился он благодаря действиям первых партизан-командиров, действия которых ныне порицаются Советской властью. Действия бывших партизан-командиров заставили восстать некоторые станицы на защиту своих личных и имущественных прав, благодаря чему и обострилась братоубийственная гражданская война, которая длилась в Семиречье два года и унесла немало лучших молодых сил, которым уже нет возврата; но ведь буря революции прошла не в одном Семиречье, а во всей России, только волна ее до нас докатилась позднее, чем в центре, так как мы слишком оторваны от центра, а потому и вполне понятно, что и война у нас закончилась позднее, чем на многих других фронтах. Правда, во время революции было немало жертв, но эти жертвы были неизбежны, как и во всякой революции, не мы первые, не мы и последние переживали и переживаем это историческое событие.
В то время как в центре России и отчасти в Туркестане жизнь наладилась и начались работы по изживанию экономической разрухи, мы в Семиречье вели еще братоубийственную войну. Опять повторяем, что это ввиду нашей оторванности. Но вот, наконец, докатилась и до нас эта волна – стремление к порядку.
Мы, находившиеся в городе Копале, когда к нам приехала делегация от Красной Армии с предложением сдать оружие, – мы, откровенно говоря, относились с большим недоверием к тем сведениям о положении в России, в которых теперь убедились, а еще с меньшим доверием, что отношение лично к нам изменилось и что они пришли к нам не как враги, а как братья. Вот, когда был решен на другой день вопрос сдать оружие, то многие из нас, когда красные войска вошли уже в Копал, с затаенным дыханием ждали: «Что с нами будет?» Но ничего с нами не было. Нас партиями отправляли в Верный, где мы все в данное время и находимся. Казаки свыше 30 лет распущены на работы по своим станицам, а до 30 лет – мобилизованы.
Многие из офицеров уже поступили на службу в Гавриловке, в Карбулаке и Верном.
Может быть, многие из вас зададут вопрос: «Почему же так резко изменилось в Семиречье отношение к нам, казакам, когда еще не так давно (каких-нибудь полгода) по нашему адресу неслись угрозы? Дело в следующем: в данное время центр позаботился и о нашей окраине и прислал своих революционных деятелей – опытных, видавших, как наладилась жизнь в центре и в Туркестане, которые приняли все меры и принимают, чтобы как можно скорее наладить нормальную жизнь, восстановить хозяйство, а также и урегулировать отношения между крестьянами, казаками и мусульманами.
В данное время в Верном начал работать Казачий отдел, состоящий исключительно из казаков, который принимает самые экстренные меры для выяснения: какие нужны средства для восстановления разрушенных хозяйств казаков, а пока как единовременное пособие для удовлетворения самых важных нужд испрашивает большой аванс. В данное время наши, казалось бы, бывшие враги, а теперь братья-крестьяне иначе к нам относятся, чем в 1918 году, в чем опять-таки не их была вина, а вина тех, кто хотел розни между нами и ими.
Настал момент забыть все прошлое. Заблуждалась как та, так и другая сторона! Пора начать новую, дружную жизнь и общими усилиями создать благополучие страны. Продолжение же войны затянет восстановление хозяйства: это должен помнить каждый.
К вам, братья казаки, обращаемся мы, которые вместе с вами рука об руку дрались против Красной Армии: забудьте все, что было началом войны, и придите на свои старые места, начните новую, тихую жизнь, идите смело и не бойтесь, что кто-нибудь вам будет мстить и наказывать. Нет этого, нет и не будет.
Верно, что и здесь жизнь не так уж гладка, конечно, исключения есть, и, может быть, будут единоличные ошибки и проступки, но против них Советская власть борется самым решительным образом.
Итак, братья казаки, забудьте все, сложите оружие, как сложили его мы. Идите к нам, и вы не ошибетесь, поверив нам.
Бывшие: командир Приилийского полка войсковой старшина Бойко.Командир Алатовского полка войсковой старшина Захаров.
Пропечатали мы его в своей «Правде» и, кроме того, наготовили целую кипу листовок. Из пленных казаков выбрали особую делегацию для посылки в Кульджу к белым казакам. Дали нашим делегатам инструкции, писаные и неписаные, вручили эту кипу листовок-воззваний, связали их, делегатов, круговой порукой с оставшимися, особенно с теми, кто их выдвигал и рекомендовал, пощупали в особом отделе их благонадежность и отправили.
Кроме того, дали им на руки массу писем для белых казаков от жен, отцов, братьев, детей… На эти письма (просмотренные, разумеется, особым отделом) мы возлагали особенно много надежд, – так они были трогательны и убедительны, так настойчиво умоляли прекратить борьбу и так явственно разуверяли в зверствах большевиков. Делегация уехала.
А скоро сказались и результаты предпринятой кампании, – казаки самотеком пошли из Китая в Семиречье. Напрасно Щербаков издавал приказы один другого грознее или милостивее: остатки белой армии разлагались, казаки в одиночку и партиями направлялись к Верному.
С пленниками пока дело было закончено. Казаки и офицеры были распределены. Теперь, через годы, – не знаю, верно ли, – услышал я, что Бойко все-таки не удержался, восстал против Советской власти, был пойман и расстрелян.
Диво ли, что в те годы на окраине, столь глухой и далекой, как Семиречье, не все благополучно было и в нашей партийной организации. Пролетариата промышленного здесь мало, почти вовсе нет. Местная беднота темна и забита вековым гнетом, смердящей эксплуатацией. Кулачки-колонизаторы – плохие кандидаты в большевики. Наезжая «культурная» часть населения – то чиновники, то торговцы, то прогорклая, обывательская интеллигенция. Откуда быть, из чего родиться «железной когорте революции»? Но партия существовала. И были в ней такие ребята, что ими гордиться могла стальная большевистская армия. Но таких – единицы. А большинство, масса партийная была в значительной мере случайная, невыдержанная, малосознательная. Для характеристики возьмем несколько беглых фактов.
Перебросить какого-нибудь партийца с одной работы на другую помимо его личного желания – это целое событие. Для этого надо много настойчивости, хлопот, угроз, обещаний, гарантий. Иначе: – Уйду из партии!
Как-то задумали редактора областной газеты перевести на работу в трибунал. Обсуждали в комитете партии, областном ревкоме, признали, что, кроме него, в данное время другого подходящего нет. Сообщили. Заупрямился. Напомнили снова. Отказывается. Приказали. Не идет. Что будешь делать? Выкинуть? Но он сам предупредил события: подал заявление… о выходе из партии! Это редактор-то областной газеты! Так сказать, руководитель, в некотором роде, общественного мнения всего Семиречья! Ну, конечно, мотивировал, доказывал, клялся в верности идеям, партийному комитету, клялся своей убежденностью и т. д., и т. д. А из партии все-таки ушел.
– Не согласен!
Затем был некий Лавриненко – чуть ли не секретарь Верненского укома. Наделал такую массу мерзостей, что угодил в трибунал, судился и… приговорен к расстрелу. Партийная организация по поводу приговора подняла такую бучу, что можно было подумать, будто она отстаивает какого-нибудь славнейшего борца революции. Лавриненко расстреляли. После него осталось огромное состояние, по тем временам что-то на несколько миллионов рублей.
Приговорили в Джаркенте одного коммуниста к нескольким месяцам тюрьмы или взамен к уплате двух миллионов рублей. Сумма была поставлена просто невероятная… И все же он внес ее чистоганом.
Коммунисты-джаркентцы засевали по десяткам десятин опия, торговали с Китаем, наживали капиталы.
Торговцы в партии – вообще по тому времени в Семиречье явление заурядное.
Помнится, выбрасывали из партии таких, что жестоко колотили жен, были истыми зверями в семейной жизни.
Местничество и семиреченский шовинизм были невероятные.
– Семиречье для семиреков! – вот лозунг, явно высказывавшийся или тайно лелеявшийся огромной массой семиреченских коммунистов.
И чему же дивиться, что такая масса в критические моменты, в те дни, когда надо было объявить особую выдержку, стойкость, сознательность, оказывалась гнилой, никуда не годной.
Вот прикончился Семиреченский фронт. Стали армию частично распускать домой: тридцатилетних и старше – в первую очередь. Коммунисты остаются по местам! Во всяком случае, впредь до особого распоряжения. Не тут-то было: партиями начали открещиваться от своей принадлежности к большевикам, чтобы только уйти теперь же в деревни. Вырабатывали разные резолюции, требования, постановления. Эту благодать слали в Верный. Ставили ультиматум. Даже «цвет» партии, высшие комиссары, и те стали наскакивать на Верный со своими требованиями немедленного роспуска.
Мы издаем приказы один за другим:
«Стой. Остановись. Не разбегайся!!.»
А тем временем в обкоме постановили провести двадцатипроцентную мобилизацию новых сил и послать их на смену бегущим или готовым удирать. Когда об этом узнали в полках – чуть смолкли. Обождали. И многие дождались до смены. Но много партпублики и разлетелось, открестившись на веки веков от партии.
Вот на этом испытании мы увидели с особой очевидностью, что даже на партийную часть армии крепко положиться не можем. В дни испытаний они могут очутиться не с нами. Тогда-то и зародилась мысль: прежде всех дел, спешнейшим порядком пропустить хотя бы через самые краткосрочные курсы возможно больше партийцев. Трехмесячная партшкола, двухнедельные курсы на русском и такие же на национальном языке – вот она, хоть чуточная подмога! Вопрос с занятиями встал как боевой и ударный. Алеша Колосов взялся за дело горячо – ему поручили. И по полкам, по бригадам забарабанили тревогу. Но не было, не хватало сил – тут наше главное несчастье.
Тем временем из пленных мадьяр, австрийцев и немцев создали «роту интернационалистов», готовя хоть какую-нибудь надежную силу на всякий случай. Коммунистов верненских объединили в коммунистический батальон. Партийная школа тоже кое-что значит и к тому же наполовину вооружена.
Когда подсчитывали силы, получалось несколько сотен как будто верных, более или менее надежных бойцов.
Готовились. Видели и чувствовали, как надвигаются грозные события. А центру, Ташкенту, то и дело бубнили о своей беспомощности, об отсутствии надежной, воистину своей, вооруженной силы. Но что же он мог сделать, чем помочь?
«Эти три части (то есть рота, комбатальон и партшкола), – писали мы центру в майском докладе, – должны составить при новых, могущих возникнуть осложнениях нашу опору».
События шли на нас неотразимо – их жаркое дыхание мы чувствовали еще за месяц до беды. Предпринять меры? Мера здесь только одна: силе противопоставить силу. Это и торопились сделать. Но из худого теста, видно, не сделать доброго хлеба!
«Войска Семиречья, – писали мы в том же докладе, – состоя из местных жителей, казаков и середняков, представляют собой хулиганскую, весьма трусливую банду, зарекомендовавшую себя в боях чрезвычайно гнусно. Их привычка ставить всевозможные ультимативные требования сразу была бы уничтожена, если бы могли противопоставить силу этой банде. Для всего Семиречья было бы вполне достаточно иметь шесть-семь тысяч центральных войск, чтобы отбить какую бы то ни было охоту у кулаков проявлять себя героями дня и быть постоянной угрозой мусульманскому населению. С подобной военной силой чрезвычайно трудно проводить всевозможные мероприятия, а особенно мобилизацию транспорта, сбор фуража и пр., так как по всему Семиречью у красноармейцев сватья да кумовья, у которых они, разумеется, ничего не хотят брать и мобилизовать… С этим явлением бороться почти невозможно. И поскольку у нас не будет надежной опоры – сознательной вооруженной силы, постольку все наши планы обречены на неудачное выполнение. Наблюдающееся дезертирство красноармейцев с оружием в руках лишь еще более укрепляет дух и смелость этих «скандалов». И к тому же вооружено все кулацкое крестьянство и казачество, а голыми приказами их не разоружить…»
Или вот, несколькими строками раньше, как мы аттестовали свою армию:
«За Советскую власть семиреченские части борются лишь постольку, поскольку у них имеется несогласие с казачеством и мусульманством; но надеяться иметь в лице этих красноармейцев надежную опору Советской власти, в особенности при ухудшении национальных взаимоотношений, ни в коем случае невозможно. Красная Армия Семиречья представляет собой не защитницу Советской власти, а угрозу мусульманству и отчасти казачеству и готова каждую минуту, помимо всяких приказов своего командования, кинуться стихийно и отомстить мусульманству за памятный 916 год…»