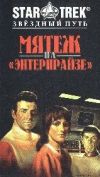Читать книгу "Мятеж"

Автор книги: Дмитрий Фурманов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Когда белые, сами уставшие в борьбе, утерявшие веру в своих генералов, когда они станут перебегать или сдаваться, – помните, что все будет тогда зависеть от вас самих: или вы поможете прикончить фронт, или вы его разожжете, обострите отношения, подтолкнете казачьи части на новые жестокости, на дальнейшую борьбу. Если вы серьезно хотите, чтобы фронт теперь же, весной, был прикончен, – встречайте по-братски переходящие и сдающиеся нам казачьи войска. Не насилуйте. Не издевайтесь. Не глумитесь над ними, – они теперь слишком чутки ко всякой мелочи, крайне болезненно воспринимают всякую насмешку и самую малую обиду. Бойтесь ожесточать их понапрасну. Когда же товарищеским отношением вы дадите им понять, что к пленникам у вас злобы-ненависти нет, что вы принимаете их как представителей трудящихся масс, что вы их скорей-скорей пропустите к труду, к работе, к станицам, о которых и они ведь скорбят, товарищи, – ну, тогда поверьте мне, что эта молва о добром, дружеском приеме промчится по всем казачьим войскам, домчится и в Китай и там разложит остатки войск и их приведет к нам с повинной головой. Относитесь же по-братски к пленникам, дайте им понять, почувствовать, поверить, что вы им больше не враги, а товарищи…
Эти слова помнили. И здесь, в Арасанской, когда вступили, не было насилья, грабежей, расправ. Казаки и жители дивились. Не верили глазам, ушам своим. Они ждали жестокостей – этими жестокостями все время пугали их генералы. Арасанцы радовались.
Сами предложили снарядить из своей среды делегацию, отправить ее в Копал, рассказать копальцам, убедить их, что ей-же-ей красноармейцы не звери, что они сдавшихся арасанцев пальцем не тронули.
Отлично. Делегация отправилась в Копал. И скоро оттуда примчалась весть, что копальцы без боя слагают оружие.
Копальцы выслали встречную делегацию для переговоров, для подписания договора, который обеспечивал бы их от неожиданности. Тоже боялись. Тоже не верили. Даже когда подписали договор, находились такие, что уверяли, предупреждали:
– Что им бумажка, красным? Такие ли они рвали бумажки. Такие ли обещанья нарушали. Вспомните учредительное – они ведь тоже обещали хранить-охранять его, а что сделали? Все порвали, все нарушили. Так нарушат и здесь, у нас. Бойтесь. Не верьте, не верьте…
Но эти опасливые голоса заглушались криками тысяч голосов, требовавших немедленного прекращения войны, немедленной сдачи:
– Будет. Навоевались. Толку все одно нет никакого. Сдаваться теперь же. И больше никаких!!
Волей-неволей казачьи офицеры, вся руководящая головка, были вынуждены идти на мировую, видя, что иного исхода нет.
И вот подписали договор. Были тут разные пункты, в этом договоре, но главным, конечно, стоял пункт о жизни и смерти, о гарантиях, о клятвенном обещании победителей не чинить расправ…
И вот сошлись две стороны: красная и белая. В глухом горном городке, в Копале. Кругом спокойные стояли гигантские котлы серебряных снежных гор, тех гор, по которым, хищно, по-звериному, прорывали в снегах себе дорогу и белые и красные. Налетали вдруг, ураганом. Хитрились, состязались в ловкости обмана, внезапного удара, уничтожения, расправы… Там много в горах братских могил. Еще больше там безмогильных мертвецов, брошенных в сугробы, на съедение зверью. Разъяренные, до нынешнего дня стояли одна против другой две живые стенки; красная и белая. А вот пришел этот удивительный час: когда враги побеждены, когда поверилось, что не будет больше по горам хищной охоты полка за полком, роты за ротой, зоркой стайки разведчиков за другой такою же стайкой. Не надо каждую минуту дрожать и ждать, что откуда-то внезапно, из ущелья или с гор, вынесется нежданный враг и отымет жизнь.
– Теперь – братья.
Стояли две шеренги, красных и белых, одна против другой; белая – с пустыми руками, побежденная; красная – вооруженная, победительница. Одна на другую смотрела и все еще не верила, все ждала неожиданного, какого-то внезапного испытания.
По рядам прокатился шепот:
– Командиры едут… командиры!
Верхами на середину выехали. И стали говорить такие речи, такие слова, которые жгли до сердца, от которых плакали бойцы, закоченевшие, озверелые в дикой горной войне.
А слова, казалось бы, такие были простые, такие обыкновенные, что в другой раз никто на них и не посмотрел бы, не заметил, не почувствовал их:
– Отвоевали… хватит!.. Теперь Семиречье больше не будет знать войны, фронтов, разоренья… Мы вернемся к селам-деревням, к кишлакам и станицам… Каждый возьмется за свое – за то, что он оплакивает вот уж несколько лет кряду, о чем затомился, к чему рвется все эти мучительно трудные годы… Хватит воевать, товарищи! Теперь давайте жить мирной жизнью: кто уйдет к земле – пахать ее, продолжать заброшенное привычное, любимое дело, кто к стадам уйдет – пасти их по горам. У всякого свое дело. И мы вперед не только не станем друг другу мешать в труде – помогать будем, вместе станем работать; так дружнее, так ладнее, на то и Советская трудовая власть устоялась… Ну, так на работу, товарищи! Забудем свою вражду, раздоры недавних дней. Пойдем к семьям, к земле, к труду…
Эти простые слова взмывали до основания, потрясали переболевшие человеческие сердца. Радость – непередаваема. Кричали разом все восторженным криком, потрясали оружием одни и обезоруженными руками – другие, клялись, что больше не станут воевать, что от труда не оторвутся…
Надо было разъяснить. Надо было предупредить, сказать теперь же, здесь, на месте, в Копале, отчего и за что воевали, где причины, как обстоит дело в Советской республике, к чему надо быть готовыми.
– Мы здесь, в Семиречье, кончаем, кончили борьбу, – говорили дальше после первых восторженных приветствий. – Белые генералы и полковники, увлекшие казачество на эту борьбу, оказались бессильны, увидели, что казаческая масса больше не хочет сражаться, идет к земле. Щербаков ушел в Китай… Анненков и Дутов, виноградовские остатки, которых с севера теснят теперь красные полки, – и они уходят в Китай… Мы с вами не хотим войны, но ее могут снова разжечь эти белые генералы. Увлекли же они теперь целые тысячи с собою в недосягаемые для нас пределы китайские. И они каждую минуту могут снова ворваться оттуда к нам, – что тогда?
– Клянемся, что не дадим, не допустим войны! – кричали красные и казаки. – Не дадим!.. Не допустим!!!
– Значит, надо будет снова под ружье, – об этом мы и предупреждаем. Идите, трудитесь, но знайте, что вы можете быть еще и еще раз встревожены вражеским налетом. Это знайте, не забывайте. Потом еще одно: враг не сломлен повсюду, как здесь. Он еще остался и в Туркестане – в Фергане хотя бы, где бесчинствуют басмаческие банды… Враг в Советской России, на польском фронте, на южном, у Врангеля… Когда позовут нас, потребуют помощь, неужели не пойдем?
И здесь, разгоряченные радостью, может, не отдавая во многом себе отчета, кричали:
– Пойдем!.. Поможем!.. Отстоим вместе!..
Настроение было высочайшее, торжественное, потрясающее по глубине, по искренности, по силе переживаний…
Так встретились в Копале недавние враги. Так сдавались тысячи осажденных. Так закончился фактически Семиреченский фронт, осталась только нависшая из Китая угроза внезапного налета скрывшихся там казачьих полководцев. Сколько было, ускакало с ними войска? Этого точно не знал никто. Но когда потом стали подсчитывать вместе с офицерами казачьими, выходило что-то слишком опасно и грозно: до десятка тысяч человек.
Такая сила продолжала оставаться для области, постоянной мучительной угрозой. Надо было как можно скорей и ее обезвредить, ослабить, распылить.
Над этим задумались. Эта задача для красного командования встала теперь как одна из самых главных задач.
Ну, а с пленниками – как полагается: перекличка, переписка, сортировка по различным категориям. Потом партиями – на Верный для окончательного распределения, назначения, использования.
Эта часть работы уже проводилась в апреле – мае. Тут были и мы, в ней участвовали. А что было до того, про самую ликвидацию фронта – узнали по рассказам товарищей, по докладам, которыми отчитывались они перед центром. Белов мне не раз говорил:
– Хоть он, фронт здешний, и окончен, закрыт, а все-таки на дело смотрю я с тревогой. Подумай: осталась вооруженная семиреченская армия – из здешних мужичков, в немалой доле из кулачья. В Копале покричали, порадовались, пообещали, даже клялись кое в чем, самом наилучшем… Но разве же мы на этом сможем построить все свои расчеты? Ухнем. Провалимся, если будем строить. Делу надо смотреть в корень. И когда я в корень посмотрю – вижу: радости – радостями, обещанья – обещаньями, а сама жизнь, действительность семиреченская говорит за то, что семиреки отсюда никуда доброй волей не уйдут. Хоть мы тут пропадай со всей Ферганой, хоть тебе там польские гетманы по самой Москве скачи – клянусь, ей-ей, никуда они не тронутся, семиреки. Теперь что? Теперь они победили. Врага нет – врага повергли во прах. Это где-то кто-то там, в Китае… Ну, раз его, китайского врага, не видят, тут у них большой тревоги нет, не будет пока. А что касается других мест – до Польши, до Врангеля, что ли, – ничего тут не выйдет. Для такого размаха, для такой борьбы – в любую минуту и на любом участке – тут нужна сознательность, большая, серьезная, глубокая сознательность, убежденность. А у них здесь, что ты думаешь, также была глубокая убежденность? Черта два! Просто с казаками состязались: кто кого, чья возьмет? Кому считать себя головой, господином в области? У кого в руках будет настоящая, подлинная сила, кто будет командовать, руководить и кто – слушаться? Вот что – и только это: дорогу себе расчищали к сытости, к тому, чтобы можно было киргизов к рукам прибрать, по-своему ими управлять, отдаивать их, как вздумается… Так что, поверь мне, всего можно от бражки этой ожидать. Тут такие трюки могут разыграться – только ахнешь…
Фронт прикрыт. Что делать армии?
Распустить – это, конечно, самое любое дело, об этом она только и вздыхает и шумит, напоминает своими требованиями, угрозами, посылкой пространных посланий, категорических телеграмм и живых ходоков.
– Баста! Разбили казака. Теперь, фью-фью, ищи-свищи его по Китаю! Шалишь, брат, не на того напоролся – мы те вихры взбучим, переказачим чуб!
– Так ведь не всех побили, – пробует силы какая-нибудь благоразумная голова. – Это тоже не шутка, что по Китаю они бродят, казаки. Что Китай? Китай – вот он, рядом. Скакнут два скока – и снова здесь. Оно того, браток, пожалуй, чуть-чуть и опасно…
– Кому опасно, кому – нет, – гремит непоколебимый победитель. – А нам: тьфу! Как нажарили в хвост – эк тебе, копыта сверкают…
– А все опасно. Вдруг – беда?
– И нет никакой. А што беда – мы тому всегда наготове, штоб встретить ее, потому – оружие навсегда при себе.
– То есть как?
– А так: по деревням.
– И пулеметы?
– И пулеметы.
– И орудия?
– Они самые, а що? Поставим под колокольню, пущай стоит. Как он самый этот казак на деревню, – тут она, пушка, готовенькая, ему по пузу – храп!..
– Да где это видно, чтобы армия с оружием по домам расходилась! Что вы, ребята? Ни к чему это.
– То армия, а то и другая… Мы свое оружие сами добыли, наше оно, с бою у казака вышибли, а потому и отдавать не хотим… Кой черт! Тут, можно сказать, кровь проливали, а потом, пожалуйте, оружие, – мы его себе приберем… Да-с, голыми ручками… Нет, выкуси, на!.. Отдадим, того и гляди!
– Так, братцы, да разве ж можно этак рассуждать? Вы же тут одну дивизию составляете, а разве их мало, других дивизий?
– Нам какое дело?..
– Да не «нам какое дело», а все они, наши дивизии, одно дело делают, все за одно идут.
– Мы казака посшибали.
– Ну и ладно, посшибали – и ладно. А в других местах еще не побили врагов советских, там тоже дивизии. И у многих, быть может, вовсе мало оружия. Тут оно будет у вас под колокольнями стоять, а там…
– Там свое… Нечего тут: одним словом, что мы его тут навоевали, себе его и оставим, потому солдат без ружья – гусь бесхвостый.
– Да, пока он в строю, – упирается собеседник, – в строю ему нужна винтовка, а когда в деревне, при пахоте, тут не винтовкой надо работать.
– Знаем, чем работать, – и угрюмые взгляды досказывают недосказанное: «Отвяжись ты, сатана, все равно не дадим, чего пристал?»
Но как же можно отцепиться?
– Надо оставаться под ружьем, дивизию распускать немыслимо, враг под самым боком, близко враг…
– Ну, мы сами охраним себя. Больно нужны вы тут, понаехали, разные…
– Ребята, что вы?
– А то мы, что отчепись, и все тут… Сами воевали, сами и дальше будем воевать, коли надо, а вас тут никто не звал – сами наехали.
– Но дивизию, дивизию-то – нельзя же просто так по домам распустить?
– Нечего пускать, и сами уйдем…
– Да враг же тут! Он под носом. Он у самой границы. Как тогда, коли силы не будет никакой, когда разойдутся?
– А так и будем, прогоним – и все…
– Нет. Этак, братцы, не годится. Это не разрешение вопроса. К делу надо подходить, осмотрев его со всех сторон, а тут «ура», да и только, – это не дело. И потом, армия может быть использована теперь на разные хозяйственные нужды. Вон, к примеру, на Урале или в Сибири как использованы красноармейцы: они там пашут, крестьянам помогают, рубят лес, сплавляют его, постройками разными заняты, дороги чинят, – это вот дело. Это действительно дело. И главное, потребуйся армия в бой – да вот она, вся тут под ружьем: час работает и строит, а на другой час палит и колет штыком. Вот что значит перевести армию на хозяйственный фронт: одной рукой за соху, а другой за винтовку. И мы здесь получили задачу – семиреченскую Красную Армию сделать трудовой…
Вы стоите в ожидании. Вам нужен ответ. А ответа нет. Отвечают только насмешливые да озлобленные взгляды, потом кто-нибудь прошипит язвительно:
– Неча учить – работать сами умеем!
Этак встречала масса красноармейская новую весть о переходе на трудовое положение. Командный состав, за исключением пяти-шести человек, смотрел на дело глазами массы. Коммунисты армейские слабо или вовсе не восставали против этих настроений, а многие даже крепко их поддерживали, оправдывали, присоединяли свои голоса.
– Беда, Панфилыч, – говорю Белову, – никакой тут у нас трудовой дивизии не выйдет…
– А ты еще только теперь очухался, – усмехнулся он, окусывая рыжий колючий ус. – Погоди-ка, они еще митинговать начнут: пахать сегодня али не пахать, рубить али не рубить; они тебе такую трудовую покажут – не обрадуешься. На мой взгляд, – сказал он серьезно и крепко, – ничего из этого не выйдет, ровно ничего. Разве только отдельные части малые, где и командир хорош, да и то на время – разбегутся…
– Но ведь делать же надо что-то. И делать теперь вот, не откладывая, иначе и того хуже может выйти…
– Надо. Я не про то. Только надо так сделать, чтобы без ошибки. Я, знаешь ли, до твоего еще приезда вот что Ташкенту предлагал: всю нашу армию по домам – марш… Пущай идут отпущенные, чем ждать, как сами побегут. Раз только станем отпускать, тут и условие можно ставить, например: чтобы оружие в полку оставалось, чтобы на случай собрать можно было всех снова… А тем временем сюда чтобы подоспела надежная, хорошая дивизия. Вон, слышно, наши с севера идут, из Семипалатья… Ну, как подойдет – отчего тогда и мобилизацию не заявить? Год за годом, так и пошло, тут не откричаться, коли у нас дивизия будет верная под руками…
– Ну, и что тебе центр ответил?
– Отказали…
Я знаю, что Панфилыч всегда обдумывает разом несколько планов: сорвется один – другой наготове, другой не удастся – третий в запасе.
– Надо попытаться, – говорю ему, – осуществить вот то самое, о чем мы толковали в ревкоме: лес сплавлять на Алматинку да на Чуйскую долину, на орошенье.
Панфилыч будто впервые слышит эти планы – в глазах у него не то недоверие, не то изумление: ничего, мол, из этого не выйдет.
А на самом деле он уже не первый день наводит справки, узнает о размерах хозяйственных нужд и на Алматинке и на Чу, узнает, где какой имеется инструмент, сколько его и насколько он пригоден сразу к делу, куда и сколько потребно народу, – словом, проводит всю ту черновую работу, с которой начинается организация дела. И тем временем по полкам выяснялось: сколько где плотников, каменщиков, слесарей, прикидывались примерные цифры и людского специального состава и инструментов, что были по инженерным ротам, у саперов или просто в хозяйственных командах, у каптенармусов и даже у рядовых бойцов; выяснялось наличие и перевозочных средств – и у жителей и по дивизии: тут работали совместно некоторые дивизионные ребята с представителями «власти на местах» от уездных ревкомов и военкоматов.
Черновая начальная работа не дремала – работа по выяснению и подготовке. Было лишь окончательно ясно одно: как только затеем переброску из уезда в уезд, как только задвижутся полки, оставшиеся без дела и страстно рвущиеся по селам и деревням, лишь только узнают они, что распускать не предполагается, а закрепляют их на хозяйственную работу, – каюк: разбегутся. А то и похуже что-нибудь. Уж если и давать какую работу, так только на месте, там, где стоят они теперь, полки. Обождать хоть некоторое время, хоть месяца два продержать в труде, который, быть может, ослабит малость это стихийное рвенье по деревням, – тогда можно будет затеять и переброску. Втянутся, вработаются, приучатся считать это трудовое состояние дивизии столько же естественным, как естественным считалось доселе ее боевое состояние. Словом, на худой конец, требуется месяц-два для изживания демобилизованного порыва. А ежели и тронут, так лишь те незначительные части, в которых можно быть уверенными, – этих можно слать и на Чу и на Алматинку.
В докладе реввоенсовету писалось:
«Красная Армия освободилась от своих обязанностей, и с нею надо делать что-то теперь же, не откладывая дела в долгий ящик. Я уже вам сообщал о ее специальном составе, о военных ее качествах и о преобладающих среди нее настроениях. Прорвавшись к своим селам, она охвачена единым и страстным желанием осесть на месте и никуда не двигаться, распуститься. Она при данном положении никоим образом не может подняться до сознания задач более глубоких и более широкого масштаба, нежели масштаб семиреченского фронта. Ни политической работой никудышных работников, ни потакающим комсоставом – ничем невозможно ее переродить, переубедить и заставить ее действовать вопреки узко местным, свойским интересам. Она до поры до времени неподвижна, а если и двинется, то стихийно, вразброд, по домикам, да к тому же и с оружием в руках. Остановить это возможное разбегание некем и нечем. При таких условиях переход ее на трудовое положение почти невозможен. Он возможен лишь частично и в местах расквартирования войск…»
И несколько ниже по другому поводу сообщалось предостерегающе:
«…Рекомендую вам принять внеочередные меры, иначе не получилось бы крупной неприятности. Мы не чувствуем под собой фундамента, не имеем силы, на которую могли бы надеяться, а при случае – опереться. А пора бы разоружать кулаков и казаков, припрятавших оружие по селам и станицам. Необходимо сменить пограничников, но заменить их некем…»
Так сообщалось Ташкенту в половине апреля. Предостережения, опасения эти оказались пророческими. Нам ясно было уже в те дни, что вся перетасовка дивизионная даром не пройдет. Положение было до конца очевидное: дивизия настроена бунтовщически и самостийно, из Семиречья уходить никуда не согласна, рвется теперь, по окончании фронта, по деревням и чувствует, знает, что удержать ее никакая иная сила не может: Семиречье за горами, далеко, за сотни верст. Да и откуда, мыслилось семиреками, возьмут такую силу, которая направилась бы на них?.. Да и станут ли это делать вообще, не махнут ли рукой, не скажут ли:
– Семиреки свое дело сделали – пусть рассыпаются по деревням!
Поэтому самоуверенности – хоть отбавляй.
Полки и слушать не хотели в эти переходные недели о каких-то дальних перебросках, о каком-то длительном закреплении на хозяйственном фронте. Мы сообщили центру. Но, сообщая, знали отлично, что центр живой силы дать нам не сумеет, не сможет, ибо нет ее у него самого, – вся она до конца использована в других местах. Получалось безвыходное положение. И распускать нельзя, и без движения оставлять нельзя дивизию, нельзя и перебрасывать: куда ни кинь – все клин. Шли мы по наименее опасному пути: теперь же стремились немедля вовлечь полки в трудовые процессы на местах, не выходя из своего района, оттягивая под разными предлогами окончательные разговоры о возможном или невозможном роспуске по деревням; тем временем распустить наиболее старые года – осторожно, постепенно, растягивая, разоружая; усилить до предела политическую работу теми немногими силами, которые могут оказаться полезными; торопить всячески северную дивизию или вообще какую-нибудь надежную силу, которая своим появлением в Семиречье укрепила бы наши позиции, дала бы нам возможность использовать и нашу дивизию не в интересах только семиреченского крестьянина или казака, а в интересах всей республики, как использованы какие-нибудь батальоны рабочих Питера, Москвы, Иваново-Вознесенска, как использованы где-нибудь на Беломорье тульские мужички или поволжские крестьяне по ледяным сибирским тундрам… Но это возможно сделать лишь тогда, когда почувствуем себя твердо, а до тех пор – о, до тех пор держаться выжидательно и вести подготовительную оборонительную работу, отражая наиболее опасные натиски отдельных неспокойных частей.
А тем временем будили и звали всю область на борьбу с хозяйственной разрухой, – изо дня в день об этом писали в газетах, разбросали по армии и области десятки тысяч воззваний, охрипли по митингам и заседаниям, напрягались до предела.
– Товарищи, – звали и разъясняли мы, – фронт прихлопнут, но враг еще жив, не пропала опасность. Не ослепляйтесь победами, но и не теряйте ни часа, – используем эту короткую передышку для борьбы с хозяйственной разрухой. Тыл у фронта просит подмоги: и людей, и опыта, и материальных средств. Чем можем – айда на помощь! Будем бережно, заботливо относиться к народному хозяйству. Будем помнить, что наше оно, не господское, что сами должны мы его теперь оберегать, и укреплять, и растить. Помните это в повседневной своей борьбе, и пусть каждый ваш шаг, каждое ваше действие будет пронизано сознательной этой заботой о народном хозяйстве.
Не век мы будем воевать. Уж близко время, когда разойдется по домам Красная Армия, разбив врага на последних участках. Останется только охрана республики. Мы вернемся с вами к труду, к мирному труду, которым жить хотим, – к пахоте, к заводу и фабрике, ко всякой иной работе. Ведь не вечно же будем мы воевать, – мы воюем лишь для того, чтобы начать скорее трудиться. Для труда воюем, для мирной жизни. И когда вернемся, как дорог нам будет каждый поломанный винтик, как пожалеем мы, что он поломан: все пригодится, все потребуется, обо всем станем горевать, когда вернемся к труду. Пока война, где тут охранять и заботиться об этих винтиках, – тут, конечно, многое гибнет неизбежно и даже с пользой для конечной цели. Там над винтиками думать некогда, а теперь – проникнитесь теперь, товарищи, этой заботливостью, этой бережностью, которая поможет нам преодолеть трудные времена. Помогайте ревкомам, советам, гражданским работникам: поймите, что у них и у нас интересы одни, что работать надо сообща. Надо нам срастить фронт и тыл, так срастить, чтобы поняли мы друг друга и чтобы дальше не было тех непримиримых разногласий, что были до сих пор, в боевую страду, когда подчас тянули каждый к себе, один с другим не считался, один другого слушать не хотел, смотрел на дело только с своей колокольни. Ближе друг к другу. Сращивайте фронт и тыл, красноармейца с крестьянином, киргизом, казаком, с городским работником. Объединимся. Используем эту, быть может, кратчайшую передышку с пользой для дела, отдадим свои силы на хозяйственный фронт. Дружескими усилиями – вперед, товарищи, к труду!
Такими элементарными разъяснениями старались мы бередить армию и область. И не без пользы. Особенно там, где имелись надежные ребята. Никаких перебросок пока не затевали. Торопились на местах стоянок найти работу и поставить на нее бездельничавшие, разлагавшиеся от безделья полки и батальоны. С ропотом, с протестами, нехотя, бранясь и проклиная порядки и непорядки, заворочалась семиреченская армия, зашевелилась, полегоньку стала внюхиваться в то, к чему ее, ленивую и ворчливую, подводили.
– А слышь, браток, на ерманский фронт, надо быть, отсылать станут.
– Каво?
– Вот те каво – всех, а нас с тобой первым делом.
И красноармеец ухмыльнулся, сощурив лукаво глаза, высматривая – какое впечатление на собеседника произведут его хитрецкие слова.
Развалившиеся около, дремавшие товарищи приподняли головы:
– Брешешь, гад!
– А и не брешешь! Приказ на дивизию получен, будто поработать немного, а там и в дорогу собирать, на ермакскую…
– Какой там ерманский, – нет его вовсе…
– То-то есть, – уверял зачинщик разговора, – мы тут живем – ничего не знаем, ан и есть он, ерманский-то, да, надо быть, поляки все…
– Поляки?
– Поляки. И всю силу гонют туда. И нас туда. Из Ташкенту прибег земляк на Косую горку, сказывал, что силы гонют туда видимо-невидимо, потому – поляк…
– Гм… Ето што-то, тово… Только мы свое дело, братцы, сделали – баста!
– Знамо… Вот ищо!.. Ну, так уж…
– Тоись во как сделали, а?
Вздернулись задорно носы, носищи и носишки на самодовольных загорелых, обветренных лицах.
– Вон она, поляк-то, – пишут из деревни, что ни на што не похоже, развалилось все: чинить некому, покупать не на что, а и жрать нечего подходит…
– Так зато – разверстка, – ввернул кто-то ядовито.
– От она, ета разверстка, все кишки наружу вывернула, последний, можно сказать, хлеб начисто отбирают… Сукккины дети!..
– Тоись грабеж один – и удержу нету никакого. Вот придем, мы им покажем разверстку, мы им…
Говоривший скрежетнул зубами и глазами досказал давно перезревшую мысль.
– Алешка, подь-ка сюда, – окликнул он стоявшего поодаль паренька, – ты вот в партию записался, подлец, ну, а как ты нащот разверстки, – што же, так грабить и будут?
Алешка в партию недавно попал за компанию с другими, а насчет разверстки и сам думал заодно с ними.
– Так вот уж скоро по домам – мы там сами распорядимся…
– Да, вот, сами, а пошто теперь без нас все у семейства отымають?
– Так это уж распоряженье такое, – сопротивляется чуть-чуть Алешка…
– Черт его подери, это распоряженье, а нам надо, чтобы вовсе изменить его. Так ли говорю?
Беседовавшие красноармейцы бурно выражали говорившему свое одобрение и согласие…
– И нечего нас тут держать.
– Потому окончили все, – вставил угрюмо сосед, – а раз окончили, нету казака, – значит, и по домам. Что тут мокнуть?
– Все одно, братцы, на дому будем, да, может, оно нескоро, а бы надо теперь… Теперь надо, потому – весна, вон она, пахота, пришла, а кто там пахать без нас обойдется?
– Верно… Известно дело… Правильно, робя…
– Потому и требовать надо, – продолжает ободренный оратор, – чтобы окончили разом всю канитель да отпустили, а не отпустят, мы и сами уйдем…
– Айда, ребята, до командира…
Все вдруг зашевелились, повскакали на ноги. Кучка давно уже обросла слушателями, превратилась в густую толпу.
– И нечего там рассусоливать, – сказать ему натвердо, что идти, мол, никуда не хотим, а делать нам тут нечего, потому, мол, в деревне дело есть…
– Да остановить киргизу! – крикнул резко голос из толпы.
– Чегой-то?
– А киргизу собирают… из киргизы целую, говорят, дивизию создавать хотят – это, чтобы нам воли никакой не было…
– И все оружие будто им отдают, – ввернулся новый голос.
Лица оживлялись нехорошими, злыми желаниями. Наливались гневные глаза. В голосах – слепая, дикая угроза, буйное возмущение, в порывах – готовность заявить сейчас же делом, оружием, кулаками о своем бедовом недовольстве.
Толпа уже неумолчно шумела, не было в ней отдельно выступавших, которых слушали бы остальные, – каждый стремился и торопился перекричать другого, приводил ему бурно свои доводы, повторял чуть иными словами то, что за минуту сам услышал от соседа. Какой-нибудь летучий слух, какое-нибудь отдельное, вдруг подхваченное сообщенье, фраза, слово перевирались, спутывались, видоизменялись моментально… Толпа кипела все растущим негодованием и протестом, – теперь ее особенно подогревали сообщения о формировавшейся в Верном отдельной киргизской бригаде. Она, бригада, действительно формировалась; было уже созвано не одно заседание по этому делу, были строго распределены все обязанности между разными лицами и учреждениями, – бригада росла у нас на глазах. Командир ее, Сизухин, то и дело сообщал о новых пополнениях: область была оповещена широко, посланы были в разные концы по кишлакам агитаторы, они звали киргизов вступать добровольцами в первую кавалерийскую бригаду, и со всех сторон обширного Семиречья стекались они на конях, иные мало, иные крепко вооруженные. Бригада росла у нас на глазах. Сначала только добровольцы. А позже и мобилизацию объявили. Это был серьезнейший, рискованнейший шаг. Очень свеж еще был у всех в памяти 1916 год: тогда царское правительство пыталось провести мобилизацию националов и встретило в ответ поголовное восстание.
А ну, как и теперь муллы, баи, разные провокаторы разбередят население, подымут его отозваться и на эту мобилизацию так же, как отозвались они четыре года назад?
Но этого не совершилось. Мобилизация была принята так, как мы и сами хотели: без протеста, без осложнений, без признаков восстания…
И как только слухи эти о мобилизации туземцев и о создании Кирбригады[8]8
Киргизской бригады. (Прим. ред.)
[Закрыть] попали в семиреченскую армию, – всполошилась она, затревожилась, запротестовала, заугрожала:
– Нам – оружие отдай, а киргизу – получи, пожалуйста… Чтобы он нами правил? Чтобы он нам за тысяча девятьсот шестнадцатый баню устроил? Нет, наше вам почтение, а оружие мы не отдадим…
– Так ведь, товарищи, среди вас, в армии, разве мало киргиз?
– Ето другая статья – етот киргиз обвык, рядом с нами.
– И эти обвыкнут, которых собираем.
– Э, нет, не обманешь, – хватит, брат, и так натерпелись мы от вашего обману… А киргиза не вооружай… потому – не надо ему оружия. Нашто? Кого тут стрелять? Опоздали, – мы уж сами закончили, а надо будет, так и опять… Без помощников управимся.
Армия волновалась всеми этими слухами – и об ожидаемой переброске «На ерманский… поляка бить…», и о хлебной монополии, о вооружении киргизов, о создании киргизской бригады. Кучками, толпами, целыми батальонами и полками заявляли свое негодование, подступали к своим командирам, предъявляли им разные требования, ставили ультиматумы. Они, командиры и комиссары, присылали нам убийственные телеграммы, по прямому проводу сулили всякие беды, характеризовали свои части как обреченные на восстание…