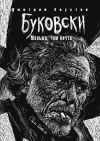Читать книгу "Битники. Великий отказ, или Путешествие в поисках Америки"

Автор книги: Дмитрий Хаустов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Д. Хаустов
Битники. Великий отказ, или Путешествие в поисках Америки
© Хаустов Д. С., 2017
© Ильин В. Е., художественное оформление обложки, 2017
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
***

Дмитрий Хаустов – историк философии, лектор, литератор. Автор лекционных курсов, посвященных классической философии, философии постмодерна, а также отдельным фигурам из мира литературы (О. Уайльд, Д. Джойс etc.)
***
«Я собираюсь рассмотреть историю бит-поколения, сюжеты, с ними связанные, а также – более пристально – портреты главных его персонажей и тексты, которые сделали их главными. А помимо и впереди всего этого я поставлю философский вопрос о том, что такое бит-поколение как таковое, то есть не просто большой агрегат историй, сюжетов, портретов и текстов, но то единство, та фундаментальная несущая идея, которая и собирает весь этот хаос разрозненных частей в единое целое большой культурной традиции – а в масштабах ее сомневаться не приходится. По существу, все, что последует дальше, будет претендовать на решение вот этих нехитрых, но занимательных задач – и дело за вами, чужие глаза, идти следом или лениво уйти в сторону».
Декларация о намерениях
Когда, открывая новую книгу, я сталкиваюсь с авторским предисловием, с навязчивой регулярностью звучащим как оправдание, как извинение или как покаяние, мне сразу же хочется закрыть эту книгу и никогда к ней не прикасаться. Поэтому я не стану повторять чужих ошибок.
У моей книги большая и щедрая тема, и мне было в высшей степени интересно по мере сил в ней разбираться. Для меня мой собственный интерес при написании ее является главным залогом того, что и при чтении ее может возникнуть похожее чувство. Смею полагать, интерес заразен.
Я собираюсь рассмотреть историю бит-поколения, сюжеты, с ним связанные, а также – более пристально – портреты главных его персонажей и тексты, которые сделали их главными. А помимо и впереди всего этого я поставлю философский вопрос о том, что такое бит-поколение как таковое, то есть не просто большой агрегат историй, сюжетов, портретов и текстов, но то единство, та фундаментальная несущая идея, которая и собирает весь этот хаос разрозненных частей в единое целое большой культурной традиции – а в масштабах ее сомневаться не приходится. По существу, всё, что последует дальше, будет претендовать на решение вот этих нехитрых, но занимательных задач – и дело за вами, чужие глаза, идти следом или лениво уйти в сторону.
Коль скоро это призрачное место то ли в самом начале, то ли даже до начала текста будто бы специально создано для слегка шизофренического разговора с воображаемым идеальным читателем (пускай и без идеальной бессонницы), я воспользуюсь им ввиду пары откровений. Вот в чем их суть. Нижеследующее, по счастью, не претендует на научный статус, на значимость литературоведческого высказывания. Положа руку на сердце: я никогда не занимался и не занимаюсь наукой. И если мне позволено как-то характеризовать мой текст как будто бы для других, но на деле только для самого себя, то я бы определил его тональность сознательно нечетко. Скажем, это отчасти документальная проза, отчасти попытка свежего прочтения некоего корпуса текстов, то есть интимный дневник читателя, и, наконец, отчасти культурологический комментарий к нему.
Лучше всего, одним словом, относиться ко всему этому как к некой игре, каковой и является литература. Во всяком случае, сам автор, по его уверениям, относится к своему тексту именно так. В частности, он (то есть я) склонен рассматривать свой объект как миф, а не как определенный свод знаний, позитивно данный в текстах. Впрочем, об этом еще будет сказано.
Битники в США, как и многие другие в Европе той эпохи, как раз открывали в мире игровое, случайное начало, противопоставляя его репрессивной механике официальной культуры, или, по Шпенглеру, цивилизации – вырожденной формы чего-то некогда цветущего, живого, ныне выцветшего и умершего. Вопреки той цивилизации, которая в каждом своем извиве ритуально возвращается к тому же самому, ренегаты-битники, ведомые вечно юным духом протеста и противоречия, направлялись к вечно иному, отличному от глиняных порождений мейнстрима и пыльной позолоты официоза. Это делало их опасными тогда (и господин Эдгар Гувер, цепной пес цивилизаторской нормы, был сильно обеспокоен на их счет), это оставляет их опасными и по сей день.
Конечно, многое изменилось, и цивилизация изобрела новые техники апроприации всего ускользающего и девиантного. Так, старая-добрая наука, на навозе которой данная цивилизация – назови ее хоть Просвещением, хоть Модерном – и взросла, оказалась весьма кстати. Ведь наука действует по тому же самому принципу, что и полиция: иное она редуцирует до того же самого, а если редукция по тем или иным причинам не удается, то иное просто устраняется из существования, как не было. Так: бабочка – не уникальное существо, а представитель вида, индивид – не личность, а носитель определенных анатомических характеристик. Битники – не творцы, а свалка приемов. Наука любит указку, а еще больше – дубину.
Поэтому, если подходить к объекту индивидуально (или, как говорили в прошлом веке, идиографически), то, увы и ах, никакой науки. Мне хочется говорить с битниками прямо, не на казенной академической фене, а без особенных церемоний. Я не имел и не имею и мысли о том, чтобы кого-то к чему-то сводить, меня интересуют люди в их неповторимой единичности. Поэтому, если я вдруг и скажу, что бит-поколение – это нечто вроде американского неоромантизма, сдавшего рынку последние свои грезы, то не стоит принимать мои слова всерьез. Сказав такое, я разве что попытаюсь кого-нибудь подразнить. Кроме того, сказав такое, я сразу же должен буду сказать что-то противоположное: если А есть А, то А не есть А – положим, что это вполне очевидно.
Литература разбитого поколения, и нет нужды это скрывать, доставляет огромное удовольствие. Не меньшее удовольствие, хотя и чуть-чуть иного порядка, доставляет процесс письма об этой литературе. Соответственно, удовольствие от чтения этого «письма по мотивам письма» – вот верный признак того, что всё получилось как надо. Поэтому не будем слишком серьезны: битники являют собой маргинальную, игровую традицию в литературе, поэтому подходить к ним с ученым видом – это как использовать пацифистский знак на вывеске тира. Там он уместен разве что в виде мишени.
Интересного чтения.
Введение: хвост кометы
«В ритуальном или ином виде искусство содержало в себе рациональность отрицания, которое в наиболее развитой форме становится Великим Отказом – протестом против существующего. Формы искусства, представляющие людей и вещи, их пение, звучание и речь, суть формы опровержения, разрушения и преображения их фактического существования. Однако, будучи связанными с антагонистическим обществом, они вынуждены платить ему определенную дань. Отделенный от сферы труда, в которой общество воспроизводит себя и свою увечность, мир искусства, несмотря на свою истинность, остается иллюзией и привилегией немногих».
Герберт Маркузе – «Одномерный человек».
Полвека спустя мир не очень-то изменился – я имею в виду, не изменился качественно, ведь сам принцип качественных перемен, непреложный для многих и многих умов не столь уж далекого прошлого, ныне нашел свое место на пыльной полке какого-нибудь палеонтолога. Умник из XXI века всё понял, он знает, что качество есть не более чем функция от количества, и человек вылупился из обезьяны просто оттого, что обезьяна очень много раз собезьянничала. Так или иначе, в мире по-прежнему идет глобальная война, которую при желании можно делить на многие-многие отдельные войны, а главные битники – практически до последнего – давно уже умерли.
Жив еще мало известный здесь Майкл Макклур – в этом самом году он выпустил книгу, как и все прочие его книги, не доступную на русском языке.
Жив еще Гари Снайдер – тот самый американский буддист Джефи Райдер, о котором написаны «Бродяги Дхармы».
Жива Диана ди Прима, одна из очень ограниченного числа дам в бит-поколении.
Жив, как ни странно, и Лоуренс Ферлингетти.
Амири Барака, он же Лерой Джонс, умер 9 января 2014 года в Нью-Джерси.
Питер Орловски умер 30 мая 2010 года в Вермонте.
Грегори Корсо умер 17 января 2001 года в Миннесоте.
Уильям С. Берроуз умер 7 августа 1997 года в Канзасе.
Аллен Гинзберг умер 5 апреля 1997 года в Нью-Йорке.
Джек Керуак умер 21 октября 1969 года во Флориде. Его называли Королем битников – T e King of Beats.
*
«Это была экосистема, тесно переплетенная с употреблением большого количества наркотиков, истоки которой уходили в джаз и авангард, и корни плотно вросли в традицию богемы»[1]1
Майлз Б. Бит Отель. Гинзберг, Берроуз и Корсо в Париже, 1957–1963. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. С. 88.
[Закрыть].
Они встретились совершенно случайно – или, положим, это была судьба, – и тут-то и началось всё самое интересное. Помимо всего прочего – а всё прочее, – это, в частности, секс, наркотики, преступления и слетевший с благопристойных катушек джаз вместо будущего рок-н-рола (для краткости буду обозначать этот комплекс «S, D & R» n»R»), – помимо прочего, один из них зарезал назойливого товарища и сбросил его от греха в Гудзон. Случай то или судьба, но тело товарища всплыло, и проблемы продолжились. Кто-то сел, кто-то сбежал или написал о случившемся книгу, кто-то убедился в нетрадиционности своих сексуальных предпочтений, но время всё равно собрало их вместе еще раз, потому что праздник должен продолжаться.
Систематически нарушая писаные законы и неписаные табу, они положили начало наиболее влиятельному творческому движению в послевоенной Америке, по размаху сравнимому разве что с трансцендентализмом, слава которого отгремела примерно за сто лет до них. Они оживили американскую поэзию и поэтизировали прозу, использовали в литературе, а то и в самой жизни, свежий и пылкий опыт бибопа, минимализма, экспрессионизма. В своей излишне консервативной культуре они еще прежде всякого Уорхола совершили, сами того не поняв, решительный скачок от модерна к постмодерну с его цитатностью, коллажностью и снятием всех запретов, деконструкцией художественных канонов и конвенций.
Они не мешкая смешали литературу с порнографией и самым пошлым бульварным чтивом, стали фигурантами самых громких цензурных разбирательств со времен своего предтечи Генри Миллера и превратились в официальный кошмар параноидально-маккартистских Соединенных Штатов Америки, удостоившись сомнительной, но лестной чести попасть в число личных врагов Эдгара Гувера, латентного гомосексуалиста и осовремененного инквизитора. Они тащили в родную культуру всё, что лежало плохо или лучше некуда: французский авангард и сюрреализм, русский футуризм, восточный мистицизм и дзен-буддизм…
А потом, не успев и оглянуться, они сами стали степенным мэтрами, которых без остатка растащили на цитаты ретивые эпигоны, о них сняли фильмы от самого низкого до самого высокого качества, о них написали все высоколобые академические исследования, которые можно было написать, и, наверное, за них давно раздали все доступные гранты. Слава одела их в бронзу еще при жизни, но в конце концов все умерли или скоро умрут – такие дела, как сказал бы Курт Воннегут, которому, правда, среди них места не было. Однако процесс интереснее результата, и они знали об этом лучше многих других. Да уж, бит-поколение – это вам не шутка. Это история. Это миф.
*
Именно так: миф, а не просто история (с другой стороны, где вы видели немифологизированную историю?..) Отсюда и до самого конца этой книги я намереваюсь описывать данный миф, с садистским наслаждением копаться в его внутренностях – так что не говорите, что вас об этом не предупреждали. Поэтому для ясности сразу определю, что я буду понимать под мифом. Этот древнегреческий термин, в чем нетрудно убедиться самостоятельно, означает «слово», «рассказ». Миф и есть рассказ, но рассказ особый, с секретом, с ключом. Миф – это рассказ о себе, способ речевой саморепрезентации, о чем знал уже Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф, и тот же Виламовиц недвусмысленно отождествлял такой миф с поэзией. Рассказ о себе: сравни «Легенду о Дулуозе» Керуака – в конечном итоге легенду о Керуаке Дулуозе; Билла Ли, одновременно и персонажа и автора у Берроуза; неформальную интимность инстанции Я в поэзии Гинзберга… Возможно, это гуру Генри Миллер научил своих будущих адептов выстраивать литературу как полноценный миф о самом себе. Возможно, это просто витало в воздухе времени.
Значит, миф – это не рассказ ученого, который повествует об объектах восприятия и законах их существования. Это не рассказ литератора, который повествует о мире своего воображения, даже если последний имеет вполне реальные корни. Миф, в отличие от них всех, не различает самого себя и свой объект. Сам миф и есть свой объект, а вместе и субъект, поэтому центральным свойством мифа как репрезентации является неразличенность. Часто именно это имеют в виду в тех случаях, когда называют миф центральной чертой дикарского сознания. Оно ведь дикое, непросвещенное, потому и неразличенное – дикарю невдомек, где он сам, а где его репрезентация. На деле же – призываю в свидетели Ролана Барта и многих других – миф является чертой любого сознания, нашего в не меньшей мере, чем дикарского. Дело вообще не в истории и не в просвещении, а в позиции, которую занимает рассказчик. В одной позиции он умница, а в другой позиции он дикарь, даже сегодня, даже сейчас.
В связи с этим человеку нетрудно быть и литератором, и мифологом – в один и тот же момент, но в двух разных позициях. Рассказывая историю, он вроде бы выдумывает некий художественный мир и отдает себе в этом отчет, но здесь же и тем же жестом он выписывает миф, рассказ о самом себе. Так один и тот же человек по имени Джек Керуак был литератором, потому что создавал художественный текст под названием «На дороге», но он же был и мифологом, потому что этим текстом он слагал миф о самом себе и своем разбитом поколении.
Пока что довольно теории – она еще будет тешить нас по ходу дела. Так как миф всегда уходит корнями в безвременье, то и у этой гонки нет своего собственного, определенного начала. Сама жизнь есть движение, а остановкой будет, очевидно, лишь смерть. Поэтому мы можем попасть пальцем в небо – и угадать самую суть. Мы можем оказаться где-то в сороковых, когда бит-триумвират (то есть Гинзберг, Керуак и Берроуз) сошелся в Колумбийском университете, или где-то в пятидесятых, когда одна за другой в течение четырех лет вышли три книги, бросившие американскую литературу, как залежалый камень, в самом неожиданном направлении. Хотя мы можем – и кто нас остановит? – оказаться где-то рядом с блаженным Уитменом в его совсем еще юной Новой Англии, а может быть, в точке рождения английского языка – или рядом с Адамом Кадмоном, дающим вещам имена. Мы можем оказаться где угодно, и это будет точное попадание, ведь у этой гонки нет начала, и сама жизнь есть движение, динамика мифа. Сказать, что всё кончено, а мы смотрим на мертвый остаток былого живого события с безопасного аналитического расстояния, не получится. Всё продолжается, всё идет своим путем, своей дорогой. С нас будет довольно, если мы схватим комету за хвост – и насладимся поездкой.
Фактически заканчивается 2016 год, и мало что в его пыльном воздухе напоминает о некогда славном разбитом поколении. Не так давно имели место важные в истории битников юбилеи: полвека с момента выхода поэмы Гинзберга «Вопль», следом полвека с момента выхода основополагающего для всего поколения текста «На дороге» (они были изданы в 1956 и 1957-м соответственно; в 1959-м появился «Голый завтрак»). Не сказать, чтобы по нашу сторону Атлантики эти события были особенно заметны. Несколько позже до нас добрались художественные фильмы, один за другим, призванные будто бы обновить проблематику и поднять новую волну забытой моды на битников. Не могу судить, добились ли они чего-то похожего, ибо фильмы особенно ничем не выделялись, кроме того, что американская политкорректность обязала создателей одного из них содомизировать отставного Гарри Поттера почти что на крупном плане. В остальном ничего особенного.
С какой-то подозрительной регулярностью у нас издается и переиздается Джек Керуак, и, хотя он по-прежнему не переведен в полной мере, мы обладаем почти что достаточным корпусом его основных текстов на русском языке. Страшно представить, кто всё это читает. Мода на беспредельщика Уильяма С. Берроуза, кажется, давно прошла, и теперь его книги довольно непросто отыскать. Видимо, все всё давно прочитали и поняли – и правда, в прозе Берроуза от текста к тексту мало что меняется, поэтому или наслаждайся, или поди прочь. Ни одного полноценного сборника Аллена Гинзберга на русский язык переведено не было. Не лучше дело обстоит со всей прочей бит-поэзией – видимо, поэзия как таковая на особом счету, и проще переводить ширпотребный нон-фикшн про красивую жизнь. Здесь я буду ссылаться на поистине фундаментальный сборник, выпущенный у нас довольно давно легендарным издательством «Ультра. Культура» Ильи Кормильцева – я говорю об «Антологии поэзии битников», где, помимо Гинзберга, представлены прекрасные переводы из Ферлингетти, Корсо, Снайдера, Макклура, Ди Примы, Орловски, Уэлча, Ламантиа, Крили, Данкена, Амири Бараки, Кауфмана и, в дополнение, Керуака, который тоже писал что-то вроде стихов. Достать эту книгу в качестве вещи теперь едва ли возможно, да и кто будет ее переиздавать, но Интернет полнится чудесами, и не мне вам об этом рассказывать.
В целом же я не рискну сказать, что ныне бит-поколение особенно трогает сердце русскоязычного читателя. Той актуальностью, которой всё это обладало когда-то для Бродского или для Евтушенко, для нас исполнены совсем другие вещи. Я склонен усматривать в этом пробел и проблему: всё это значит, что тот специфический опыт, который был прожит, понят и выражен авторами бит-поколения, нами усвоен не был. Это тем более грустно по двум причинам. Во-первых, этого нам не заменит какой-то другой, наш-де специфический и национальный опыт. Опыты – не монета, чтобы обмениваться друг на друга, они всегда единичны и абсолютно оригинальны. Поэтому тот, кто стремится к познанию, является настоящим интернационалистом – он знает, что нет разделения на свое и чужое там, где речь идет о подлинно человеческом. Во-вторых, опыт бит-поколения есть опыт движения к тому состоянию постмодерна, в котором мы все, похоже, застряли на неопределенный срок, и игнорировать его – значит отказываться от рефлексии на тему того, как же мы все оказались в этой западне и что нам с этим делать.
Впрочем, всё это довольно условно. Главное, что мы имеем дело с чертовски хорошей литературой, и этого должно быть более чем достаточно.
*
Разговор о мифе бит-поколения, чтобы отличаться от пустопорожнего пересказа этого мифа, должен учитывать несколько уровней объективации – в пределе их может быть довольно много, но нам достаточно остановиться на трех. Всякий миф предполагает вписанность его в фон большой истории, далее – в ситуативный контекст, наконец, он предполагает ту или иную форму своего выражения. Разложив по этим трем уровням миф бит-поколения, мы получим три направления пути: битники и Америка вообще, битники и американская послевоенная городская культура, битники и литература, как американская, так и мировая. Чтобы разметить территорию, двинемся по порядку.
Америка. При все своем бунте против традиционных ценностей, бит-поколение при первом же приближении оказывается строго национальным явлением, вписанным в американскую культурную и историческую традицию. И дело не только в том, что Гинзберг немыслим без Уитмена, Керуак – плоть от плоти уже позабытых повествователей о старателях и героях фронтира, не говоря уже о динамическом гимне по имени «Моби Дик», Берроуз же не скрывая того наследует дешевой приключенческой литературе и массовой культуре вестернов, гангстерских историй и комиксов. Дело скорее в том, что чисто американским и в этом неповторимым) является опыт нового человека на новой земле, Нового Адама с обновленным телом и чистой безгрешной душой, избранного среди всех прочих детей этого мира и стоящего один на один с сокровенным Богом, опыт завоевания Царства Небесного на земле, обретения Царства Целей – в невиданных доселе условиях равенства, защищенности, всеобщего и освобожденного труда, справедливого воздаяния по закону и торжества индивида с его правами и обязанностями. В этом смысле Америка есть все сны Европы за все времена, собранные воедино и в один прекрасный день отправленные в некой бутылке за океан прорастать на сказочно плодородной почве. И оба эти момента – момент филиации и вместе с тем момент разрыва – являются конститутивными и необходимыми для американского опыта исторического существования.
Пускай Европа и чувствует себя немного обобранной в лучших своих начинаниях, она не может не радоваться, пусть даже скрывая это, тому, что новый хозяин мира с самой большой дубиной корнями всё-таки европеец. Житель Соединенных Штатов, в свою очередь и при всем своем солипсизме, не остается безучастным к судьбам Старого Света, потому что на уровне инстинкта ощущает тихое, но всё-таки что-то отчетливо нашептывающее родство. Ну да, тут еще деньги и власть… Это похоже на молодого карьериста, уехавшего в большой город из своей родной деревеньки: хоть в городе бурная жизнь и так хочется забыть о чумазом прошлом, но сердце порою болит о том, как там забытые старики да родное гумно.
Одним словом, это американское новое является и хорошо забытым европейским старым – поэтому собирательный образ американского писателя немыслим без обязательного и часто долгосрочного путешествия на историческую прародину, в какой-нибудь Париж или, реже, в Лондон. Поэтому, аккумулируя базовые американские мифы, бит-поколение по необходимости должно отсылаться и к более древним европейским, даже индоевропейским архетипам. Попытка, скорее всего бессознательная, удержаться на пике этой двойственности – наследования и разрыва – создает продуктивное и вместе с тем деструктивное напряжение как среди битников, так и во всей американской культуре, в иные моменты оборачиваясь проблемой, в иные – удачей.
Многое из того, что встретится нам впоследствии, будет построено на этом «двуличии», точно у архетипического Януса, и вряд ли кому-то удастся так уж легко, схватившись за волшебную палочку диванной диалектики, разрешить это сущностное противоречие. Здесь же нам важно зафиксировать следующее положение: понимание бит-поколения движется в русле понимания Америки, а эта дорога может завести далеко – дальше, чем хватит нашего взгляда.
Послевоенная ситуация. Бит-поколение, как и любой феномен природы и культуры, имеет свое место и свое время, хотя кто-то решит, что всем им место в вечности. Место – это большой американский город с его инфраструктурой и индустрией, с его пестрящим социальным расслоением, с его всепобеждающей холодной рациональностью и непреодолимым отчуждением. Это Нью-Йорк, это Денвер или Сан-Франциско, топос, наметанный по живому, расчерченный грифелем цивилизованного разума на карте репрессированного мира природы, мира поруганного естества, отныне обреченного служить для города-гегемона или верхарновского города-спрута чем-то сродни бессознательному, двойнику или тени, в которых как в долгом ящике собраны сказки, желания, страхи и бред позднего городского жителя.
Время же – после Второй мировой войны, для кого-то Великой и Отечественной, для кого-то, как для американцев, не такой уж и значимой исторически, однако предельно успешной коммерчески, если рассчитать соотношение прибыли в валюте и потерь в солдатах. Соединенные Штаты малой кровью завоевали большое господство. 1940-е и 1950-е годы – не позже, когда культурный и политический ландшафты вновь меняются, занося в свой бестиарий совсем другие движения, течения и направления, приливы которых не оставят от битников и следа. Но пока что, в 40-х и 50-х, тянется сытое время, охваченное своей, тоже сытой, паранойей – время победы среднего человека из среднего класса с его средним телевизором, средним автомобилем и очень средним пригородным домом. Мир обывателя, мир цивила (square), цивилизация бэббитов – по имени собирательного персонажа Синклера Льюиса. Вотчина милого президентствующего генерала Эйзенхауэра, старины Айка, рай для так называемого молчаливого поколения, вооруженного микроволновками и телевизорами. Как говорит режиссер Джон Уотерс в документальном фильме о Берроузе «Человек внутри», «1950-е – это худшее время, потому что ты должен был быть, как все».
Торжествует нормальная американская семья с ее нормообразующими ценностями, а на высоком политическом уровне зеркалом их выступает та идеология, которую эти вассалы бессмертной нормы оказываются в состоянии понять и принять. Совсем по-хозяйски чувствует себя пронырливая цензура и железные моральные ориентиры, а также, к примеру, сенатор Маккарти и Эдгар Гувер, которые превращают внутреннюю политику страны в полигон холодной войны и насаждают старую добрую тактику охоты на ведьм по всем стратам американского общества. Само собой, в советской идеологической историографии было принято изрядно преувеличивать все сатанинские кошмары той эпохи (по принципу «чья бы корова»), но приятного там, право же, было мало. На тех моих либеральных соотечественников, которые и до сих пор полагают, что в те времена плохо было только в Советском Союзе, американский интеллектуал тех лет посмотрел бы с презрением как на идиотов – они и есть идиоты, поэтому я жму руку американскому интеллектуалу.
«Вторая мировая война и время Великой депрессии остались позади, и Америка пришла в движение. Окраины городов повсюду застраивались домами. Новые машины со сборочных конвейеров скатывались на новенькие тротуары. В целях обеспечения национальной безопасности были построены системы магистралей, соединяющих штаты и протянувшихся от одного океана до другого. Обеды из полуфабрикатов, презентация которых состоялась в 1953 году, появились в каждой духовке.
“Отличная жизнь, правда, Боб? – произносит мужчина из рекламы 50-х годов, где молодая чета со своим сыном, у которого волосы торчат как пакля, сидит на диване и смотрит телевизор. А завтра будет еще лучше, и у тебя, и у всех людей”»[2]2
Де Грааф Д. Потреблятство: Болезнь, угрожающая миру. – М.: Ультра. Культура, 2003. С. 49–50.
[Закрыть]. Всё это, как бы там ни было, культура – и отсюда нетрудно понять, почему с приходом на авансцену мятежного бит-поколения в моду входит термин «контркультура». Действительно, можно было бы взять нормального американского обывателя той поры, этакого квадратного Бэббита, ко всем его стандартным характеристикам прибавить отрицательную частицу и получить типичного битника. Там, где нужно было чтить Христа, битник обращался к буддизму. Там, где коммунизм объявлялся главным пороком рода человеческого, битник считал себя последователем Маркса или Троцкого (но не Мао – этим промышляли только во Франции). Там, где нужно было заниматься спортом, битник пил и употреблял наркотики (хотя вслед мог и позаниматься спортом, с него могло статься – S, D & R» n»R & S). Там, где социальным идеалом выступала крепкая семья, битник уходил в оголтелый промискуитет или чего доброго предавался богомерзкому содомскому греху, который среди деятелей бит-поколения миновал только избранных (Грегори Корсо вспоминает, как он обрадовался, узнав, что Джек Керуак – не гей). Там же, где дядюшка Сэм пророчил тебе прочную карьерную лестницу, где национальным героем считалось что-то вроде новоявленного президента США Дональда Трампа, ты, будучи битником, угонял машину и рвал побираться в какие-то богом забытые южные штаты, пропахшие потом, пустыней и местной сивухой, без царя в голове и без синицы в небе. Словом, битники были настоящими детьми своей эпохи – с той оговоркой, что у них повелось всё-всё делать наоборот. И хотя в нашей культуре с легкой руки одного питерского музыканта корейского происхождения под битником понималось нечто в туфлях на манной каше, в двубортном пиджаке отдающее душу за рок-н-ролл, всё-таки этот образ самую малость неточен, пускай в нем есть какой-то сущностный нерв…
Литература. С ней в Америке свои, особенные и подчас драматические отношения. И здесь, конечно, работали неизбежные законы филиации, и здесь американцам приходилось иметь дело с неотъемлемым и свершившимся фактом европейской культурной традиции, но ведь литература – особая область, в которой более прочего сильна негативная инстанция воображения, о которой речь впереди, инстанция, рассматривающая всякое наследие и вообще любую данность как то, что должно быть преодолено и уничтожено. И пусть некоторые критики даже в конце XIX века рассматривали американскую литературу исключительно через призму литературы европейской[3]3
Результаты тогда оказывались плачевными. Так, пристрастный и язвительный Кнут Гамсун с наслаждением ездит по американской литературе дюжим катком. «Уитмен и Эмерсон были выбраны как лучшие представители литературы своей страны – и это вряд ли делает Америке безусловную честь, ибо один из них – невнятный поэт, другой – автор литературных проповедей» – Гамсун К. О духовной жизни современной Америки. – СПб.: Владимир Даль. С. 109. – «Ральф Уолдо Эмерсон – самый значительный из мыслителей Америки, выдающийся критик и оригинальнейший писатель; все это, впрочем, не соответствует титулу самого выдающегося мыслителя, критика и писателя в какой-нибудь из крупных европейских стран» – Там же. С 76–77.
[Закрыть], всё же именно XIX век стал для американских писателей точкой зарождения совершенно особенной и неповторимой национальной традиции.
Когда-нибудь будет сполна осмыслен тот мистический факт, что рождение американской литературы и появление битпоколения разделяет ровно один век. В 1841 г. Ральф Уолдо Эмерсон выпускает первый том своих «Эссе». В 1850 г. Натаниэль Готорн публикует «Алую букву». Герман Мелвилл пишет совершенно новый, оригинальный американский роман «Моби Дик» (1851 год), аналогов которому просто нет в европейской литературной традиции, Эдгар Аллан По создает оригинальный американский рассказ – и, что беспрецедентно, теперь уже европейцы, например в лице неистового Бодлера, почитают за честь подражать американцам, а не наоборот. Под неоспоримым влиянием классической европейской философии, но с решающим и опять же неоспоримым значением местного национального опыта возникает первая собственно американская философская школа – я имею в виду трансцендентализм, центрированный на Эмерсоне и Торо (в 1849 г. он публикует нашумевшую брошюру «О гражданском неповиновении», в 1854 г. свой эскапистский шедевр «Уолден, или Жизнь в лесу»). Уолт Уитмен совершенно сознательно работает над тем, чтобы заложить основания для оригинальной – демократической, как он говорил, – американской поэзии, в корне отличной от структурированной, иерархичной, дисциплинированной и сдержанной, «феодальной» поэзии старой Европы, и, при многих возможных оговорках и возражениях, ему это удается (сборник «Листья травы» появляется в 1855 г., ровно за 100 лет до эпохальных чтений в Шестой Галерее, о которых ниже).
Словом, в 50-х годах XIX века, за один век до битников, рождается самобытная американская литература, возникают ее собственные характерные черты, ее базовые приемы, тенденции и направления. Будем здесь называть это событие первой волной американской литературы. В начале XX века эта волна не то чтобы разбивается о некие скалы, но довольно существенно изменяет свою изначальную структуру. Юное, энергичное и оптимистическое формотворчество сменяется часто холодным, местами тревожным движением самокритики и ревизионизма. И хотя советская научная литературоведческая продукция ныне во многих местах воспринимается скорее с юмором, нежели с энтузиазмом, всё-таки стоит признать, что правоверные (или просто лукавые) марксистские критики угадывали верно: американская литература в XX веке сильно левеет, уходя от, скажем чуть архаично, формализма по направлению к остросюжетной содержательности, основанной на реалиях тяжелого быта низов американского общества.