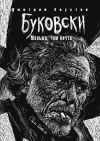Читать книгу "Битники. Великий отказ, или Путешествие в поисках Америки"

Автор книги: Дмитрий Хаустов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Истинному просветителю приходится уговаривать себя в том, что только его проект всесилен, потому что он верен. Ему приходится идти на это, ведь он по-настоящему не может доказать саму истинность своих предпосылок: для этого нужно взойти к каким-то другим предпосылкам, но ведь только его предпосылки дают ему знать, что есть истина, что есть ложь. Обратившись к иным предпосылкам, трансцендируя свой концептуальный каркас, мы этим самым расписываемся в том, что истинность его под вопросом; что в нем можно усомниться; что есть какая-то иная, высшая истина, которой поверяется наша, относительная. Это смертельно для универсализма, как если бы мы сказали: арийская раса, конечно, самая лучшая в мире, но кто его знает, это ведь надо еще как-то проверить… Проверить это, конечно, никак нельзя, ибо в самое основание нашей позиции мы положили не знание, но фантазию – хорошее мнение о самих себе, таких арийских или таких просвещенных.
Всё это не скрылось от таких сверхпросвещенных людей, как Хоркхаймер и Адорно, которые писали свою знаменитую «Диалектику Просвещения» в Соединенных Штатах, вынужденные покинуть Германию, доведенную Просвещением до нацизма. Таким образом, франкфуртцы имели сразу двойной опыт: германского нацизма и американского капитализма, которые, как оказалось, весьма показательно коррелируют один с другим, являясь на поверку детищами одного и того же духа – Духа Просвещения. Корреляция, как выясняется, заключается в той неумолимой диалектике вытесняющего и вытесненного, которая превращает первое во второе, второе в первое. Таким образом, гуманизм и варварство предстают в древнем образе Януса, у которого два лица, но одна голова, которая может в разное время поворачивать к публике разные свои лики.
Посмотрим, каким же образом в эту диалектику вовлекает просвещенный западный мир: «Человеческая обреченность природе сегодня неотделима от социального прогресса. Рост экономической продуктивности, с одной стороны, создает условия для более справедливого мира, с другой стороны, наделяет технический аппарат и те социальные группы, которые им распоряжаются, безмерным превосходством над остальной частью населения. Единичный человек перед лицом экономических сил полностью аннулируется. При этом насилие общества над природой доводится ими до неслыханного уровня. В то время как единичный человек исчезает на фоне того аппарата, который он обслуживает, последний обеспечивает его лучше, чем когда бы то ни было. При несправедливом порядке бессилие и управляемость масс возрастает пропорционально количеству предоставляемых им благ. Материально ощутимое и социально жалкое повышение жизненного уровня низших классов находит свое отражение в притворном распространении духовности. Подлинной задачей духа является негация овеществления. Он неизбежно дезинтегрируется там, где затвердевает в культуртовар и выдается на руки на предмет потребления. Поток точной информации и прилизанных развлечений одновременно и умудряет, и оглупляет людей»[26]26
Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. – М.: СПб.: «Медиум», «Ювента», 1997. С. 12.
[Закрыть]. Парадокс заключается в том, что Просвещение пронизано удушающей двойственностью: чем богаче, тем беднее; чем свободнее, тем зависимее; чем лучше, тем хуже.
Прогресс означает одновременный регресс, ибо эмансипация разума настолько повязана с древними силами мифа, от который разум и стремится быть независимым, что движение освобождения по необходимости тянет за собой свои сброшенные оковы, ибо тем же жестом подчеркивает свою негативную от них зависимость. Поэтому Хоркхаймер и Адорно утверждают, что уже миф есть просвещение, и просвещение, таким образом, обнаруживает в себе силу мифа. Неслучайно один из центральных персонажей европейской мифологии – Одиссей – одновременно оказывается и первым просветителем, хитрецом и умником, противопоставляющим свободное движение разума иррациональным и темным силам мифологизированной природы (чудовища разума как его иное: циклопы, сирены, морские чудовища). Сон разума порождает чудовищ именно потому, что наполненным чудовищами было самое детство разума, в которое он, по всей психоаналитической строгости, и возвращается, отходя ко сну.
В итоге Одиссей, как и любой будущий просветитель, направляет силу своего проснувшегося разума на природу – исполненный страха по отношению к ее чудовищности, разум пытается перехитрить ее и этой хитростью подчинить природу себе, как Прометей, хитростью же заставляющий богов подчиниться его лукавому умыслу: «Все жертвоприношения, планомерно осуществляемые человеком, обманывают того бога, которому они посвящены: они подчиняют его примату человеческих целей и лишают его власти, а совершенный в отношении него обман беспрепятственно превращается в тот, который учиняется над верующей паствой неверующим проповедником. Хитрость зарождается в культе»[27]27
Там же. С. 70.
[Закрыть]. Обманная и мудрая эмансипация от темных природных начал и запускает тот диалектический процесс, который, сохраняя вытесненную природу в глубине торжествующей рациональности, сделает возможным ее внезапное и разрушительное возвращение именно тогда, когда разум потеряет бдительность, взаправду уверовав в свою абсолютную победу.
Выходит, что разум, к беде своей, опьяняется собственной властью над расколдованным миром: «Миф превращается в Просвещение, а природа – во всего лишь объективность. Усиление своей власти люди оплачивают ценой отчуждения от всего того, на что их власть распространяется. Просвещение относится к вещам точно так же, как диктатор к людям. Они известны ему в той степени, в какой он способен манипулировать ими. Человеку науки вещи известны в той степени, в какой он способен их производить. Тем самым их в-себе становится их для-него. В этом превращении сущность вещей всегда раскрывается как та же самая в каждом случае, как субстрат властвования»[28]28
Там же. С. 22–23.
[Закрыть]. И далее: «Лишенная качеств природа становится хаотическим материалом для всего лишь классификации, а всемогущая самость – всего лишь обладанием, абстрактной идентичностью»[29]29
Там же. С. 23.
[Закрыть]. Диалектика начинается там, где человек, покоряя природу, покоряет вместе с нею и самого себя.
Чисто природный, естественный страх ведет человека в том, что сам он считает абсолютно рациональным процессом познания мира. Корень разума находится в неразумии, что делает неразумным сам разум. Ведомый страхом, жестоко порабощая природу в себе, познающий субъект не ведает, что делает это по воле самой природы. Отсюда видна вся абсурдность привязки автономного просвещенного разума к строгой морали, как то имело место у Канта. Обнаруживая в себе жестокую и вместе с тем жестоко подавляемую природу, разум на самом деле не ведает, что такое мораль, что такое нравственность, и нет ничего менее близкого такому противоречивому разуму, как идеологически пестуемое чувство сострадания. На деле сострадать крайне глупо: сострадая, просвещенный прагматик упускает свою автономную выгоду, он подчиняется чему-то иррациональному, чувственному в себе, дает волю не до конца порабощенной природе, тем самым ступая против проекта Просвещения. Никто не понял этого лучше, чем маркиз де Сад, вся суть произведений которого и состоит в этом жесте доводки автономного разума до его логического конца, где уже не остается никакой морали (это и упускает Цветан Тодоров, который брезгливо отмахивается от Сада, больного-де человека, смешавшего всю рациональную проблематику с грязным насилием и порнографией; если бы – Сад как раз-таки демонстрирует, что насилие и порнография суть другое лицо разума, а не что-то ему инородное).
«Разум является органом калькулирования, планирования, по отношению к целям он нейтрален, его стихией является координация. То, что обосновывалось Кантом трансцендентальным образом, сродство познания и планирования, которым насквозь рационализированному даже в моменты передышек буржуазному способу существования во всех его аспектах придавался характер неотвратимо целесообразного, более чем за столетие до возникновения спорта было уже эмпирически реализовано Садом»[30]30
Там же. С. 112.
[Закрыть]. Вся сага де Сада, таким образом, оказывается скрупулезным портретированием того просвещенного разума, который в самом себе обнаруживает только волю к власти, только жестокость порабощенной природы, о чем еще позже скажет Ницше, и тогда уже от этого нельзя будет запросто отмахнуться.
Мораль в мире разума становится невозможной потому, что разум сам по себе не определяет цели, но только подыскивает верные средства к уже существующим целям, источник которых неясен (якобы неясен, на самом деле он коренится в порабощенной природе – как воля к власти, бессознательная тяга к реваншу, точно в нацистской Германии). Позже Хоркхаймер назовет это инструментальным разумом – разумом, подходящим к миру как к средству, но не как к цели. Именно проект Просвещения привел к тому, что целеполагание вышло из-под власти разума, а последний стал полностью инструментальным. Просвещенное расколдовывание мира на деле приводит к его релятивизации: «Все эти следствия в зародыше уже содержались в амбивалентной буржуазной идее толерантности. С одной стороны, толерантность означает свободу от догматического авторитета; с другой же – она укрепляет нейтральное отношение к его духовному содержанию, которое тем самым релятивизируется. Всякая культурная область сохраняет свой „суверенитет“ в отношении универсальной истины. Структура общественного разделения труда автоматически переносится в жизнь духа. Это разделение в сфере культуры – прямое следствие вытеснения всеобщей объективной истины формализованным, внутренне релятивистским разумом»[31]31
Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума. – М.: Канон+, 2011. С. 25.
[Закрыть].
В итоге Просвещение приводит западный мир к парадоксальной «безголовой» философии, техничной и научно подкованной, могущей и умеющей делать всё что угодно, кроме одного – определять свои цели, видеть свои основания, подходить к миру с объективной и целостной стороны. Инструментализируясь и релятивизируясь, мир расщепляется на мириады разрозненных частей, атомизированных индивидов – без разницы, индивидов-вещей или индивидов-людей, потому что человек и есть вещь, ведь нет такой объективной ценностной парадигмы, которая могла бы утверждать обратное. Такова диалектика Просвещения: «Человеческое существо в процессе своей эмансипации разделяет судьбу остального мира. Господство над природой приводит к господству над человеком. Так как каждый субъект не только в должен принимать участие покорении внешней природы, но для этой цели должен также покорять природу в самом себе, господство превращается в «интернализованное» господство ради господства»[32]32
Там же. С. 110.
[Закрыть].
Порабощая природу, человек порабощает самого себя. Автономизируя разум, человек делает его подчиненным, служащим средствам и не знающим о собственных целях. Попирая темные мифы, полные насилия и жестокости, разум приходит к тому, что становится полностью аморальным, ибо мораль сущностно неразумна. Относясь ко всему вокруг себя как к вещи, человек сам становится вещью. Насилуя мир, он делает возможным и даже желательным насилие над самим собой. Поэтому и прав да в истоках у просвещенной и высокотехнологизированной западной цивилизации много общего с не менее развитым и научным нацизмом: и там и там торжествует возвращенная природа, получившая в свои руки невероятное по мощи своей орудие – разум, который, как настоящий идиот, понятия не имеет, что он делает и зачем, зато очень хорошо знает как – к примеру, как делать из людей мыло, как научать человеко-животных истинной демократии и так далее.
Суть диалектики в том, что человек как был, так и остается одновременно и природой, и духом, поэтому, когда он забывает об одной из своих основ, она, даже уведенная в тень, не перестает существовать и действовать, тайно направляя пути той части, которая остается на свету. Великая глупость просвещенного разума, составляющего фундамент европейской и североамериканской цивилизаций, состоит в том, что он изо всех сил постарался забыть свою истинную амбивалентную природу, тем самым дав самым жутким своим сторонам возможность действовать в обход сознания и рефлексии. Хуже злодея, который знает, что он злодей, только злодей, который о своем злодействе не знает. Возможно, разница между Востоком и Западом проходит как раз-таки по этой границе.
*
Можно сказать, такова судьба: изначальная сложная двойственность разумного человека приходит со временем к упадку простой нерефлексирующей односторонности. С учетом диалектики Просвещения мы можем наконец охарактеризовать историческую сцену на которую вышли битники в середине XX века, словами франкфуртца Герберта Маркузе – как одномерную цивилизацию, место обитания одномерного человека. И хотя одноименная книга не без грома и молний появилась только в 1964 году, когда многие акты нашей драмы уже были сыграны и дело шло к закату, всё-таки анализ Маркузе имеет касательство ко всей американской ситуации начиная с «золотой эпохи» после Первой мировой войны. Обращая внимание на существо данной одномерности, мы должны держать в голове простое правило: всё нижесказанное будет воспринято бит-поколением как враждебные формы, как то, что должно преодолеть.
Итак, вот сцена, которую строит Маркузе: «Развитая индустриальная цивилизация – это царство комфортабельной, мирной, умеренной, демократической несвободы, свидетельствующей о техническом прогрессе»[33]33
Маркузе Г. Одномерный человек. – М.: АСТ, 2009. С. 17.
[Закрыть]. И далее: «В этом смысле экономическая свобода означала бы свободу от экономики – от контроля со стороны экономических сил и отношений, свободу от ежедневной борьбы за существование и зарабатывания на жизнь, а политическая – освобождение индивидов от политики, которую они не могут реально контролировать. Подобным же образом смысл интеллектуальной свободы состоит в возрождении индивидуальной мысли, поглощенной в настоящее время средствами массовой коммуникации и воздействия на сознание, в упразднении „общественного мнения“ вместе с теми, кто его создает. То, что эти положения звучат нереалистично, доказывает не их утопический характер, но мощь тех сил, которые препятствуют их реализации. И наиболее эффективной и устойчивой формой войны против освобождения является насаждение материальных и интеллектуальных потребностей, закрепляющих устаревшие формы борьбы за существование»[34]34
Там же. С. 21.
[Закрыть].
Ценности Просвещения, они же американские ценности, которые не без иронии возводят себя к фундаментальной идее свободы, действительно являют собой очень внушительный ряд революционных свобод: свобода от самостоятельности (вопреки кантовскому определению просвещения как выхода из состояния несовершеннолетия), свобода от выбора (вопреки демократии, не имеющей, впрочем, никакого отношения к своей греческой тезке), свобода от отрицания (вопреки банальной антропологии, не могущей, будучи честной, пройти мимо антропогенности сущностно негативного воображения). Проще говоря, либеральный эгоистический мир, сводящий сложного человека к одноклеточной простоте индивида, взятого вообще и по модулю, мир, ставящий, следовательно, во главу любого угла шкурный индивидуальный комфорт, ради подобной ловкой редукции должен устранить в человеке всякое качественное (ведь все равны) и отрицающее (ведь надо быть политкорректным) измерение. Еще проще: надо вообще редуцировать всякое измерение, могущее как-то поколебать абстрактную чистоту нормативного индивида, дать ему нежелательный, а может и разрушительный объем. Человек должен стать одномерным, ибо одномерный человек – это и есть основополагающий (то есть основоположенный) индивид либерально-просвещенческой догматики.
Такой индивид, как ни странно, теряет ту самую способность, которая была знаменем философского просвещения, – я говорю о рефлексии. Одномерный человек не рефлексирует, ведь рефлексия негативна: на по необходимости ставит под сомнение всякое свое содержание, следовательно, отрицая его как непреложную данность, воспринимая его только в вопросительном модусе. Это кое-что проясняет в той поистине аллергической реакции, которую у либерального индивида вызывает старая-добрая философия – она, безусловно, есть его смерть, ибо суть ее в силе сомнения, противоположного той позитивной догматике, которая только и делает абстрактного либерального индивида существующим. Разумеется, то же относится и к искусству, которое питается силами негативного воображения. Философия фиктивна, искусство – просто фантазия, и с тем в просвещенном одномерном мире воцаряется абсолютный, тщательно очищенный от теоретических импликаций эмпиризм, настроенный в высшей степени утвердительно и позитивно по отношению ко всякой данности: есть то, что есть, и третьего не дано. И пока этот выхолощенный позитивизм бежит любой диалектики, как огня, сама диалектика в тайне от его нерефлексирующего взора играет им, как дьявол тем, кто мыслит неточно (по присказке М. К. Мамардашвили).
Итак, одномерный человек, просвещенный либеральный индивид, лишен измерений, избавлен от тяжести качеств, отличий и, по Музилю, свойств. Не рефлексируя, он не сомневается в том, что есть, ибо есть то, что есть, как утверждает его религия, бытовой нетеоретический эмпиризм, вера счастливого сознания. Никакой философии, никакого искусства – ибо нельзя назвать искусством конвенциональную поп-культуру, функционирующую на коммерческом конвейере клишированных форм, – никакой политики, ибо мы живем в лучшем из миров, а лучший из миров имеет леденящий привкус кока-колы. Одномерный человек счастлив тем, что он живет в комфорте и праздности, но это счастье животного, некий овощной триумф высшего отказа от самой возможности отказывать и отказываться, последний забег от свободы – в рай утопической телереальности, в которой ведущие толкуют твои сновидения и рекламщики угадывают твои желания. Мир баббл-гам, как он есть от рождества Христова до рождества Микки Мауса, которое, как мы знаем, грянуло в 1928 году, за год до паники на Уолл-стрит.
В конечном итоге, примат позитивной одномерности пронизывает собой весь язык, который к тому же дом Бытия: «Посредством такого аналитического лечения последний (язык) действительно стерилизуется и анестезируется. Многомерный язык превращается в одномерный, в котором различные, конфликтующие значения перестают проникать друг в друга и существуют изолированно; бушующее историческое измерение значения усмиряется»[35]35
Там же. С. 263.
[Закрыть]. Это делает ситуацию поистине критической, ведь именно в языке человек конструирует тот самый мир, который он якобы воспринимает, – мир этот неотделим от структуры значений, в которых он дан символическому порядку мышления. Инфицировав сам этот символический порядок, одномерная цивилизация добирается до самых основ человеческого существования. И что же тут странного, если именно с языка только и могут начаться процессы, вставшие к одномерному миру в революционную оппозицию?
Часть вторая: новое видение
«Во многом мы имитировали старую традицию русского авангарда – Есенина, Маяковского. Мы слушали их записи. В 1965 году Евтушенко подарил мне диск с записями Маяковского, который я до сих пор храню. Русская классика конца XIX века тоже оказала большое влияние на писателей бит-поколения. В тринадцать лет я прочитал всего Достоевского, Керуак и Берроуз позднее сделали то же самое. Кроме этого, я читал переводы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока. В середине 40-х годов я увлекся французскими сюрреалистами, а в 1948 году прочитал Антонена Арто. В 50-е годы мы начали интересоваться восточной литературой, философией и религией. Бит-культура основана на разных традициях, не только на американской. Это не было наивным движением. Мы имели возможность путешествовать. Берроуз провел 30-е годы в Европе, в Германии и Вене, он видел Веймарскую республику, зарождение нацизма, приход к власти Гитлера. Он женился на еврейке, чтобы спасти ее от концлагеря, и привез ее в Америку. Потом он жил в Мехико и в Танджире[36]36
Sic!
[Закрыть]. Мы с Питером полтора года прожили в Индии, потом жили в Японии… Каждый из нас был специалистом в какой-то области: Берроуз – в полицейской и государственной системе, наркотиках, гомосексуализме; Керуак был знатоком деревенской жизни американского миддл-класса; я был специалистом по русской, еврейской и американской литературе, по Уильяму Блейку, интересовался мистицизмом и немного политикой; Гэри Снайдер специализировался в экологии, был знатоком природы, десять лет изучал китайский и японский… Мы были хорошей командой!»Аллен Гинзберг – из интервью Я. Могутину.
«Битый означает не столько усталый, вымотанный, сколько beato – итальянское обозначение блаженности: состояние блаженства, как у Св. Франциска, пытавшегося любить всю жизнь, быть предельно искренним со всеми, практиковать терпимость, доброту, культивировать радость сердечную. А как это можно достичь в нашем безумном современном мире многообразий и миллионов? Только практикуя чуточку одиночества, когда время от времени уходишь сам по себе, чтобы запастись самым ценным золотом на свете: флюидами искренности».
Джек Керуак – «Агнец, не лев».
«У меня среди битников есть близкие друзья: Джек Керуак, Аллен Гинзберг и Грегори Корсо. Мы дружим много лет, но не сходимся ни в мировоззрении, ни в литературной деятельности. Мы поразительно разные. Дело тут в общности противоположностей, а не творческих принципов или взглядов на жизнь. Что до литературного значения битничества, то, думаю, оно не столь очевидно, как его общественное значение… Битничество преобразило мир, населив его битниками. Движение битников смело социальные барьеры и стало международным феноменом огромной важности. Битники отправляются куда-нибудь, скажем в Северную Африку, и выходят на контакт с арабами на уровне куда более фундаментальном, нежели белые поселенцы, до сих пор мыслящие понятиями Лоуренса Аравийского. Битничество – важный социальный феномен, мировой социальный феномен».
Уильям С. Берроуз – из интервью Д. Одье.
В своем романе «Путешествие на край ночи» Луи-Фердинанд Селин описывает Нью-Йорк, столицу XX века, следующим образом: «Представьте себе город, стоящий перед вами стоймя, в рост. Нью-Йорк как раз такой. Мы, понятное дело, видели порядком городов – и даже красивых, немало портов – и даже знаменитых. Но у нас города лежат на берегу моря или реки, верно? Они, как женщина, раскидываются на местности в ожидании приезжающих, а этот американец и не думает никому отдаваться, ни с кем не собирается спариваться, а стоит себе торчком, жесткий до ужаса. Короче, мы чуть со смеху не лопнули. Тут поневоле расхохочешься: город встоячку – это же умора»[37]37
Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. М.: АСТ, 1999. С. 194–195.
[Закрыть]. Эрегированный, заряженный город. Неудивительно, что новейшие течения в мировой художественной жизни послевоенных лет стали плодиться именно здесь, а не во фригидной Европе.
Интересующие нас битники также обязаны этому месту своим возникновением в качестве культурного феномена. Изначально то, что лет через десять превратится в целое поколение, представляло собой нескольких молодых людей, собравшихся вокруг расположенного на самом Манхеттене Колумбийского университета – созданный в 1754 году, он был даже старше самих Соединенных Штатов, – кто-то на правах студентов, кто-то просто так, для души. Живым центром компании был юноша по имени Люсьен Карр. Обворожительный, эксцентричный, умный, свободолюбивый, он был достаточно яркой персоной, чтобы среди серого цивилизованного студенчества собрать вокруг себя таких же нестандартных и взрывоопасных молодых людей, каким был и он сам. Мы знаем, как звали главных из этих людей: Аллен Гинзберг, Джек Керуак, Уильям Берроуз.
Ирвин Аллен Гинзберг родился 3 июня 1926 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Его отцом был поэт Луис Гинзберг, мать Наоми была коммунисткой с очень слабым душевным здоровьем (поэма «Каддиш» посвящена ее болезни и страданиям). У Аллена был старший брат Юджин, рожденный в 1921 году. Влияние Наоми на детей было своеобразным, но сильным. К примеру, она была убежденной нудистской. Будучи секретарем партячейки, она часто брала Аллена на коммунистические собрания (он вспоминает об этом в поэме «Америка»). Вообще, изначально Гинзберг был скорее на хрупкой и болезненной стороне матери, нежели на степенной и рациональной стороне отца. Как отец, он стал поэтом (и поэтом, в разы лучшим, чем его отец), но он стал совершенно безумным поэтом – как его мать.
Еще в школе Аллен открывает для себя поэзию Уолта Уитмена, которая окажет на него определяющее влияние. Также рано он осознает, что его сексуальный интерес отличается от оного у его сверстников. Аллен штудирует книгу Крафта-Эббинга и понимает, что он гомосексуалист. Это более тревожно, чем неожиданно: в то время подобное считалось, в полном соответствии с названием той самой книги, сексуальной психопатией. Видимо, в тот самый момент Гинзберг уверился в собственной неполноцености.
В 1943 году он поступил в Колумбийский университет, полагая тогда стать юристом. Сразу же он знакомится с Люсьеном Карром – тот громко слушал Брамса, что привлекло внимание Аллена. Осведомленный во всем том, что еще только завтра станет поистине модным в Америке, Карр познакомил Гинзберга с высоким европейским искусством – Сезанн, Рембо и многое, многое другое. Но самое главное, Карр познакомил Аллена с иной жизнью, которая велась преимущественно ночью, где-нибудь в Гринвич-Виллидж, желательно в сильно нетрезвом виде.
Люсьен был баловнем судьбы из богатой семьи. Он действительно много знал и многим интересовался, но сам, как и положено юной богеме, совершенно ничего не хотел делать (собственно, он ничего и не сделал – к литературному бит-поколению Люсьен Карр отношения не имеет). Он родился в Нью-Йорке, но вырос в Сент-Луисе – там же, где родился и вырос Уильям Берроуз. Там он и познакомился с Дэвидом Каммерером – человеком, который однажды изменит жизнь Люсьена к худшему. Каммерер был другом Берроуза. Будучи на шестнадцать лет старше Карра, он сразу же в него влюбляется, и эта страсть сохраняется долго, доходя порой до одержимости.
В 1944 году к их компании присоединяется Джек Керуак, тоже студент Колумбии, бывшая звезда местной футбольной команды. Полное его имя – Жан-Луи Лебри де Керуак, франкоамериканец (или франкоканадец) бретонского происхождения. Его родители приехали из Квебека, однако Джек родился в городе Лоуэлл, штат Массачусетс. В силу происхождения родным языком Керуака был французский, точнее, его квебекский диалект (жуаль). Английский он освоил только после шести лет.
С раннего возраста Джек занимался футболом (американским, само собой), благодаря чему он и получил стипендию в Колумбийском университете (всё это подробно описано, скажем, в «Суете Дулуоза»). Но очень скоро он покидает команду и, соответственно, университет из-за травмы, после чего уходит в торговый флот. Попытка же перейти в военный флот не увенчалась успехом (его сочли психически неадекватным), поэтому участия в войне Керуак не принимал.
Четвертым, считая Карра, завсегдатаем компании был Уильям Берроуз, самый старший и опытный из всех. Даниэль Одье начинает свою книгу интервью с Берроузом следующим пассажем: «Уильям Берроуз родился 5 февраля 1914 года в городе Сент-Луис. Это писатель с мировым признанием, автор многочисленных книг: „Голый завтрак“, „Джанки“, „Голубой“, „Нова Экспресс“, „Интерзона“, „Дикие мальчики“, „Билет, который лопнул“, „Мягкая машина“, „Порт святых“ и т. д. Берроуз за свою писательскую карьеру сменил несколько мест жительства: Нью-Йорк, Мехико, Танжер, Париж, Лондон и Лоренс, что в штате Канзас, где и умер 2 августа 1997 года.
Он любил кошек».[38]38
Одье Д. Интервью с Уильямом Берроузом. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – С. 4.
[Закрыть] Каждое слово правда.
Уильям Сьюард Берроуз, действительно, родился 5 февраля 1914 года в городе Сент-Луис, штат Миссури в среднесостоятельной буржуазной семье. Дед Берроуза (и полный его тезка) был изобретателем счетной машины и основателем компании «Burroughs Corporation» (ясно, почему сборник эссе его внука получит название «Adding Machine», то есть счетная машина). Несмотря на это, особенно большого наследства дед-изобретатель семье не оставил, умерев в достаточно раннем возрасте.
Писать он, по собственному признанию, начал рано, но так же рано и бросил – до поры. Берроуз получает высшее образование в Гарвардском университете – здесь четыре года, с 1932-го по 1936-й, он изучает английскую литературу, но этим его гуманитарные интересы не исчерпываются – к примеру, его занимает этнология, что позже даст свои плоды. Сразу после окончания обучения будущий писатель путешествует по Европе, в Вене даже посещает медицинскую школу – отсюда уверенное владение предметом и терминологией, являющее себя в пространных и частых фармакологических и анатомических отступлениях в том же «Голом завтраке». Сразу после возвращения в США, благо позволяли родительские средства, Берроуз получает второе образование, на этот раз антропологическое, в том же Гарварде. Во время войны, в 1942 году, Берроуз призывается добровольцем в армию Соединенных Штатов, однако долго там не задерживается – опять-таки не без помощи родителей ему удается демобилизоваться по негодности. Впрочем, это не помешает ему немногим позже воспользоваться краткой военной службой и продолжить образование по G. I. Bill, американской программе бесплатного образования для бывших военнослужащих.
Пятым персонажем в компании была Джоан Воллмер – будущая жена Берроуза, брак с которым обернется для нее трагедией. Молодые люди развлекаются и хорошо проводят время, насыщаясь богатой и яркой ночной жизнью Нью-Йорка, но в то же время они находят силы для долгих и увлеченных дискуссий об искусстве, желая сказать что-нибудь несказанное, что-то, что получает размытое обозначение Нового Видения[39]39
Четкого определения этого понятия никто из битников так и не оставил. Всё сводится к тому, что Новое Видение – строго негативная категория: не настолько видение, насколько новое, во всем отличное от старого. Глядя по сторонам и возмущаясь упадку современной жизни – особенно на фоне того искусства, которым все они были захвачены, – будущие битники жаждали сформулировать что-то, что было бы правильным, подлинным, верным. – Miles B. Allen Ginsberg: Beat Poet. – Virgin Books, 2010. – P. 45.
[Закрыть].
Характеры битников были столь несходны, что такой взрывной пестроте можно было бы только порадоваться. Вот с фотографии на нас смотрит доброе, смешливое лицо – широкий взгляд, полуулыбка. Гинзберг был дружелюбен, общителен и великодушен – для многих и многих бит-литераторов он был опорой, и менеджером, и рекламщиком.[40]40
«На счету Гинзберга множество революционных открытий и изобретений, главным из которых является паблисити. Юный Гинзберг был гениальным промоутером и наверняка мог бы достичь неплохих успехов в сфере public relations или шоу-бизнеса, но, конечно, в лихие 50-е годы никто не мог даже представить, насколько огромны могут быть дивиденды от его энергичной и агрессивной саморекламы». – Могутин Я. 30 интервью. – СПб.: Лимбус Пресс, 2001. С. 17.
[Закрыть] Человек неуемной энергии, он легко становился лидером групп, движений, порою и масс. Он вошел в литературу без труда и стеснения, так, что сразу занял себе место классика. Им он и стал уже ко второй декаде своего творческого пути. Гинзберг – безусловный лидер, душа разбитого поколения.
Вот другой: красивый (а самым красивым мужчиной признал Керуака даже Сальвадор Дали), спортивный, задумчивый; в нем видели рокового мачо, а сам он был тихим, застенчивым и скромным человеком, в душе ребенком – до самого конца. Казалось, он выходил из себя и бежал на далекий простор только для того, чтобы вернуться к себе, закрыться в своем одиночестве и без остановки писать о своем интимнейшем опыте. Кто мог поверить, что именно он и прославит свое поколение? Одно очевидно: не он сам. Романтик, католик, несчастный скиталец, с тихим, спокойным, но таким энергичным литературным голосом. Джек Керуак был сродни смиренному и молитвенному шепоту среди громокипящей индустриальной преисподней.