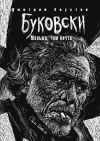Читать книгу "Битники. Великий отказ, или Путешествие в поисках Америки"

Автор книги: Дмитрий Хаустов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Это значит, говоря проще, что литература того периода становится рефлексивнее и критичнее, но сильно теряет в технике, стиле и художественном новаторстве. Безусловно, О. Генри, Джен Лондон и Теодор Драйзер – замечательные авторы, к тому же любимцы не к ночи упомянутых советских критиков, однако с точки зрения собственно литературной они не приносят в американскую традицию ничего нового, а во многом, напротив, сдают давно завоеванные ею позиции.
Отвоевать их обратно пытаются молодые писатели-модернисты, которые откровенно ориентируются на Европу, которые учатся у Джойса и авангардистов, которые, таким образом, вынуждены повторять тот опыт усвоения европейской меры, который был характерен для пионеров американской словесности почти 100 лет до этого. Великая литература 1920-х годов в лице, для примера, Хемингуэя, Фицджеральда, Фолкнера (обособленного, правда, более прочих), Томаса Вулфа и других совершает движение синтеза современных модернистских тенденций, в хвосте которых американская литература оказалась в начале XX века, с той совсем недавно выработанной рефлексивностью социального критицизма, который берет начало еще в лучших образцах прозы Марка Твена и достигает у Драйзера своего пика[4]4
Я умышленно умалчиваю имена Паунда, Элиота, Гертруды Стайн. Бросается в глаза, что все они – эмигранты, сделавшие свой выбор не в пользу родной Америки, которую по большей части не любили, но в пользу Европы, которая дала им живую традицию – будь то традицию прошлого, как то греческие лирики, Данте, трубадуры, или традицию настоящего, как то футуристы, кубисты, сюрреалисты. Поэтому я, конечно, mutatis mutandis, предпочитаю судить об этих фигурах как о явлении европейского модернизма. Их отрыв от американской традиции слишком существен, чтобы делать вид, будто его нет. Но в то же время нельзя забывать, что модернисты эти имели большое влияние на своих американских наследников, как то Уильям Карлос Уильямс и многие другие, не говоря уже о том, что, к примеру, Хемингуэй является прямым учеником Гертруды Стайн.
[Закрыть].
Назовем это движение второй волной, но укажем, что, в отличие от первой волны, оно скорее явление кризисное, в гораздо меньшей степени спокойное и самобытное, в гораздо большей – лихорадочное и европейское, что выражается хотя бы в том, что американские авторы не сидят на месте и значительно лучше чувствуют себя именно в Европе, нежели в родных Штатах. Поэтому, несмотря на безусловно великие имена, я нахожу этот период в истории американской литературы скорее трагическим и упадочным, нежели грандиозным и прогрессивным (каковой та же эпоха оказалась для европейского и русского искусства).
Отчасти и судьбы самих писателей подтверждают этот печальный диагноз. Фицджеральд спивается и умирает в 1940 году от того, что его талант был растрачен на банальные коммерческие проекты. Почти то же самое сводит в могилу Фолкнера (умирает он, правда, значительно позже, в 1962-м), продавшему душу всесильному и в свою очередь совершенно бездушному Голливуду, культивировавшему конвейерный ширпотреб с мощью и темпами, умопомрачительными даже для такой сверхиндустриальной страны, как США. Хемингуэй кончает с собой (1961) от того же бессилия, которое пропитывало все ранние и лучшие его сочинения, – от бессилия человека невероятной силы, растрачиваемой в пустоте того лунного мира, который стремительно и беспощадно расправляется со всеми человеческими смыслами. Томас Вулф, которому будет подражать молодой Джек Керуак, трагически гибнет в 1938 году всего-то 37-летним.
Вторая волна, как оказалось в итоге, накрыла сама себя, оставив по себе только белую пену, хранящую свежие воспоминания о неистовом бешенстве. Из этой пены, подобно странной постмодернистской Афродите, явится новая, никем особенно не ожидаемая традиция. Так, ко времени третьей волны, которая и возникает в 1950-е годы и которой посвящена эта книга, живой традиции в американской литературе, собственно, не было. Между второй и третьей волнами зияет безмолвный разрыв. Однако я бы хотел обратить здесь внимание на одну в высшей степени значимую переходную фигуру, которая, как мне кажется, позволила этой традиции снова возникнуть на американском культурном пространстве. Я говорю о Генри Миллере, которого я нахожу подлинным крестным отцом всего литературного бит-поколения.
Именно Миллеру удалось сохранить в подлинной целости синтез самой передовой европейской культуры и специфически американского стиля, и не только сохранить (и передать дальше), но и оригинальным образом переработать и наполнить своей колоссальной витальностью, игрой исключительных жизненных сил, vis vitalis. Будучи настоящим американцем, Миллер хотел и умел учиться у Европы самому важному и самому сложному – он вобрал в свой объемный опыт современную философию, авангард, сюрреализм и многое другое, сохраняя при этом чисто американское чувство фрагмента, детали, движения. Благодаря всему этому Миллеру удается создать целое, а в то же время по-прежнему фрагментированное и мозаичное мировидение, главные черты которого я попытаюсь кратко сформулировать далее[5]5
Пионером в широкой популяризации Миллера в нашей стране выступает Андрей Аствацатуров. Я с удовольствием отсылаю интересующихся к его филологическим работам.
[Закрыть].
Миллер, как и грядущие битники, начинает свой путь с отрицания той наличной данности, которая заложила основы его жизненного мира, – данности опыта средней американской жизни в Нью-Йорке, также родине бит-поколения (Миллер был уроженцем Бруклина). Данность современной Америки значительно позже будет обыграна Миллером в образе всемогущественной Космодемонической Компании: «Компания создана усилиями людей и на первый взгляд должна подчиняться их воле. Однако этого не происходит: она становится частью цивилизации, пространства „материализованного разума“, отчужденного от жизненного потока, и обретает свои, отличные от человеческой воли цели. Человек не может ею управлять по своему произволу: даже если он ею формально руководит, все равно ее логика направляет и контролирует его решения. В результате все служащие компании, не только мелкие, выполняющие предписания руководства, но и сами руководители, становятся рабами компании, шестеренками огромной индустриальной машины…»[6]6
Аствацатуров А. Генри Миллер и его «парижская трилогия». – М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 281.
[Закрыть] Этот мир инструментализированного отчуждения, в котором человек перестает быть кантовской целью в себе и превращается в голое средство, овеществляясь, отталкивает Миллера и подвигает его к поиску иного опыта и иного мира.
Еще до создания первых своих значимых текстов он открывает для себя преимущественно европейскую литературную и философскую традиции, по сути оппозиционные к сложившемуся к 20-м годам XX века американскому образу жизни, как оппозиционной к нему была и предшествующая американская литература в лице Эмерсона, Торо, Уитмена, также значительно повлиявших на Миллера в его жизни и в его творчестве. Этот ранний опыт отрицания своего времени и своего места приводит Миллера в 1930-е годы в Париж, вчерашнюю столицу мира. Живя впроголодь и не имея собственного угла, Миллер, тем не менее, ощущает себя счастливым и преисполненным жизни – это чувство и воплощается в энергичный, танцующий и избыточный текст его парижских романов «Тропик рака», «Черная весна», «Тропик козерога» (соответственно 1934, 1936 и 1939 годы).
Тексты эти свидетельствуют о том, что Миллеру больше по нраву считать себя европейцем, а не американцем, скорее человеком культуры, нежели человеком цивилизации, если использовать шпенглеровскую дихотомию. Он склонен одухотворять природу на манер Руссо, немецких романтиков и американских трансценденталистов (также учившихся у Европы). Он запросто говорит о гении, уже тогда и ныне совершенно неприличной вещи, об иерархиях и превосходстве одних людей над другими, об абсурдности и апориях так называемого равенства. В демократическом опыте, в отличие от оптимизма Уитмена, ему открывается не иначе как опыт обезличивания и десубъективации, трусливого слабовольного бегства от самого себя. Наконец, он рад наплевать на дряблую пуританскую мораль и догматические христианские ценности – одним словом, тексты Миллера были долгое время запрещены в США вовсе не просто так, а, как могло бы представиться нормальному американскому гражданину, вполне заслуженно – как тексты, всецело враждебные данной культурной норме. Но вместе с тем не могу не отметить, что во всех своих антиамериканских демаршах Генри Миллер всё же остается американцем, человеком своей культуры и своей истории. Так, он настоящий индивидуалист, каких мало в Европе. Он искренне верит, что частное возвышается над общим, а не наоборот – вопреки всякому консерватизму и магистральной линии европейской метафизики, всегда полагавшей как данность обратное отношение (в этом смысле понятно, почему главный философский авторитет для Миллера – это Ницше[7]7
«И Ницше, и Миллер, стремившиеся каждый по-своему преодолеть человека ради сверхчеловека, ставили перед собой задачу преодолеть и слово, подобраться к сфере, предшествующей всякой речи, актуализировать в слове избыточную, здоровую, богатую жизнь, подведя само слово к гибельной крайности. Они ставили задачу избавить слово от диктата диалектического разума, от запретов, от морали рабов и от необходимости фиксировать известное, имеющееся. В результате слово в их текстах осуществляет прорыв к невозможному, открывая новые перспективы жизни. Оно исполнено презрения к духу, сознанию, субъективности и ко всему, что отрицает противоречивость. Сохранение ощущения противоречивости жизни, ее нелогичности, непоследовательности требует преодоления субъективной, окончательной, одной-единственной точки зрения». – Там же. С. 69.
[Закрыть], а не, скажем, Гегель; в «Книгах в моей жизни» Миллер также указывает, что не теряет надежду когда-нибудь прочитать «Сумму теологии» Фомы Аквинского, – мне хочется верить, что он ее так и не прочитал, а вместо нее ознакомился, скажем, с «Суммой атеологии» Жоржа Батая).
Миллер мыслит, пишет, живет подчеркнуто фрагментарно, разорванно, в полном соответствии с лоскутным американским ландшафтом, столь важным для становления американской литературной традиции, – это подчеркивал, в частности, Жиль Делез, любивший сослаться на Миллера в своих не менее мозаичных текстах. Миллер, конечно, ловкач, хитрец, фокусник, в душе деловой человек, всегда умевший устроиться, выжить, найти свою выгоду, и это чудесно, потому что именно эти навыки сохранили нам его тексты, к тому же они наполнили их неповторимым, смешным и чисто американским деловитым фиглярством (похожим образом романтик Торо, покинув отвратительную механистическую цивилизацию, одержимую жаждой наживы, дотошно, подробно в своем «Уолдене» высчитывает суммы, в которые ему обходилась бы его свободная, природная жизнь, – этого парадоксального сочетания искреннего романтизма и деловой хватки настоящего янки нет, пожалуй, более нигде в мире).
Битники сохранят и приумножат миллеровский американский индивидуализм и мозаичную картину мира, как и его страсть к европейскому авангарду, его предпочтение культуры в противоположность цивилизации. Позаимствуют они и ярко выраженный игровой принцип, которым у Миллера пронизано как его творчество, так и вся его жизнь: «Удовольствие, получаемое от игры, вызвано ощущением свободы, которое рождается благодаря отсутствию репрессии со стороны культуры. Если культура выдвигает принцип реальности, предписывая личности социальную роль, сводя ее тем самым к функции, то игра возвращает человека к самому себе, выводя его из культурного контекста. Целью человеческой жизни, заряженной импульсом игры, становится не что иное, как сама человеческая жизнь. Личность обретает самотождественность и, следовательно, свободу».[8]8
Там же. С. 142.
[Закрыть]
Принцип игры, вопреки принципу рациональности, открывает потенции человеческой свободы, уводя человека от царства необходимости, закона и формы. Игра обнаруживает свободу через движение, через динамику, через фантазию и сексуальность, которая тоже ведь амбивалентна: с одной стороны – биологическая необходимость, с другой стороны – удовольствие и экстаз. Пожалуй, в американской литературной традиции именно проза Миллера вела к настоящей сексуальной революции, наряду с европейской левой рецепцией психоанализа у Вильгельма Райха, затем у перебравшегося в США Герберта Маркузе – с ними мы еще встретимся.
Сексуальные эскапады битников, в том числе эскапады чисто литературные, немыслимы вне влияния Миллера. Это влияние трансформируется в определенный образ жизни, в представление о мире как об игровой площадке, о существовании как удовольствии, как динамичном и ничем не регламентированном путешествии. Правда, мир Генри Миллера гораздо светлее и оптимистичнее мира битников, ибо он человек куда более цельный, традиционный и крепкий. К примеру, у него совершенно отсутствует завороженность наркотиками или алкоголем, он не склонен к саморазрушению, и гомосексуализм (как и прочие неклассические сексуальные практики) как-то обошел его стороной. Зато он, как позже и битники, испытал решающее влияние самого главного культурного европейского течения тех лет, сюрреализма. В заключение я скажу о нем несколько лестных слов.
Я полагаю, сюрреализм оказался столь значимым и влиятельным художественным и философским течением своего времени потому, что ему удалось дать последний большой синтез, которого на тот момент так не хватало миру разнородного, необобщаемого, предельно индивидуализированного авангарда и, больше того, модернизма. В русле высокого модернизма друг с другом встречаются фигуры, которые сами по себе – эпохи, и жанры, и течения; фигуры-острова, фигуры-горы, – поэтому объединение их в одну рубрику кажется то ли условным, то ли нелепым. Перед нами предстает мир Джойса, мир Кафки, мир Пруста – и что у них общего, кроме, собственно, гениальности?
Сюрреализм, в свою очередь, предложил свою единую концептуальную платформу, за счет чего и вырос в большое течение, объемлющее настолько различные фигуры, как Бретон и Арто, как Арагон и Батай. И хотя многие из них, как те же Арто, Арагон и Батай, в разное время превращались в отступников и еретиков, я полагаю, что та же самая общая платформа по-прежнему, хоть и неявно, определяла их творчество.
Сюрреализм, как сказано, держится на большом синтезе – реального и нереального, в их совмещении – сюрреального, то есть более чем реального. Сюрреалист обнаруживает, что так называемая реальность – это не всё, но лишь некий осколок гораздо более полного, сложного и насыщенного мира, который объемлет и сны, и фантазии, и бред, и телесность – словом, всё то ненормальное, случайное, перверсивное и поруганное, что в Новое время было жестоко подавлено и выброшено на обочину просвещенной цивилизации. Таким образом, в сюрреализме со всей очевидностью обнаруживает себя ренессанс романтизма[9]9
Это существенно отличает сюрреализм от других модернистских направлений, таких как имажизм, футуризм, объективизм – в этих течениях, напротив, романтизм подвергался негации и последовательной деконструкции, целями которых выступали вместе десубъективация творческого процесса и обнаружение чистого, объективного предмета, поиск которого объявляется подлинной задачей искусства.
[Закрыть], но уже в новой, специфической ситуации XX века.
Сюрреалист открывает, что исключенное не ослаблено и не мертво, что оно продолжает существовать в скрытом виде и прорывается в нас через многочисленные лазейки, одновременно принося с собой боль подавления и усвоенное нами извне чувство вины, как всё это было у предтеч и учителей сюрреалистов маркиза де Сада, Бодлера, Рембо, Лотреамона, Захер-Мазоха, Фрейда и Аполлинера. И не только – не могу удержаться от того, чтобы привести здесь одну проницательную цитату из Вальтера Беньямина: «В 1865–1875 годы несколько великих анархистов, не зная друг о друге, трудились над адскими машинами. И вот что удивительно: независимо друг от друга они поставили часы ровно на одно и то же время, и через сорок лет в Западной Европе взорвались творения Достоевского, Рембо и Лотреамона. Из совокупности романов Достоевского для наглядности можно извлечь всего только один отрывок, полностью опубликованный лишь в 1915 году: „Исповедь Ставрогина“ из „Бесов“. Эта глава, теснейшим образом связанная с третьей из „Песен Мальдорора“, содержит оправдание зла, выражающее определенные мотивы сюрреализма так мощно, как это не удалось ни одному из его нынешних выразителей. Потому что Ставрогин – сюррелист avant la lettre. Никто лучше него не понял, как наивно представление буржуа, что добро, при всех его человеческих достоинствах, только от Бога; зло же – только от нас, в нем мы независимы и исходит исключительно из себя самих. Равным образом никто, кроме него, не распознал в самом низменном поступке, и именно в нем, источник вдохновения. Он уже видел в подлости нечто столь же свойственное как миропорядку, так и нам самим, столь же в нас заложенное, если не заданное, как то, что буржуа-идеалист видит в добродетели. Бог Достоевского создал не только небо и землю, людей и животных, но и подлость, месть, жестокость. Тут он тоже не позволил дьяволу приложить руку. Потому-то все это у него тоже исконное, и если не „прекрасное“, то вечно новое, „как в первый день творения“, далекое, как небо от земли, от клише, каким филистер представляет себе грех»[10]10
Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. – СПб.: «Симпозиум», 2004. С. 275–276.
[Закрыть].
Уже Ставрогин, крестный отец сюрреализма, значит, дедушка битников, кое-что понял насчет неизбежного возвращения вытесненного. Осознав его силу, сюрреалист стремится вернуть себе это вытесненное, высвободить тот колоссальный ресурс, который тайно определяет человеческую жизнь, будучи скрытым во мраке бессознательного, он стремится совершить великий синтез разума и неразумия, столь же реального, мощного и витального, как и привычная рациональная жизнь, тогда как противопоставленный ему буржуа, благовоспитанный и никчемный пошляк, знает только одну сторону вещей, поэтому не знает истины.
Так, основная идея сюрреалистов, а вместе с тем и основание их подрывной революционной программы, это свобода. Это освобождение подавленных сил, воображения, грез, сексуальности – словом, всего, что дополняет мир дня необходимым ему миром ночи. Поэтому сюрреалисты столь радикально утопичны: они объявляют борьбу за нового человека, такого, который был бы поистине целостным – в отличие от половинчатого реалиста-буржуа и половинчатого же безумца без социальной идентичности. Реальное должно воссоединиться с воображаемым, разумное с безумным, рассудок со сном, прагматика с мечтой, необходимость со случаем, труд с удовольствием, взрослый с ребенком, цивилизованный с дикарем, день с ночью, свет с тьмой, Бог с Сатаной или с циничным неверием – вот о каком синтезе идет речь.[11]11
«Французский сюрреализм начинается с войны – как в буквальном смысле, поскольку история литературного движения берет свое начало с 1916–1918 годов, так и в фигуральном смысле, поскольку сюрреализм есть не что иное, как открытая, объявленная война реальности буржуазного мира, война против тех понятий общественной жизни, личности, искусства, которые до 1914 года казались незыблемыми достижениями европейского духа» – Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2002. С. 33.
[Закрыть]
Сюрреалистическое движение, что важно, смогло выйти на интернациональный уровень. Одно время с ним отождествляли даже Гертруду Стайн, многим обязанным сюрреализму был Уильям Карлос Уильямс. В 1927 году в США появился красочный манифест, принадлежащий перу Юджина Джоласа, демонстрирующий уверенную поступь сюрреалистического тона по ту сторону Атлантики: «Устав от рассказов, романов, стихотворений и пьес, всё еще подвластных гегемонии банального слова, монотонного синтаксиса, статичной психологии и описательного натурализма, стремясь утвердить новую точку зрения, мы заявляем, что:
1. Революция, происшедшая в английском языке, есть неоспоримый факт.
2. Воображение, взыскующее мира чудес, самостоятельно и не должно контролироваться.
3. Чистая поэзия – лирический абсолют. Она устремлена к априорной реальности, находящейся только внутри нас самих.
4. Повествование – это не занимательная история, а проекция преображения реальности.
5. Названные выше идеи могут быть осуществлены только посредством ритмических „галлюцинаций слова“ (Рембо).
6. Писателю дано право дезинтегрировать первоматерию слов, навязанных ему учебниками и словарями.
7. Ему дано право использовать слова собственного изобретения, не обращая внимания на бытующие законы грамматики и синтаксиса.[12]12
Теперь понятно, при чем тут Гертруда Стайн.
[Закрыть]
8. „Литания слов“ признается самостоятельным компонентом творчества.
9. Нам чужда пропаганда общественных идей.
10. Время – это тирания, которую необходимо свергнуть.
11. Писатель выражает. Он не несет коммуникативных обязательств.
12. Рядовой читатель да сгинет в преисподней»[13]13
Цитата по: Зверев А. Модернизм в литературе США. С. 23–24.
[Закрыть].
Аминь. Это пропитывало сам воздух, поэтому несомненно, что Генри Миллер был настоящим сюрреалистом, и он этого не скрывал, – его заботой был синтез своей родной Америки – рациональной, цивилизованной, деловой – со всей той изнанкой человеческого существования, на которую средний порядочный янки старался вообще не обращать внимания, будто бы всего этого попросту не было. Для этого синтеза Миллеру понадобилась Европа, ему понадобились Восток, Россия и Античность – то есть другое, отличное от американской действительности.
Теперь мы увидим, как бит-поколение, наследуя в этом Миллеру, подхватывает, продолжает и углубляет этот причудливый синтез американского сюрреализма, формируя масштабную традицию литературной третьей волны, которая заканчивается там, где заканчивается и сам этот синтез, дав в итоге своем неожиданные, безусловно богатые, отчасти весьма драматические плоды. По этим плодам мы познаем его – слово за словом.
Часть первая: полигон просвещения
«Мы не желаем принять зло как очевидность. Прекрасный пример тому дают американцы: они просто не могут представить себе зло – его для них не существует. И когда в один прекрасный момент оно является им во всей своей красе, как это случилось одиннадцатого сентября, они приходят в полный ужас. Принять существование зла можно, только согласившись с существованием «другого», ощутив его «самость». Вот американцы к этому абсолютно не способны. Они представляют себя наедине с Богом, и «другие» для них просто не существуют. А если все же появляется «другой», то он глуп, он варвар, психопат, он животное и так далее. То есть он – воплощенное зло, которое надо немедленно уничтожить».
Жан Бодрийяр – «Меланхолический Ницше» (интервью).
«Превратятся ли американцы в конце концов в муравьев?»
Германн фон Кайзерлинг – «Америка».
Соединенные Штаты Америки достойны благородного титула великой нации уже потому, что фундаментальные свободы – слова, совести, вероисповедания, не забудем и про ношение оружия – были в ней не только провозглашены, но и реализованы – едва ли где-либо еще в той же мере, как здесь, свобода действительно работает, а не просто рекламирует чью-то частную политическую или коммерческую, на деле всегда гегемонистскую, волю. Народ США участвует в политике своей страны не номинально, но реально, обладая полнотой возможностей прямого воздействия на власти предержащие. Да и сами власти не сливаются в один неразличимый колосс – их разделение столь же реально и эффективно, как гражданское действие, их баланс, осуществляемый эффективной системой сдержек и противовесов, обеспечивает этой политической общности многомерность и аналитическую функциональность.
Впервые именно в США многочисленные меньшинства обрели силы для сопротивления и борьбы, что позволило демократии не деградировать-таки до состояния тирании больших чисел. Разнообразие, полемика, оппозиция, столкновение точек зрения – всё это приветствуется, а не запрещается, всё это работает на общее благо, а не мешает двигаться вперед, причем всему в целом, а не только наиболее удачливым или наглым его частям. Подобная внутренняя политика не может не восхищать, и Новый Свет, каковым и явилась миру эта уникальная система, в действительности разгоняет мрак политической и идеологической косности, безразличия и безвольного холуйства.
Примерно так выглядит оптимистическая точка зрения.
В связи со всем этим тем более ужасает то, что открывается взгляду при минимальной смене аспекта. При полном (или относительно полном, если того потребуют интересы национальной безопасности) признании внутренних свобод Штаты никогда не были готовы мириться со свободами внешними. Несмотря на общий гуманистический пафос вильсоновской доктрины о праве наций на самоопределение, у этого права есть один существенный корректив: самоопределение наций должно соответствовать внешнеполитическим интересам США, в обратном случае право превращается в весомую угрозу. Собственно, в доктрине Буша, сформулированной чуть меньше века после Вильсона, об этом сказано прямо и без обиняков. А что до угроз, то, кажется, внутренняя свобода в США растет прямо пропорционально внешней паранойе. На этом, втором уровне само понятие демократии было брошено в костер чьего-то политического тщеславия – именно нуждами демократии оправдывалось методичное и хладнокровное истребление целых народов, ибо демократия служила не их интересам, но интересам США в отношении них. Так, бесчисленные жертвы агрессии США в Японии, Корее, Вьетнаме, Иране, Ираке, Югославии, Афганистане, Сирии – говоря лишь о наиболее ярких примерах – неизменно оправдывались идеалами демократии, которая оказывается дороже (чужой) жизни. А если с помощью демократии можно оправдывать массовые убийства, значит, с ней что-то не так. Америка – самая свободная страна в мире, но одновременно самая активная страна по части лишения свободы и жизни жителей всего остального мира. Современное мировое деление на патрициев и плебеев проходит по североатлантической оси.
Новый Свет отбрасывает на весь мир чудовищную тень – военной, политической, экономической гегемонии. Общество изобилия, съедающее львиную долю мировых ресурсов и пока что как будто не давящееся, уничтожающее экологию в поистине промышленных, подлинно фордистских масштабах. Если и есть в этом мире еще более противоречивое пространство (а оно есть), признаемся, что наши дела пахнут порохом.
*
Так повелось исторически, ибо сама история Нового Света, взятая в целом, демонстрирует поистине пугающую амбивалентность. Началось всё, конечно, с Европы. Так, изначально наиболее действенной силой на новой земле оказались англосаксонские беглецы-протестанты, надеющиеся на лучшую жизнь в свете того, что старая и европейская виделась этим последователям Кальвина чем-то вроде сатанинской клоаки. Причаливший в 1620 году в Кейп-Корде «Мэйфлауэр» положил начало крупномасштабному протестантскому переселению в Америку. При этом, как бы они ни стремились оставить всё прошлое в прошлом, реально же эти европейские беглецы ввозили с собой весь корпус европейской культуры – просто потому, что никакой другой культуры у них не было. Однако ближе к следующему веку отношения Нового Света и Старого Света стали портиться – конечно, потому, что могущественная Британия, которая, впрочем, ввиду двух революций находилась не в лучшей политической форме, смотрела на Америку именно как на Новую Англию (так называется доминион северных колоний), то есть на заокеанский придаток своей европейской империи.
Американцы, прожившие здесь уже несколько поколений, не хотели быть чьим-то придатком. В ответ на ряд унизительных торговых законов поселенцы с оружием в руках поднялись на утверждение и защиту своей независимости. Война начинается в 1775 году, командует американцами Джордж Вашингтон, истинный отец новой нации. Декларация независимости принимается в знаменательный день 4 июля 1776 года, а через год Конгресс провозглашает создание Соединенных Штатов Америки. Война же заканчивается только в 1784 году. Отцы-основатели, настоящие европейские интеллектуалы, несут идеалы Просвещения в новый и девственный американский мир. Рационализм просвещения вступает в конфликт с благочестием пуританизма, чтоб потом породить невероятный симбиоз американской гражданской этики: религию экономики, которая, в общем-то, как твой Лаплас, уже не нуждается в гипотезе Бога. Всё это далее, пока же – череда славных дат: в 1788 г. ратифицируется Конституция, в 1789 г. Вашингтон избирается первым президентом независимого государства, в 1791 г. принимается Билль о правах, то есть первые 10 поправок к Конституции. И прочее, и прочее.
А среди прочего на протяжении всего XIX века от одного океана к другому сдвигается фронтир, то есть граница между освоенными и неосвоенными землями, а вместе с фронтиром идет методичное уничтожение коренного индейского населения[14]14
«Одно из любопытных обстоятельств, связанных с нашими предками, состоит в том, что, хотя они по их собственному признанию стремились к миру и процветанию, к политической и религиозной свободе, начали они с грабежей, травли, убийств и почти поголовно истребили ту расу, которой принадлежал весь этот громадный материк. А позже, когда началась золотая лихорадка, они творили с мексиканцами то же самое, что прежде творили с индейцами. А когда возникли мормоны, то они оказались такими же жестокими и нетерпимыми гонителями по отношению и к белым собратьям». – Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар. – М.: Б. С. Г.-ПРЕСС, 2001. С. 25.
[Закрыть]. Не успев и образоваться, новое государство дало понять миру, что свобода – это прекрасно, но свобода – она не для всех. Все люди равны – и далее по Оруэллу При этом, огнем и мечом решая свои внутренние дела, американцы не лезут во внешние – так, уже Вашингтон объявляет последовательно изоляционистскую доктрину. Такие доктрины, мы увидим, будут теперь меняться, как цвет клеток на шахматной доске.
Пока что, в 1823 году, доктрина Монро подчеркивает интенцию американцев на изоляционизм. В 1846–1848 годах, однако, США ведут Мексиканскую войну, в результате которой получают ни много ни мало Нью-Мексико и Калифорнию, в которой очень скоро вспыхнет эпидемия золотой лихорадки. С приходом к власти Линкольна в 1860 году рабовладельческие южные штаты идут на разрыв с США. Гражданская война заканчивается в 1865 г. убийством Линкольна и полным разгромом Юга. С победой прагматического Севера начинается золотой век Соединенных Штатов. Появляются первые миллионеры, а с ними и первые финансовые скандалы, потому что миллионеры возникают в обход закона. Их прозвали баронами-разбойниками: нефтянник Джон Д. Рокфеллер, промышленник Эндрю Карнеги, финансист Дж. П. Морган. В каком-то смысле – а почему бы и нет? – именно эти люди являются подлинными отцами американской нации.
В 1890 году фронтир официально закрыт – больше не было земель, которые нужно открывать, больше не было индейцев, которых нужно убивать. Конечно, для американцев, которые всерьез верили в доктрину предначертания судьбы, в соответствии с которой Господь призвал Америку править всем миром, всё это было сущим разочарованием: куда идти дальше, если идти уже некуда? Верный ответ: всегда есть куда идти. И американцы пошли, позабыв досужие изоляционистские доктрины, за пределы своих естественных границ. Так, уже в 1898 году они походя аннексируют Гавайские острова, Кубу, Филиппины. В сражениях отличается Теодор Рузвельт, который в 1901 году становится президентом – взамен убитого Мак-Кинли. Рузвельт и вносит некоторые поправки в доктрину Монро, в свете которых Соединенные Штаты всё же могут, если сочтут нужным, исполнять обязанности мирового полицейского. Это означало, что божественное предопределение судьбы продолжает работать. Примерно в этот момент ужас бедного Ницше с его «Keine amerikanische Zukunf!» начинает сбываться на практике.
Однако в Первую мировую войну США сохраняют нейтралитет почти что до самого ее конца – они вступают в войну в 1917 г., когда воевать уже было практически не с кем. По окончании войны президент Вудро Вильсон выступает со своими четырнадцатью пунктами о едином мире. На основании этих пунктов будет создана Лига Наций, в которую США, однако, не вступят. Все 1920-е годы были отмечены бурным экономическим ростом. Настолько бурным, что в 1929 г. случилась Великая депрессия, затронувшая весь мир. В 1930 г. терпит крах Банк Нью-Йорка, а число безработных взлетает с 3 до 15 миллионов, и это еще не предел: «Происходило то, что всегда происходит во время рыночного бума, – зарплаты отставали, а прибыли росли непропорционально быстро, и у богатых в руках оказывался все больший кусок национального пирога. Но поскольку массовый спрос отставал от роста производительности индустриальной системы, зародившейся в лучшие годы Генри Форда, результатом стали перепроизводство и спекуляция. Это, в свою очередь, инициировало начало краха»[15]15
Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). – М.: Издательство К Независимая Газета, 2004. С. 113.
[Закрыть].
К тому же последствия кризиса были таковы, что Эрик Хобсбаум без обиняков пишет: «Если бы не он, вне всякого сомнения, не появился бы Гитлер»[16]16
Там же. С. 98.
[Закрыть].
Франклин Делано Рузвельт, пришедший к власти в 1932 году, с целью лечения экономики выдвигает свой «новый курс». Пока Гитлер бушует в Европе, в 1937 г. США принимают закон о нейтралитете, в соответствии с которым страна не будет поставлять вооружение воюющим странам. Однако вскоре, когда началась Вторая мировая и Британия с Францией оказались в очень незавидном положении, поставки вооружения всё-таки решают осуществлять – с тем условием, что за них должно быть заплачено наличными, и принимающая сторона обязуется самостоятельно доставлять грузы. Эта удобная система получила название cash and carry, почти что плати и проваливай. К тому же в обмен на снабжение Британии Штаты получают в аренду британские военные базы сроком на 99 лет вперед. Эта война, как, впрочем, и предыдущая, для кого-то оказалась очень, очень выгодной.
Однако пришлось и повоевать – после того как японцы 7 декабря 1941 года напали на Перл-Харбор на Гавайях, а следом и Германия с Италией объявили Штатам войну. С японцами не церемонились. В Европе американскими войсками командовал будущий президент, пока что генерал-майор Дуайт Эйзенхауэр. Война заканчивается в 1945-м, отчасти тогда, когда советские войска берут Берлин, отчасти тогда, когда американцы сбрасывают на Японию атомные бомбы – 6 августа на Хиросиму, 9 августа на Нагасаки. Япония капитулирует.