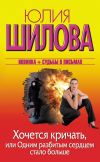Текст книги "Маленький друг"
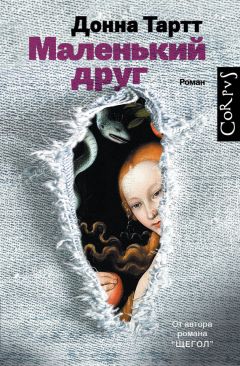
Автор книги: Донна Тартт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 1
Мертвый кот
Двенадцать лет прошло с тех пор, как умер Робин, но никто по-прежнему не знал, как так вышло, что его нашли, повешенного, во дворе его же дома.
В городе о его смерти до сих пор судачили. “Несчастный случай”, так обычно говорили, хотя все факты (которые обсуждали за бриджем, в парикмахерских, рыболовных лавочках, врачебных кабинетах и в банкетном зале “Загородного клуба”) свидетельствовали об обратном. Сложно, конечно, было представить, чтоб девятилетка сам повесился – случайно или по глупости. Подробности все знали, и тут было о чем поговорить и поспорить. Висел Робин на волоконном кабеле, который не везде достанешь – такой разве что электрикам иногда нужен, но никто не знал, откуда этот кабель тут взялся или где его раздобыл Робин. Кабель был толстый, тугой, и следователь из Мемфиса сказал ныне ушедшему на пенсию городскому шерифу, что, по его мнению, маленький мальчик вроде Робина сам узлы ни за что бы не затянул. На ветке кабель был закреплен неумело, кое-как, но кто же знает, это потому, что убийца был неопытный, или потому, что он торопился. А отметины на теле (сообщил врач Робина, который поговорил с судмедэкспертом, который в свою очередь прочел отчет окружного дознавателя) указывали на то, что причиной смерти стала не сломанная шея, а удушение. Одни считали, что он задохнулся в петле, другие – что его сначала задушили, а уж потом повесили.
Но родные Робина, да и все жители города не сомневались, что умер Робин не своей смертью. Но как именно все произошло и кто убийца, так никто и не узнал. С двадцатых годов убийства в уважаемых городских семействах случались дважды, когда ревнивые мужья убивали жен, но то были давние дрязги, и все, кто имел к ним какое-то отношение, уже давно умерли. В Александрии, правда, то и дело убивали негров, но почти любой здешний белый вам скажет, что и убивали их тоже негры из-за каких-то своих сугубо негритянских дел. Другое дело, что теперь убили ребенка – от такого любому станет страшно, богатому и бедному, черному и белому, но никто не мог взять в толк, кто мог сотворить такое и зачем.
В округе говорили, что это все, мол, Жуткий Бродяга, многие рассказывали, что видели его и через несколько лет после смерти Робина. Все сходились на том, что росту он был огромного, но потом описания начинали разниться. Кто говорил, что он белый, кто говорил, что черный, иногда всплывали и яркие приметы вроде недостающего пальца на руке, хромоты, синюшного шрама во всю щеку. Говорили, что он наемный бандит, который удушил ребенка техасского сенатора, а потом скормил его свиньям; что он – выступавший на родео клоун, который хитроумными трюками с лассо подманивал к себе детей, а потом убивал их; что он – сбежавший из Уитфилдского дурдома умственно отсталый психопат, которого в одиннадцати штатах разыскивают за преступления. Но хоть родители в Александрии и пугали детей Бродягой, а в Хэллоуин обязательно кто-нибудь видел, как огромный дядька хромает в двух шагах от Джордж-стрит, изловить Бродягу так и не удалось. После того как погиб мальчик Кливов, каждого бездомного, побродяжку и извращенца в радиусе сотни миль схватили и допросили, но расследование ничего не дало. Конечно, никому не хотелось думать, что убийца прячется где-то за соседним деревом, но страх так никуда и не делся. Особенно боялись, что он так и рыщет поблизости, припарковался где-нибудь в укромном местечке, засел в машине и подсматривает за детьми.
Но такие вещи обсуждали только жители города. Родные Робина о таком даже не заговаривали, ни за что.
Родные Робина говорили о Робине. Рассказывали забавные истории из его детства, про то, как он ходил в детский сад и как играл в бейсбол в Малой лиге, припоминали милые и смешные пустячки, что он говорил или делал. Его старые тетки навспоминали горы подробностей: какие у него были игрушки, какая одежда, каких учителей он любил, а каких терпеть не мог, в какие он играл игры и какие рассказывал им сны, чего ему хотелось, а чего – нет, и что он любил больше всего на свете. Что-то из этого было правдой, что-то – нет, но как тут проверишь, к тому же, если уж Кливы сходились насчет чего выдуманного, как это тотчас же – автоматически и бесповоротно – становилось истиной, хотя сами они об этой своей коллективной магии даже не подозревали.
Сложные и загадочные обстоятельства смерти Робина этой магии были неподвластны. Как бы ни любили Кливы переписывать историю, но на эти разрозненные отрывки сюжета было не накинуть, к логическому знаменателю все не привести, не извлечь уроков, не вывести морали. У них остался только Робин, точнее то, что они о нем помнили, и изысканный абрис его характера, который за долгие годы оброс сложнейшими узорами, стал их величайшим шедевром. Робин был обаятельным непоседой, но именно за ужимки и чудачества все они его так и любили, и когда принялись создавать его заново, порывистость Робина кое-где вышла до болезненного реальной, еще секунда – и он, подавшись вперед, промчится мимо тебя на велосипеде: ветер бьет ему в лицо, а он что есть сил жмет на педали, так что велосипед слегка потряхивает – резвый, своенравный, живой ребенок. Но реальность эта была ненадежной и добавляла обманчивого правдоподобия сказочному по сути сюжету, потому что в других местах историю затерли чуть ли не до дыр, и она стала яркой, но до странного гладенькой, какими бывают иногда жития святых.
“Вот Робин бы обрадовался!” – с нежностью говорили его тетки. “То-то Робин бы посмеялся!” По правде сказать, Робин был егозливым, непоседливым ребенком – то молчит серьезно, то покатывается от хохота, – и львиная доля его обаяния была в этой непредсказуемости. Однако его младшие сестры, которые Робина толком и не помнили, росли, твердо зная, какой у их умершего брата был любимый цвет (красный), какая любимая книжка (“Ветер в ивах”) и кто у него там любимый герой (мистер Тоуд), какое он любил мороженое (шоколадное), за какую бейсбольную команду болел (“Кардиналы”) и еще сотню других вещей, которых они, живые, настоящие дети, сегодня любившие шоколадное мороженое, а завтра уже персиковое – не всегда знали про самих себя. Поэтому их связь с умершим братом была крепче некуда, ведь по сравнению с их собственными, непознанными, переменчивыми натурами, по сравнению с другими людьми, Робин весь был как источник сильного, яркого, непоколебимого сияния, и они выросли с верой в то, что все дело было в редком, ангельском, светлом характере Робина, а никак не в том, что он умер.
Младшие сестры Робина выросли непохожими и на Робина, и друг на друга.
Эллисон исполнилось шестнадцать. Невзрачная белокожая девочка, которая легко обгорала на солнце и ревела почти по каждому поводу, вдруг выросла в длинноногую красавицу с золотисто-рыжими волосами и влажными золотисто-карими глазами. Красота ее была ускользающей. Голос у нее был мягким, движения неспешными, выражение лица сонным, томным, поэтому ее бабка Эди, которая в женщинах ценила живость и огонек, была даже разочарована. Прелесть Эллисон была в ее хрупкости, безыскусности, она вся, словно цветущие июньские луга, была сложена из юной свежести, которая (и кому как не Эди это знать) быстрее всего и увядает. Она витала в облаках, она часто вздыхала, ходила, запинаясь, косолапо подворачивая ноги, и говорила с запинками. Она была красива – неброской, свежей, как парное молоко, красотой, и парни из ее класса уже начали ей позванивать. Эди подсматривала, как она (опустив глаза, раскрасневшись, прижимая трубку к уху плечом) водит по полу носком ботинка и заикается от смущения.
И до чего же жаль, то и дело вслух расстраивалась Эди, что такая прелестная девочка (в устах Эди это слово звучало почти так же, как “слабенькая” и “вялая”) совершенно не умеет себя подать. Эллисон надо убрать челку со лба. Эллисон надо распрямиться, держаться ровно, уверенно, не сутулиться. Эллисон надо улыбаться, говорить погромче, начать хоть чем-нибудь интересоваться, спрашивать, как у людей дела, раз уж она сама не может сказать ничего интересного. Эти советы Эди давала из самых добрых побуждений, но зачастую – при людях и таким нетерпеливым тоном, что Эллисон убегала в слезах.
– Ничего, – громко говорила Эди, нарушая тишину, которая обычно наступала после этого, – кто-то ведь должен научить ее жизни. Я вам так скажу, если б я не держала ее в ежовых рукавицах, она б до десятого класса не доучилась.
И то верно. На второй год Эллисон никогда не оставляли, но пару раз, особенно в начальной школе, она была к этому близка. “Витает в облаках”, сообщал раздел “Поведение” в табеле Эллисон. “Неряха”. “Медлительная”. “Не работает на уроках”. “Ну, надо побольше стараться”, – вяло говорила Шарлотта, когда Эллисон приносила из школы очередные тройки или двойки.
Плохие оценки, казалось, не волновали ни Эллисон, ни ее мать, зато они волновали Эди, да еще как. Она врывалась в школу, требовала, чтоб ей дали переговорить с учителями, изводила Эллисон списками книг, карточками со словами и делением в столбик, с красным карандашом проверяла все сочинения и письменные работы Эллисон, даже когда та перешла в старшие классы.
Бессмысленно было напоминать Эди, что сам Робин, и тот не всегда хорошо учился. “У него был бойкий характер, – ядовито отвечала она. – Но вскоре он бы взялся за ум”. Тогда Эди, пожалуй, почти проговорилась о том, что ее по-настоящему беспокоило, ведь все Кливы прекрасно понимали, что, будь Эллисон такой же бойкой, как ее брат, Эди спустила бы ей с рук все тройки и двойки в мире.
Если Эди за годы, прошедшие со смерти Робина, несколько озлобилась, то Шарлоттой завладело безразличие ко всему, и от этого жизнь ее застопорилась, стала бесцветной. Если она и пыталась вступиться за Эллисон, то делала это неумело и без особого энтузиазма. Она стала походить на своего мужа Диксона – тот сносно обеспечивал семью, но дочерям никогда не уделял заботы. Ничего личного в таком равнодушии не было, Дикс был человек разносторонний, и одна из его сторон маленьких девочек ни в грош не ставила, о чем он всегда сообщал открыто и с беспечной, дружелюбной веселостью. (Его дочерям, любил повторять он, от него ни цента не достанется.)
Дикса и раньше почти никогда не было дома, а теперь он и вовсе там редко появлялся. Его родителей Эди считала нуворишами (отец Дикса торговал сантехникой), и когда Дикс, ослепленный происхождением Шарлотты и ее семьей, на ней женился, то думал, что она еще и богата. Счастливым их брак никогда не был (Дикс допоздна засиживался в банке, допоздна играл в покер, ездил на охоту, на рыбалку, играл в гольф и под любым предлогом старался ускользнуть из дома на выходные), но после смерти Робина даже у Дикса поиссякло терпение. Ему хотелось уже разделаться с этим трауром, он на дух не переносил тишины в доме, воцарившейся атмосферы запустения, апатии, печали и потому выкручивал на всю звук телевизора, раздраженно ходил из комнаты в другую, хлопал в ладоши, раздвигал занавеси, то и дело повторяя: “Ну-ка, встряхнитесь!”, или “Давайте-ка возьмем себя в руки!”, или “Мы же все заодно!” До чего же он удивился, когда его усилий никто не оценил. В конце концов, когда он своими подбадриваниями не сумел разогнать тоску дома, ему сделалось там совсем скучно, и он сначала все чаще и чаще стал сбегать в свой охотничий домик, а потом взял и согласился, когда ему предложили работу в другом городе, в банке, с хорошей зарплатой. Вроде как беззаветно всем пожертвовал. Но всякий, кто знал Дикса, хорошо понимал, что тот перебрался в Теннесси совсем не ради семьи. Дикс любил, чтоб жизнь била ключом – “кадиллаки”, вечера за картами, футбольные матчи, ночные клубы в Новом Орлеане и каникулы во Флориде, – ему хотелось коктейлей, смеха, чтоб жена ходила с идеальной прической, держала дом в чистоте и по первому его слову выносила поднос с закусками.
Но жизнерадостной и развеселой семьи Диксу не досталось. Его жена и дочери были нелюдимыми, чудаковатыми, угрюмыми. Хуже того, после всех этих событий они, и сам Дикс в том числе, стали как прокаженные. Друзья начали их избегать. Другие семейные пары больше их никуда не звали, знакомые перестали к ним заходить. Поэтому Диксу ничего не оставалось, кроме как променять семью на обшитую деревянными панелями контору и бурную светскую жизнь в Нэшвилле – и никаких угрызений совести это у него не вызвало.
Эллисон, конечно, раздражала Эди, зато двоюродные бабки души в ней не чаяли, и все, что Эди находила в ней несносным, им казалось романтическим, поэтичным. По их мнению, Эллисон была в семье не только самой красивой, но и самой славной – терпеливая, безропотная, умеет обходиться с животными, стариками и детьми, – а эти качества, считали бабки, куда важнее хороших оценок и умничаний.
Бабки всегда преданно вставали на ее сторону. Ребенку и без того много вынести пришлось, как-то раз свирепо сказала Тэт, обращаясь к Эди. Ее слова подействовали – ненадолго, но Эди поутихла. Все ведь помнили, что в тот ужасный день во дворе были только Эллисон с младенцем, Эллисон тогда, конечно, было всего четыре года, но она, несомненно, что-то видела, и, судя по всему, что-то очень страшное, потому что с тех самых пор была слегка не в себе.
В тот же день ее настойчиво допрашивали и члены семьи, и полицейские. Видела ли она кого-то во дворе, взрослого, например, какого-нибудь дядю? Но Эллисон, которая вдруг ни с того ни с сего начала писаться в кровать и просыпаться с воплями от жутких кошмаров, отказывалась что-либо говорить. Она сосала палец, крепко прижимала к себе плюшевую собачку и не отвечала даже на вопросы о том, как ее зовут и сколько ей лет. Либби, самой мягкой и терпеливой ее двоюродной бабушке, и той не удалось и слова из нее вытянуть.
Эллисон не помнила брата, не вспомнила она ничего и о его смерти. В детстве, бывало, она часто лежала без сна – в доме все уже спят, а она лежит, разглядывает джунгли теней на потолке и изо всех сил роется в памяти в поисках воспоминаний, но так ничего и не находит.
Милая будничность детства никуда не делась – вот крыльцо, пруд с рыбками, киса, клумбы, все привычное, яркое, незыблемое, но всякий раз, когда она пыталась вспомнить что-то, что было еще раньше, у нее перед глазами возникала одна и та же странная картинка: во дворе никого, по пустому дому гуляет эхо, все ушли совсем недавно, потому что белье развешано, со стола после ланча еще не убирали, а вся семья куда-то делась, пропала, а куда, она не знает, и рыжий кот Робина – не тот вальяжный, мордастый котище, в которого он вырос, а еще совсем котенок – вдруг взбесился, глаза у него остекленели, и он метнулся через весь двор, взлетел на дерево, в ужасе отпрыгнув от нее так, будто в первый раз ее видел. В этих воспоминаниях она сама на себя была не похожа, особенно если воспоминания были из раннего детства. Окружающую обстановку она опознавала с ходу – дом номер 363 по Джордж-стрит, место, где она всю жизнь жила, – но саму себя, Эллисон, не узнавала: вместо нее там был кто-то другой, ни младенец, ни ребенок, так – взгляд, пара глаз, которые оглядывали знакомые места и видели их так, будто за этим взглядом не стояло никакой личности, тела, возраста или прошлого, как будто она вспоминала то, что случилось еще до ее рождения.
Сознательно Эллисон обо всем этом не думала, так, всплывали какие-то бесформенные обрывки. В детстве ей в и голову не приходило, что эти разрозненные впечатления могут что-то означать, а став старше, она и вовсе перестала об этом задумываться. О прошлом она почти не вспоминала и в этом сильно отличалась от своих родных, которые только о нем и думали.
В семье ее не понимали. Но они не поняли бы ничего, даже если б она попыталась им что-то объяснить. В их головах, занятых бесконечным припоминанием того или этого, прошлое с будущим представали повторяющимися сюжетами, и другой взгляд на мир был для них непостижим.
Память – хрупкая, зыбко-яркая, чудесная – для них была жизненной искрой, и с обращения к памяти они начинали почти каждую фразу. “Помнишь, у тебя было батистовое платьице в зеленый листочек? – напирали на нее мать с бабками. – А розовый куст помнишь? А лимонные пирожные? А помнишь, какая замечательная выдалась морозная пасха, когда Гарриет была еще совсем крошкой и вы с ней в снегу искали яйца и вылепили у Аделаиды во дворе пасхального зайчика?”
“Ну да, ну да, – врала в ответ Эллисон, – помню”. И ведь можно сказать, что помнила. Она столько раз уже слышала эти рассказы, знала все наизусть, а если что, и сама могла их повторить, ввернув подробность-другую, которыми другие пренебрегли: как, например, они с Гарриет собрали розовые лепестки, облетевшие с побитых морозом диких яблонь, и сделали из них зайчику нос и уши. Все эти рассказы она знала, как знала еще истории из маминого детства – или из книжек. Но по большому счету с собой лично никак не связывала.
А правда была такова (и в этом Эллисон никогда и никому не признавалась): очень многих вещей она вообще не помнила. У нее не сохранилось никаких воспоминаний о том, как она ходила в детский сад, да и в первый класс, да и вообще она толком не помнила ничего, что с ней происходило лет до восьми. Эллисон этого страшно стыдилась и всеми силами (и по большей части успешно) старалась скрыть. Ее младшая сестра Гарриет, например, якобы помнила события, которые происходили, когда ей еще и года не было.
Гарриет не было и полугода, когда умер Робин, но она утверждала, что помнит и его, и Эллисон, да и все Кливы верили, что, скорее всего, так оно и было. Время от времени Гарриет вдруг выдавала какой-нибудь напрочь позабытый всеми, но удивительно точный факт – какая была погода, кто как был одет и что подавали на обедах в честь чьего-нибудь дня рождения, когда ей еще и двух лет не исполнилось, – так что все только рты разевали.
Но Эллисон совсем не помнила Робина. До чего непростительно. Ей было почти пять, когда он умер. И что было после его смерти, она тоже вспомнить не могла.
Разыгравшееся потом действо она, конечно, знала до мелочей: слезы, плюшевая собачка, ее молчание, и как детектив из Мемфиса по имени Белок Оливет, здоровяк с верблюжьим лицом и ранней сединой в волосах, показывал ей снимки своей дочери Селии и угощал ее батончиками “Миндальная нега”, целая коробка которых стояла у него в машине, как он показывал ей еще и другие снимки – чернокожих мужчин, белых мужчин, остриженных под ежик, с набрякшими веками, как Эллисон сидела на синей бархатной козетке дома у Тэттикорум – они с сестрой тогда жили у Тэт, потому что мать не вставала с постели, – по лицу у нее катились слезы, она отколупывала с “Миндальной неги” шоколад и упорно молчала. Она это знала не потому, что помнила, а потому, что ей об этом рассказывала тетка Тэт – много раз подряд, сидя в кресле, придвинутом поближе к обогревателю, когда зимой после школы Эллисон заходила ее проведать: ее подслеповатые буровато-карие глаза всегда смотрели куда-то вдаль, а слова лились плавно, ласково, с ностальгией, будто героиня ее рассказа вовсе не сидела с нею рядом.
У проницательной Эди не хватало ни ласки, ни терпения. В историях, которые она рассказывала Эллисон, часто прослеживалась занятная аллегоричность.
“Сестра моей матери, – заводила, бывало, Эди, когда везла Эллисон домой с уроков фортепиано, ни на секунду не сводя глаз с дороги, высоко вздернув крупный элегантный ястребиный нос, – сестра моей матери знавала одного мальчика, Рэндалла Скофилда, у которого вся семья погибла во время торнадо. Приходит он, значит, домой после уроков, и знаешь, что видит? Весь дом разнесло в щепки, а негры, их работники, вытащили из-под обломков трупы его отца, матери и трех младших братьев, и вот так они и лежат, все в крови, даже простынку никто не набросил – лежат рядком, что твой ксилофон. Одному брату руку оторвало, а у матери в виске чугунный упор для двери застрял. Ну и знаешь, что с этим мальчиком сталось? Он онемел. И семь лет потом еще слова не мог вымолвить. Отец рассказывал, что он всюду с собой таскал стопку картонок, какие в рубашки вставляют, и восковой карандаш, чтоб писать все, что он хотел сказать. Хозяин местной химчистки бесплатно ему эти картонки давал”.
Эди любила рассказывать эту историю. У нее были варианты: дети то слепли, то откусывали себе языки, то впадали в беспамятство, столкнувшись с ужасными зрелищами. Звучала в этих историях какая-то укоризненная нотка, которую Эллисон все никак не могла полностью уловить.
Эллисон много времени проводила одна. Слушала пластинки. Клеила коллажи из журнальных вырезок и лепила из расплавленных восковых карандашей неопрятные свечи. Рисовала балерин, лошадей и мышат на полях тетради по геометрии. В столовой она сидела за одним столом с группкой довольно популярных в школе девочек, но вне школы редко с ними виделась. С виду она была совсем как они: модная одежда, чистая кожа, живет в большом доме на приличной улице, ну и пусть что не слишком бодрая или смышленая, так ведь и плохого о ней сказать нечего.
– Захочешь, так можешь стать всеобщей любимицей, – сказала Эди, которая все социальные выгоды просчитывала с ходу, даже на уровне десятого класса. – Самой популярной в классе девчонкой стать можешь, стоит только постараться.
Стараться Эллисон не желала. Она, конечно, не хотела, чтоб над ней издевались или чтоб ее дразнили, но если никто особо не обращал на нее внимания, это ее полностью устраивало. Впрочем, кроме Эди, внимания на нее почти никто и не обращал. Она много спала. Одна ходила в школу и обратно. Если встречала по пути собаку, останавливалась с ней поиграть. По ночам ей снилось желтое небо, на фоне которого билось что-то белое, будто простыня. Она страшно пугалась, но проснувшись, тотчас же обо всем забывала.
Эллисон много времени проводила с двоюродными бабками – оставалась у них на выходные, заходила после школы. Она вдевала им нитки в иголки, читала вслух, когда у старушек стало сдавать зрение, залезала на стремянку, чтобы снять что-нибудь с пыльной верхней полки, слушала рассказы про их давно покойных одноклассниц и фортепьянные концерты шестидесятилетней давности. Иногда после школы она варила сладости для их церковных благотворительных распродаж – помадку, ириски, нугу.
Она охлаждала мраморную столешницу, проверяла температуру термометром, выверяла все тщательно, будто аптекарь, ни на шаг не отступая от рецепта, ножом для масла выравнивая уровень ингредиентов в мерной чашке. Ее бабки – сами сущие девчонки, хохотушки с нарумяненными щеками и завитыми волосами – топотали туда-сюда, носились, суетились, звали друг друга детскими прозвищами, радуясь тому, что кто-то хлопочет на кухне.
Хозяюшка ты наша, выпевали бабки. Красавица. Ангел наш дорогой, не забываешь нас. Славная девочка. Миленькая. Хорошенькая.
Младшая сестра, Гарриет, не была ни миленькой, ни хорошенькой. Гарриет была умной.
Едва выучившись говорить, Гарриет внесла в жизнь Кливов легкую сумятицу. Она дралась на детской площадке, дерзила взрослым, препиралась с Эди, брала в библиотеке книги про Чингисхана и матери не давала спокойно вздохнуть. Она училась в седьмом классе, ей было двенадцать.
Училась она на отлично, но учителя никак не могли с ней сладить. Иногда они звонили матери или Эди – все, кто хоть капельку разбирался в Кливах, понимали – говорить надо с ней, она – семейный фельдмаршал и управитель, вся власть у нее в руках, и если кто и может что-то сделать, так это она. Но Эди и сама не знала, как вести себя с Гарриет. Непослушной или неуправляемой Гарриет не назовешь, но она была высокомерна, и любого взрослого каким-то образом ухитрялась вывести из себя.
В Гарриет не было ничего от мечтательной хрупкости сестры. Она была крепко сбита, как барсучок – круглые щеки, острый носик, черные, остриженные в каре волосы, тонкие, решительно поджатые губы. Говорила она резким, пронзительным фальцетом – слишком отрывисто для уроженки Миссисипи, поэтому те, кто видел ее впервые, часто спрашивали, где она выучилась говорить, как янки. Глаза у нее были светлые, проницательные – совсем как у Эди. Все отмечали, как сильно она похожа на бабку, но от стремительной, свирепой красоты Эди в Гарриет осталась одна свирепость, которая многим действовала на нервы. Садовник Честер про себя звал их ястребом и ястребенком.
И Честера, и Иду Рью Гарриет бесконечно и смешила, и доводила до белого каления. Как только она научилась говорить, стала всюду ходить за ними хвостом и расспрашивать обо всем, что они делали. Сколько Ида получает денег? А Честер знает “Отче наш”? А пусть для нее прочитает. Еще их веселило то, что она вечно ссорила в общем-то миролюбивых Кливов. Несколько раз они чуть ли не навеки разругались из-за Гарриет: когда та, например, сообщила Аделаиде, что ни Эди, ни Тэт не пользуются наволочками, которые Аделаида для них вышила, а передарили их другим людям, или когда она просветила Либби, что ее соленья в укропном маринаде, которые Либби считала своим кулинарным шедевром, есть невозможно, а у родных и соседей они пользуются такой популярностью только потому, что ими отчего-то очень хорошо травить сорняки.
“Видела во дворе такой лысый пятачок? – спросила Гарриет. – Возле заднего крыльца? Тэтти туда выплеснула твой маринад лет шесть назад, и с тех пор там ничего не растет”. Гарриет горячо продвигала идею о том, что маринад надо разливать по бутылкам и продавать как гербицид. Либби заделается миллионершей.
Тетя Либби перестала рыдать только три или четыре дня спустя. С Аделаидой и ее наволочками все было еще хуже. В отличие от Либби та любила дуться: целых две недели она не разговаривала ни с Эди, ни с Тэт, холодно игнорировала примирительные пироги и торты, которые они оставляли у нее на крыльце – их потом съедали соседские собаки. Либби в ужасе от такого разлада (она-то была как раз ни в чем не виновата, потому что только у нее хватало сестринской любви на то, чтобы пользоваться уродливыми Аделаидиными наволочками) семенила туда-сюда, пытаясь всех помирить. Ей это почти удалось, но тут Гарриет снова взбаламутила Аделаиду, рассказав той, что Эди никогда не разворачивает подарки от нее, а только отвязывает с них подарочные ярлычки, привязывает новые и рассылает их по всяким благотворительным организациям – даже для негров. Скандал вышел такой, что и теперь, столько лет спустя, стоило кому-то об этом вспомнить, и снова отовсюду сыпались завуалированные ядовитые обвинения, а Аделаида с тех пор на Рождество и дни рождения специально покупала сестрам вызывающе дорогие подарки – например, флакон “Шалимара” или ночную сорочку от “Голдсмита” в Мемфисе, с которых к тому же частенько забывала снимать ценники. “Сама я предпочитаю подарки, сделанные своими руками, – громко сообщала она дамам из своего бридж-клуба, трудившемуся во дворе Честеру или пристыженно склонившим головы сестрам, которые разворачивали непрошеные щедрые дары. – Они куда ценнее. Это проявление заботы. Но некоторым важно только то, сколько ты на них потратил денег. Они подарок за подарок не считают, если он не куплен в магазине”.
“Мне нравится, как ты шьешь, Аделаида”, – всегда говорила Гарриет. И ей правда нравилось. Фартуки, наволочки, посудные полотенца ей были ни к чему, но аляповатым Аделаидиным рукоделием у нее в комнате были под завязку забиты все ящики комода. Впрочем, нравилось ей не рукоделие, а вышивка на нем: голландские крестьянки, танцующие кофейники, храпящие мексиканцы в сомбреро. Она так их обожала, что даже подворовывала аделаидины подарки из чужих комодов, и ее чертовски злило, что Эди отсылала наволочки в благотворительные организации (“Не глупи, Гарриет. Тебе-то они зачем сдались?”), когда они ей самой были нужны.
– Я знаю, что тебе-то нравится, милая, – бормотала Аделаида срывающимся голосом – до того ей было себя жаль – и наклонялась, чтоб театрально чмокнуть Гарриет в лобик, пока Тэт с Эди переглядывались у нее за спиной. – Когда меня не станет, ты будешь рада, что хоть у тебя эти вещи остались.
– Эта штучка, – сказал Честер Иде, – любит воду мутить.
Эди, которая сама в общем-то любила помутить воду, обнаружила, что младшая внучка ей мало в чем уступает. Но, несмотря на это, а может быть, как раз поэтому, им и было хорошо вместе, и Гарриет много времени проводила дома у бабки. Эди часто жаловалась, что Гарриет упрямая и невоспитанная, ворчала, что она вечно путается у нее под ногами, но хоть Гарриет и выводила Эди из себя, та предпочитала ее общество обществу Эллисон, которой всегда было нечего сказать. Эди скучала по Гарриет и любила, когда внучка ее навещала, хотя сама бы, конечно, в жизни в этом не призналась.
Двоюродные бабки тоже любили Гарриет, но она не была такой ласковой, как ее старшая сестра, и ее заносчивость их обескураживала. Слишком она была прямолинейная. Она не умела вести себя сдержанно и дипломатично, и, хоть Эди этого и не замечала, Гарриет в этом отношении была здорово похожа на бабку.
Напрасно тетушки пытались обучить ее вежливости.
– Как же ты не поймешь, милая, – говорила Тэт, – что, если пудинг тебе не нравится, лучше все равно его съесть, нежели обидеть хозяйку дома отказом?
– Но я не люблю пудинг.
– Знаю, что не любишь, Гарриет. Поэтому-то я привела этот пример.
– Пудинги – это отвратительно. Их все терпеть не могут. А если я ей скажу, что пудинг мне нравится, она так и будет мне его подкладывать.
– Да, милая, но смысл-то не в этом. А в том, что если кто-то ради тебя расстарался и что-то приготовил, съесть это будет проявлением хорошего тона, даже если тебе не хочется.
– В Библии сказано, что лгать – нехорошо.
– Это другое. Это ложь во благо, белая ложь. В Библии про другую ложь сказано.
– В Библии не сказано, черная ложь или белая. Там написано просто – ложь.
– Ну правда, Гарриет. Конечно, Иисус велел нам не лгать, но это же не значит, что нужно грубить хозяйке дома.
– Про хозяйку дома Иисус ничего не говорил. Он говорил, что ложь – это грех. Он говорил, что Сатана – лжец и князь лжецов.
– Но Иисус ведь еще говорил, “возлюби ближнего своего”, правда? – сымпровизировала Либби, перенимая эстафету у потерявшей дар речи Тэт. – Разве это не про хозяйку дома? Если она живет близко.
– Верно, – радостно подхватила Тэт. – Ну то есть, – поспешила заметить она, – не то чтобы твой ближний непременно должен близко от тебя жить. “Возлюби ближнего своего” означает, что нужно есть что дают и быть за это благодарной.
– Не понимаю, с чего это любить ближнего – значит говорить ему, что я люблю пудинг. Я же не люблю пудинг.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?