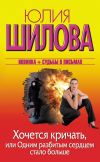Читать книгу "Маленький друг"
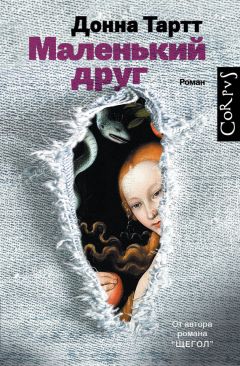
Автор книги: Донна Тартт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В этом мире был Робин – вот он спит вместе с рыжим котом Вини, вот, захлебываясь от хохота, носится по солидному – с колоннами – парадному крыльцу “Напасти”: кричит что-то в камеру, пускает мыльные пузыри через катушку, держа в руках блюдечко с пеной; вот он в скаутской форме – вытянулся в струнку, раздулся от гордости, а вот совсем маленький Робин в костюме жадной вороны – это у него была такая роль в детсадовской пьеске “Пряничный Человечек”. Костюм этот произвел фурор. Либби над ним корпела несколько недель: черное трико, сверху – оранжевые гольфы, а швы – от запястья до подмышки и от подмышки до бедра – прошиты перьями из черного бархата. Клювом стал картонный оранжевый конус, который Робину прицепили к носу. Костюм вышел такой красивый, что Робин надевал его два Хэллоуина подряд, а за ним – и его сестры, да и теперь, столько лет спустя, соседские матери, бывало, одалживали его у Шарлотты.
В тот вечер, когда состоялась премьера спектакля, Эди извела на Робина целую пленку: вот он исступленно носится по дому, размахивая руками – парусят черные крылья, несколько перышек облетают на огромный, потертый ковер. Вот обхватил за шею черными крыльями зардевшуюся портниху – засмущавшуюся Либби. То он снят с друзьями – с Алексом (пекарь в белом колпаке и халате) и самим Пряничным Человечком – хулиганом Пембертоном, у которого личико аж раскраснелось от злости, до того он стыдится своего костюма. Снова Робин – извивается от нетерпения, зажат у матери между колен, пока Шарлотта пытается его причесать. Задорная молодая женщина на снимках – это, конечно, мать Гарриет, но такой легкой на подъем, очаровательной мамы, в которой так и кипит энергия, Гарриет никогда не знала.
Фотографии завораживали Гарриет. Больше всего на свете ей хотелось ускользнуть из этого мира в их прохладную, синеватую прозрачность, где был жив ее брат, и стоял красивый дом, и все всегда были счастливы. Вот Робин с Эди в громадной, мрачной гостиной – оба стоят на четвереньках и играют в какую-то настольную игру, что это за игра была, она не знала, там были яркие фишки и надо было раскручивать разноцветную рулетку. Вот они снова, Робин стоит к объективу спиной и бросает Эди огромный красный мяч, а Эди, смешно выпучив глаза, подалась вперед, чтоб его поймать. Вот он задувает свечки на торте – девять свечек, это будет его последний день рождения, и Эди с Эллисон высовываются у него из-за плеча, они помогают ему задуть свечи, и смеющиеся лица так и сияют в темноте. Горячечный рождественский водоворот: сосновые ветки и мишура, под елкой гора подарков, на буфете посверкивает хрусталь – чаша с пуншем, блюда сластей и апельсинов. Стоят на серебряных подносиках припорошенные сахарной пудрой кексы, у каминных купидонов висят на шеях гирлянды из остролиста, и все хохочут, а в высоченных зеркалах отражается яркий свет люстры. На заднем плане Гарриет сумела разглядеть стоявший на праздничном столе знаменитый рождественский сервиз: с рисунком из алых ленточек, под которыми болтались позолоченные бубенцы. Сервиз этот побился при переезде, потому что грузчики его упаковали кое-как, и теперь от него ничего не осталось, кроме пары блюдец да соусника, но на фотографии вот он, целехонек – божественная роскошь.
И сама Гарриет родилась в канун Рождества, когда на дворе бушевала самая снежная за всю историю Миссисипи вьюга. В коробке-сердечке нашелся снимок и этого снегопада: по обледеневшей дубовой аллее, ведущей к “Напасти”, несется Прыгунок, давно умерший Аделаидин терьер – мчится к своей хозяйке, которая держит камеру, разбрасывая снег, обезумев от радости, застыв навеки с раззявленной пастью, счастливо предвкушая, как вот-вот напрыгнет на мамочку. Вдалеке виднеется распахнутая дверь “Напасти”, в дверях стоит Робин и весело машет фотографу, а за его пояс робко цепляется Эллисон. Он машет Аделаиде, которая и сделала этот снимок, и Эди, которая помогает ее матери вылезти из машины, и еще он машет своей новорожденной сестре Гарриет, которой он еще и в глаза не видел – ее только-только, в белоснежный сочельник, привезли домой из больницы.
Гарриет видела снег всего два раза в жизни, но всю жизнь помнила, что родилась в снегопад. И каждый сочельник (рождественские обеды теперь стали скромнее, печальнее, все собирались вокруг газовой горелки в душном, низеньком домике Либби и пили эггног) Либби, Тэт и Аделаида рассказывали одну и ту же историю, как они, значит, набились в Эдино авто и поехали в Виксбург, в больницу, чтобы по этакому снегу привезти Гарриет домой.
– Ты стала самым лучшим нашим рождественским подарком, – повторяли они. – А как радовался Робин! Накануне того, как мы поехали тебя забирать, он всю ночь не мог уснуть и до четырех утра и бабке своей спать не давал. А когда он тебя впервые увидел, когда мы уже принесли тебя домой, он минутку помолчал, а потом и говорит: “Мам, ты, наверное, у них там самого хорошенького малыша выбрала”.
– Гарриет была таким послушным ребенком, – вздохнула мать Гарриет, которая сидела возле горелки, обхватив колени руками. Рождество, как и день рождения Робина, и годовщину его смерти, Шарлотта переживала особенно тяжело, это все знали.
– Я была послушной?
– Да, солнышко, очень послушной.
И это была правда. Гарриет никогда не плакала и вообще никому не доставляла никаких неудобств, пока не выучилась говорить.
Была у Гарриет в коробке-сердечке и самая любимая фотография, которую она разглядывала снова и снова при свете фонарика: на ней Робин и Эллисон вместе с Гарриет сидят в гостиной “Напасти” под елкой. Насколько Гарриет было известно, это был их единственный общий снимок, единственное фото с ней в их старом доме. Ничто на снимке не указывало на то, что их ждет череда несчастий. Через месяц умрет старик-судья, они потеряют “Напасть”, а весной Робин погибнет, но тогда, конечно, этого никто не знал: на дворе было Рождество, в семье было прибавление, все были счастливы и думали, что счастье это будет длиться вечно.
На фотографии босая и насупленная Эллисон в белой ночной рубашке стояла рядом с Робином, который с восторгом и замешательством держал малютку Гарриет – как будто ему купили новомодную игрушку, к которой он пока не знал, как подступиться. За ними переливалась огнями елка, а в уголке снимка виднелись любопытные морды кота Вини и терьера Прыгунка, они были что те животные, которые пришли поклониться чуду в вифлеемских яслях. Улыбались сверху мраморные купидоны. Свет на фото был дробленый, сентиментальный, пылающий предвестием беды. К следующему Рождеству помрет даже Прыгунок.
Когда Робин погиб, Первая баптистская церковь объявила о сборе пожертвований в его честь – на них купили бы потом куст японской айвы или новые подушки на скамьи, но никто не думал, что денег соберут так много. Церковные окна – шесть штук – были витражными, с изображением сцен из жизни Христа, один из витражей во время вьюги пробило суком, и оконный проем с тех пор так и был забит фанерой. Пастор, который уж отчаялся прикидывать, во сколько обойдется церкви новый витраж, предложил на него и потратить собранные деньги.
Значительную сумму собрали городские школьники. Она ходили по домам, устраивали лотереи, торговали печеньем собственной выпечки. Друг Робина, Пембертон Халл (тот самый Пряничный Человечек из детсадовской пьески), отдал на памятник погибшему другу почти двести долларов – этакое богатство, уверял всех девятилетний Пем, хранилось у него в копилке, но на самом деле деньги он стащил из бабушкиного кошелька. (Еще он пытался пожертвовать обручальное кольцо матери, десять серебряных ложечек и невесть откуда взявшийся масонский зажим для галстука, усыпанный бриллиантами и явно недешевый.) Но и без этих внушительных пожертвований одноклассники Робина собрали весьма солидную сумму, а потому вместо того, чтоб снова вставлять витраж со сценой брака в Кане Галилейской, было решено не только почтить память Робина, но и отметить так старательно трудившихся ради него детей.
Новое окно представили восхищенным взорам прихожан полтора года спустя – на нем симпатичный голубоглазый Иисус сидел на камне под оливковым деревом и разговаривал с очень похожим на Робина рыжим мальчиком в бейсболке.
пустите детей приходить ко мне
– такая надпись бежала по низу витража, а на табличке под ним было выгравировано следующее:
Светлой памяти Робина Клива-Дюфрена
От школьников города Александрии, штат Миссисипи
“Ибо таковых есть Царствие Небесное”.
Всю свою жизнь Гарриет видела, как ее брат сияет в одном созвездии с архангелом Михаилом, Иоанном Крестителем, Иосифом, Марией, ну и, конечно, самим Христом. Полуденное солнце текло сквозь его вытянувшуюся фигурку, и той же блаженной чистотой светились его одухотворенное курносое личико и озорная улыбка. И так ярко оно светилось потому, что чистота его была чистотой ребенка, а значит – куда более хрупкой, чем святость Иоанна Крестителя и всех остальных, однако на всех их лицах – в том числе и на личике Робина – общей тайной лежала тень вечного равнодушного покоя.
Что же именно произошло на Голгофе или в гробнице? Как же плоть проходит путь от скорби и тлена до такого вот калейдоскопного воскресения? Гарриет не знала. А вот Робин – знал, и эта тайна теплилась на его преображенном лице.
Воскресение самого Христа очень ловко называли таинством, и отчего-то никому не хотелось в этом вопросе докопаться до сути. Вот в Библии написано, что Иисус воскрес из мертвых, но что это на самом деле значит? В каком виде Он вернулся – как дух, что ли, как жиденький какой-нибудь призрак? Но нет же, вот и в Библии сказано: Фома Неверующий сунул палец в рану от гвоздя у Него на ладони; Его во вполне себе телесном обличии видели на пути в Эммаус, а в доме одного апостола Он даже немного перекусил. Но если Он и впрямь воскрес из мертвых в своей земной оболочке, где же Он сейчас? И если Он взаправду всех так любил, как сам об этом рассказывал, то почему тогда люди до сих пор умирают?
Когда Гарриет было лет семь-восемь, она пришла в городскую библиотеку и попросила дать ей книжек про магию. Но открыв эти книжки дома, она пришла в ярость – там были описания фокусов: как сделать так, чтобы шарик исчез из-под стаканчика или чтоб у человека из-за уха вывалился четвертак. Напротив окна с Иисусом и ее братом был витраж, изображавший воскрешение Лазаря. Гарриет снова и снова перечитывала в Библии историю Лазаря, но там не было ответов даже на простейшие вопросы. Что рассказал Лазарь Иисусу и сестрам о том, как он неделю пролежал в могиле? И что, от него так и воняло? А он сумел потом вернуться домой и жить с сестрами, как и прежде, или теперь все соседи его боялись и потому ему, может быть, пришлось уехать куда-нибудь и жить в одиночестве, как чудищу Франкенштейна? Гарриет никак не могла отделаться от мысли о том, что будь она там, то уж рассказала бы обо всем поподробнее, чем святой Лука.
Но, может, это все была выдумка. Может, и сам Иисус никогда не воскресал, а люди просто придумали, что Он воскрес, но если Он и впрямь откатил камень и вышел из гробницы живым, то почему тогда этого не мог сделать ее брат, который по воскресеньям сиял подле Него?
И это стало самой большой навязчивой идеей Гарриет, породившей все другие ее навязчивые идеи. Потому что больше “Напасти”, больше всего на свете – она хотела вернуть брата. Или найти его убийцу.
На дворе был май, со дня смерти Робина прошло уже двенадцать лет, и как-то утром Гарриет сидела на кухне у Эди и читала путевые журналы последней экспедиции капитана Скотта в Антарктику. Она ела яичницу-болтунью с тостом, и книжка лежала у нее под локтем, возле тарелки. По пути в школу они с Эллисон часто заходили к Эди позавтракать. Дома у них за готовку отвечала Ида Рью, но раньше восьми утра она не приходила, а их мать, которая, впрочем, вообще почти ничего не ела, обычно завтракала сигаретой, иногда разбавляя ее бутылкой “Пепси”.
День был будний, но каникулы начались, и Гарриет не надо было идти в школу. На Эди был фартук в горошек, она стояла у плиты и готовила яичницу себе. Чтение за столом она не слишком одобряла, но пусть уж Гарриет читает, все легче, чем одергивать ее каждые пять минут.
Вот яичница и готова. Она выключила плиту, пошла к буфету за тарелкой. При этом ей пришлось переступить через другую свою внучку, которая распласталась ничком на кухонном линолеуме и монотонно всхлипывала.
Всхлипывания Эди проигнорировала, осторожно перешагнула через Эллисон и ложкой переложила яйца на тарелку. Опять осторожно обошла Эллисон, уселась за стол рядом с погруженной в чтение Гарриет и молча принялась за еду. Нет, для такого она уже старовата все-таки. С пяти утра на ногах и все это время – с детьми.
Беда была с их котом, который лежал на полотенце в коробке возле головы Эллисон. Неделю назад он перестал есть. Потом начал вопить, когда до него дотрагивались. Кота принесли к Эди, чтоб Эди его осмотрела.
Эди умела обращаться с животными и частенько думала, что из нее вышел бы отличный ветеринар или даже врач, если бы в ее время девушки таким занимались. Она вечно выхаживала то котят, то щенков, спасала птенцов, выпавших из гнезд, промывала раны и вправляла кости попавшим в беду животным. Об этом знали не только ее внучки, но и все соседские дети, которые вечно тащили к ней не только своих прихворнувших питомцев, но и всех бездомных кошечек-собачек и прочих зверьков.
Эди животных любила, но сентиментальничать не сентиментальничала. И чудес не творила тоже, напоминала она детям. Деловито осмотрев кота – тот и вправду был вяловат, но с виду вполне здоров, – она встала и отряхнула руки об юбку, пока внучки с надеждой глядели на нее.
– Лет-то ему сколько уже? – спросила она.
– Шестнадцать с половиной, – ответила Гарриет.
Эди нагнулась и погладила беднягу – кот жался к ножке стола, таращился на них – безумно, жалобно. Этого кота она и сама любила. Котик был Робина. Тот его летом подобрал на раскаленном тротуаре, когда кот помирал и даже глаз уже не мог раскрыть, и с робкой надеждой притащил ей – в сложенных ковшиком ладонях. Эди пришлось попотеть, чтоб его спасти. Опарыши проели котенку бок, и она по сей день помнила, как он лежал покорно, не жалуясь, пока она промывала рану, и какая красная потом была вода.
– Он ведь поправится, правда, Эди? – спросила Эллисон, которая уже тогда была готова разреветься. Кот был ей лучшим другом. После смерти Робина он привязался к Эллисон: ходил за ней по пятам, как что убьет или стащит – нес ей (дохлых птиц, лакомые кусочки из мусорного ведра, а однажды каким-то загадочным образом притащил даже непочатую пачку овсяного печенья), а когда Эллисон пошла в школу, кот каждый день без пятнадцати три принимался скрестись в заднюю дверь, чтоб его выпустили и он мог встретить ее на углу.
И Эллисон обходилась с котом куда нежнее, чем с родственниками. Она вечно с ним разговаривала, подкармливала с тарелки курицей и ветчиной, а ночью брала к себе в кровать, где он укладывался у нее на шее и засыпал.
– Наверное, что-нибудь не то съел, – сказала Гарриет.
– Поживем – увидим, – ответила Эди.
Но, похоже, все было, как она и думала. Ничем кот не болел. Старый он был, вот и все. Она пыталась кормить его тунцом, поить молоком из пипетки, но кот только жмурился и сплевывал молоко, которое пенилось у него в пасти противными пузырями. Накануне утром, пока дети были в школе, она зашла на кухню, увидела, что кота, похоже, скрутило в припадке, завернула его в полотенце и отнесла к ветеринару.
Когда девочки пришли к ней вечером, она им сообщила:
– Уж простите, но поделать ничего нельзя. Утром я кота носила к доктору Кларку. Говорит, его надо усыпить.
Гарриет могла бы тоже истерику закатить, с нее бы сталось, но она восприняла новости на удивление спокойно.
– Бедный старичок Вини, – сказала она, присев возле коробки, – бедный котик, – и погладила его вздрагивающий бок. Как и Эллисон, она очень любила кота, хотя он, правда, ее не особо жаловал своим вниманием.
Зато Эллисон вся так и побелела:
– Что значит – усыпить?
– То и значит.
– Ни за что. Я тебе не позволю.
– Мы ему больше ничем не поможем, – резко ответила Эди. – Ветеринару лучше знать.
– Я тебе не дам его убить.
– Ну а чего ты тогда хочешь? Чтоб несчастное животное еще помучилось?
У Эллисон затряслись губы, она рухнула на колени рядом с коробкой, где лежал кот, и истерично зарыдала.
Это все было вчера, в три часа пополудни. С тех пор Эллисон от кота не отходила. Ужинать она не ужинала, от подушки с одеялом отказалась и так и пролежала, плача и подвывая, всю ночь на холодном полу. Эди где-то с полчаса просидела с ней на кухне, деловито пытаясь ее вразумить – мол, все мы смертны, и Эллисон пора бы с этим смириться. Но Эллисон рыдала все громче и громче, и тут уж Эди сдалась, поднялась в спальню, захлопнула дверь и уселась за детектив Агаты Кристи.
Наконец около полуночи – Эди глянула на стоявшие возле кровати часы – рыдания стихли. А теперь вот снова-здорово. Эди отхлебнула чаю. Гарриет с головой ушла в приключения капитана Скотта. На другом краю стола стоял завтрак Эллисон, к которому она так и не притронулась.
– Эллисон, – позвала ее Эди.
Эллисон не отвечала, плечи у нее ходили ходуном.
– Эллисон. Ну-ка садись и позавтракай, – это она уже третий раз повторяла.
– Я не хочу есть, – сдавленным голосом отозвалась Эллисон.
– Знаешь что, – рявкнула Эди, – с меня хватит! Взрослая уже, а так себя ведешь. Ну-ка, кончай валяться! Чтоб сию же секунду встала с пола и села завтракать. Ну все, хватит. Еда стынет.
В ответ несся только страдальческий вой.
– Ох, ну и черт с тобой, – сказала Эди и снова принялась за яичницу, – как хочешь. Что, интересно, учителя бы твои сказали, если б видели, как ты тут бьешься в истерике на полу, будто дитя малое.
– Вот, послушайте, – сказала вдруг Гарриет и в свойственной ей суховатой манере стала зачитывать вслух: – “Ясно, что Титус Оутс близок к концу. Что делать нам или ему – одному богу ведомо. После завтрака мы обсуждали этот вопрос. Оутс благородный, мужественный человек, понимает свое положение, а все же он, в сущности[3]3
Перевод В. А. Островского.
[Закрыть]…”
– Гарриет, сейчас никому из нас особо нет дела до капитана Скотта, – сказала Эди. Сейчас ей казалось, что и она сама недолго протянет.
– Я просто хочу сказать, что капитан Скотт и его команда были храбрецами. Они не падали духом. Даже когда их застигла буря и они знали, что умрут, – возвысив голос, она продолжила: – “Мы очень близки к концу, но не теряем и не хотим терять своего бодрого настроения.”
– Конечно, смерть – это часть жизни, – покорно согласилась Эди.
– Участники экспедиции Скотта любили и всех своих собак, и пони, но когда дела у них пошли совсем плохо, им пришлось их пристрелить, всех до единого. Вот, послушай-ка, Эллисон. Им пришлось их съесть, – она вернулась на пару страниц назад, снова склонилась над книжкой: – “Бедняжки! Удивительную службу сослужили они, если принять в расчет ужасные условия, при которых работали.”
– Пусть она замолчит! – провыла Эллисон, заткнув уши.
– Замолчи, Гарриет, – сказала Эди.
– Но.
– Никаких “но”. Эллисон, – прикрикнула Эди, – встань с пола. Слезами коту не поможешь.
– Только я одна Вини и люблю. Всем на него наплева-а-ать.
– Эллисон. Эллисон! Однажды, – Эди потянулась за ножом для масла, – твой брат принес мне жабу – ей лапку отрезало газонокосилкой.
Услышав это, Эллисон взвыла так, что Эди показалось, у нее голова сейчас лопнет, но она упрямо мазала уже давно остывший тост маслом и продолжала:
– Робин хотел, чтобы я ее вылечила. Но я не могла ее вылечить. Мне ничего не оставалось, кроме как убить бедняжку. Робин не понимал, что, когда животные вот так мучаются, иногда милосерднее всего – прекратить их страдания. Он все плакал, плакал. Никак я ему не могла объяснить, что жабе лучше было помереть, чем так мучиться. Конечно, он тогда был помладше тебя.
На адресата этот монолог не произвел никакого впечатления, но тут Эди подняла взгляд от тоста и с легкой досадой заметила, что Гарриет смотрит на нее, раскрыв рот.
– А как ты ее убила, Эди?
– Так, чтоб она не мучилась, – отрезала Эди. Она отхватила жабе голову тяпкой – да еще и, не подумав, сделала это прямо у Робина на глазах, о чем потом страшно жалела, но об этом она распространяться не желала.
– Ногой раздавила?
– Никто меня не слушает! – внезапно вскинулась Эллисон. – Это миссис Фонтейн Вини отравила. Это все она, я знаю. Она грозилась его убить. Он бегал у нее по двору, и потом у нее на машине, на лобовом стекле, отпечатки его лап оставались.
Эди вздохнула. И это она уже не впервые слышит.
– Я Грейс Фонтейн люблю не больше твоего, – сказала она. – Завистливая старая грымза, вечно нос свой всюду сует, но чтоб она кота отравила – ни за что не поверю.
– Отравила! Ненавижу ее.
– Нехорошо так думать.
– Она права, Эллисон, – вдруг вмешалась Гарриет. – Не думаю, что миссис Фонтейн отравила Вини.
– Это еще почему? – поглядела Эди на Гарриет, что-то уж очень подозрительно этакое единодушие.
– Потому, что если она его отравила, я, скорее всего, об этом бы знала.
– Это как же такое узнаешь?
– Не переживай, Эллисон. Не думаю, что она его отравила. Но если вдруг это все-таки ее рук дело, – Гарриет снова уткнулась в книжку, – она об этом пожалеет.
Эди решила, что так просто этого не оставит, однако едва она открыла рот, чтоб насесть на Гарриет, как Эллисон снова закричала, теперь еще громче:
– Да все равно, кто это сделал! – всхлипывала она, с силой размазывая по лицу слезы. – Почему Вини надо умирать? Почему все эти бедняги должны были замерзнуть насмерть? Почему все всегда так ужасно?
Эди сказала:
– Потому что так устроен мир.
– Тогда тошнит меня от этого мира.
– Эллисон, перестань.
– Не перестану! Никогда вы меня не переубедите.
– Ну, это ребячество, – сказала Эди, – мир ненавидеть. Миру-то наплевать.
– Всю жизнь буду его ненавидеть. Никогда не перестану!
– Скотт и его команда были очень храбрыми людьми, Эллисон, – сказала Гарриет. – Даже когда умирали. Вот слушай: “Мы в отчаянном состоянии, отмороженные ноги и т. д. Нет топлива, и далеко идти до пищи, но вам было бы отрадно с нами в нашей палатке слушать наши песни и веселую беседу о том…”
Эди встала.
– Значит, так, – сказала она. – Повезла я кота к доктору Кларку. Вы, девочки, тут побудьте.
– Нет, Эди, – Гарриет выскочила из-за стола, подбежала к коробке. – Бедняжка Вини, – она погладила трясущегося кота. – Бедненький котик. Пожалуйста, Эди, не забирай его пока.
Старичок-кот от боли и глаз широко не мог раскрыть. Он вяло постукивал кончиком хвоста по коробке.
Эллисон, давясь рыданиями, обняла его, прижалась щекой к его мордочке.
– Нет, Вини, – икая, всхлипывала она. – Нет, нет, нет.
Эди подошла к ней и взяла кота – на удивление нежно. Когда она осторожно приподняла его, у кота вырвался тоненький, почти человеческий крик. Его осунувшаяся седая мордочка и разверстая желтозубая пасть казались стариковскими – притерпевшимися к боли.
Эди нежно почесала его за ушком.
– Подай-ка мне полотенце, Гарриет, – сказала она.
Эллисон хотела что-то сказать, но рыдала так судорожно, что и слова не могла вымолвить.
– Не надо, Эди, – умоляла ее Гарриет. Она тоже начала реветь. – Пожалуйста. Я с ним еще не попрощалась.
Эди нагнулась, сама подняла полотенце, распрямилась.
– Так прощайся, – нетерпеливо сказала она. – Кот сейчас уедет и вернется не скоро.
Через час Гарриет, с заплаканными красными глазами, сидела на заднем крыльце у Эди и вырезала картинку с бабуином из тома “Б” комптоновской “Энциклопедии”. Когда голубой “олдсмобиль” Эди вырулил со двора, она тоже повалилась на кухонный пол возле пустой коробки и зарыдала чуть ли не громче сестры. Когда слезы поутихли, она отправилась в бабушкину спальню, вытащила булавку из лежавшей на бюро подушечки для иголок в виде помидорины и пару минут развлекалась, выцарапывая в изножье Эдиной кровати: “НЕНАВИЖУ ЭДИ”. Но отчего-то особой радости ей это не доставило, и пока она сидела, скрючившись, в ногах кровати и шмыгала носом, в голову ей пришла идея позанятнее. Вот вырежет она морду бабуина из энциклопедии и прилепит Эди вместо лица – в семейном фотоальбоме. Она и Эллисон попыталась заинтересовать этим проектом, но Эллисон, которая так и лежала ничком возле котовой коробки, даже поглядеть отказалась.
На заднем дворе скрипнула калитка, во двор влетел Хили Халл – даже и не подумав закрыть калитку за собой. Он был на год младше Гарриет – ему было одиннадцать, свои песочного цвета волосы он отпустил до самых плеч, подражая старшему брату. Пембертону.
– Гарриет! – крикнул он, протопав по ступенькам. – Эй, Гарриет! – но так и застыл на месте, заслышав из кухни монотонные всхлипывания. Когда Гарриет подняла на него глаза, он заметил, что и она тоже плакала.
– Ой, нет, – с ужасом сказал он. – Тебя в лагерь отправляют? Больше всего на свете Хили и Гарриет боялись лагеря на озере Селби. Прошлым летом их обоих запихнули в этот детский христианский лагерь. Девочек и мальчиков (живших раздельно, на разных берегах озера) заставляли по четыре часа в день изучать Библию, а в оставшееся время – плести шнурочки или разыгрывать безвкусные унизительные пьески, написанные воспитателями. В мальчиковой половине имя Хили вечно перевирали – звали его не “Хили”, как надо было, а оскорбительным “Хелли”, чтоб рифмовалось с “Нелли”. Хуже того: на общем собрании его насильно обстригли на потеху всем собравшимся. С одной стороны, Гарриет на своей половине даже получала удовольствие от изучения Библии, в основном потому, что могла перед пугливой и легковерной публикой козырять своей специфической трактовкой Писания, но с другой – страдала не хуже Хили: в пять утра подъем, в кровать – в восемь вечера, одну тебя ни на секунду не оставят и книжек никаких, кроме Библии, зато вдоволь “старых, добрых” наказаний (шлепки по попе, публичные унижения), чтобы дети все правила как следует усвоили. Через полтора месяца она, в зеленой фирменной футболке “Лагеря на озере Селби”, вместе с Хили и другими детьми прихожан Первой баптистской церкви молча тряслась в церковном автобусе, апатично глядела в окно и была полностью раздавлена.
– Скажи матери, что покончишь с собой, – выпалил Хили. Накануне в лагерь отослали большую компанию его школьных друзей, которые тащились к ярко-зеленому автобусу так, будто их отправляют не в летний лагерь, а прямиком в ад. – Я им сказал, что покончу с собой, но еще раз меня туда не затащат. Сказал, что лягу поперек дороги, чтоб меня машина переехала.
– Не в этом дело, – и Гарриет вкратце рассказала ему про кота.
– Так ты не едешь в лагерь?
– Стараюсь, – ответила Гарриет.
Она уже несколько недель внимательно проверяла почтовый ящик – когда приходили бланки для регистрации в летнем лагере, она их рвала и прятала обрывки в мусорной куче. Однако опасность еще не миновала. Эди – вот кого надо было бояться (рассеянная мать Гарриет даже не заметила, что бланки так и не пришли), зато Эди уже купила Гарриет рюкзак, новые кеды и все просила показать ей список того, что надо взять с собой.
Хили посмотрел на картинку с бабуином.
– А это что такое?
– А, это… – Гарриет объяснила.
– А может, лучше другое животное взять, – предложил Хили. Эди ему не нравилась. Она вечно дразнила его из-за волос, делала вид, что приняла его за девчонку. – Бегемота. Или свинью.
– По-моему, и так неплохо.
Хили, перегнувшись через плечо Гарриет, таскал из кармана вареный арахис и смотрел, как Гарриет приклеивает скалящуюся бабуинову морду поверх Эдиного лица – так, чтобы локоны Эди его обрамляли. Бабуин, обнажив клыки, злобно пялился на них с фотографии, а дедушка Гарриет – повернувшись в профиль – восторженно глядел на свою обезьяну-невесту. Под фотографией сама Эди написала:
Эдит и Хейворд,
Оушен-Спрингс, Миссисипи,
11 июня 1935 г.
Гарриет с Хили внимательно разглядывали снимок.
– И правда, – сказал Хили. – Так очень даже здорово.
– Да. Я еще думала насчет гиены, но так лучше.
Едва они поставили энциклопедию обратно на полку, и вернули на место альбом (с золотым викторианским вычурным тиснением), как захрустел гравий под колесами Эдиной машины. Хлопнула дверь с москитной сеткой.
– Девочки, – раздался ее деловитый – как и всегда – голос.
В ответ – молчание.
– Девочки, я решила обойтись с вами по-хорошему и привезла кота домой, чтоб вы могли его похоронить, но если вы сию же минуту не отзоветесь, я разворачиваюсь и везу его назад, к доктору Кларку.
Раздался топот. Дети, все трое, столпились в дверях гостиной и глядели на нее.
Эди вскинула бровь:
– А кто же эта юная мисс? – с наигранными удивлением спросила она Хили. Хили она очень любила, потому что он во многом – за исключением, конечно, ужасных волос – напоминал ей Робина, и даже не догадывалась, что это ее добродушное поддразнивание вызывало у него жгучую ненависть. – Никак это ты, Хили? Прости, не разглядела тебя за золотыми локонами.
Хили фыркнул:
– Мы кой-какие ваши фото разглядывали.
Гарриет пнула его.
– Ну, это не самое увлекательное занятие, – сказала Эди. – Девочки, – обратилась она к внучкам, – я подумала, что кота вы, наверное, захотите похоронить у себя во дворе, поэтому я на обратном пути к вам заехала и попросила Честера выкопать могилу.
– Где Вини? – спросила Эллисон. Голос у нее был хриплый, взгляд безумный. – Где он? Куда ты его дела?
– Он с Честером. Завернут в полотенце. Полотенце я вам, девочки, разворачивать не советую.
– Да ладно тебе, – Хили подтолкнул Гарриет плечом, – давай посмотрим.
Они были у Гарриет во дворе, в темном сарае, где на верстаке Честера лежал трупик Вини, завернутый в голубое полотенце. Эллисон, у которой слезы по-прежнему лились градом, копалась дома в комодах, искала старый свитер, на котором любил засыпать кот – она хотела его с этим свитером и похоронить.
Гарриет выглянула в заросшее пылью окошко. На краю по-летнему яркой лужайки виднелась фигура Честера, который с силой надавливал на лопату.
– Ладно, – сказала она. – Только быстро. Пока он не вернулся.
До Гарриет только потом дошло, что тогда она впервые видела – и трогала – мертвое существо. Она и не думала, что будет так жутко. Бок у кота был холодный, неподатливый, твердый на ощупь – Гарриет по кончикам пальцев будто током ударило, до того было мерзко.
Хили нагнулся, чтобы было получше видно:
– Фу, гадость, – жизнерадостно сказал он.
Гарриет погладила рыжую шерстку. Она так и осталась рыжей, мягкой, несмотря на то что тельце под ней было до жути одеревенелым. Перед смертью кот вытянул лапы вперед, будто боялся, что его бросят в корыто с водой, да так и застыл, а его глаза, которые, несмотря на старость и болезнь, так до самого конца и оставались чистого, пронзительно-зеленого цвета, теперь подернулись студенистой пленкой.