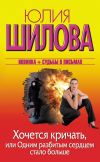Текст книги "Маленький друг"
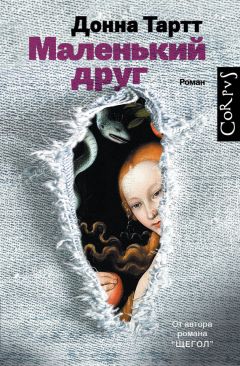
Автор книги: Донна Тартт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
С этаким мрачным занудством не могла сладить даже Эди. Гарриет могла препираться часами. Уговаривать ее можно было хоть до посинения. И – самое возмутительное – даже в самых своих дичайших доводах Гарриет всегда опиралась на Библию. Эди, впрочем, этим было не пронять. Сама она, конечно, помогала и религиозным, и благотворительным организациям, и в церковном хоре пела, но, по правде сказать, не особо верила во все написанное в Библии – так же, как в глубине души не верила в свои любимые присказки: что все, например, делается к лучшему или что негры по сути своей ничем не отличаются от белых. Но если остальные бабушки задумывались над словами Гарриет, то им – и Либби в особенности – делалось не по себе. Свои софизмы Гарриет неизменно подкрепляла примерами из Библии, и выходило, что они полностью противоречат и здравому смыслу, и их убеждениям.
– Может быть, – смущенно сказала Либби, когда Гарриет умчалась домой ужинать, – может быть, Господь не делает различий между плохой ложью и хорошей. Может, для Него они все плохие.
– Да будет тебе, Либби.
– Может, нам надо было это от малого ребенка услышать?
– Да пусть я в аду сгорю, – взорвалась Эди, которая не застала начало разговора, – все лучше, чем рассказывать всем направо и налево, что я про них думаю.
– Эдит! – хором вскричали ее сестры.
– Эдит, ты ведь это не серьезно?!
– Я серьезно. И что обо мне другие думают, я тоже знать не желаю.
– Ума не приложу, что ты такого натворила, Эдит, – заметила праведница Аделаида, – что воображаешь, будто все о тебе думают только плохое.
Служанка Либби, Одеан, которая притворялась глухой, невозмутимо подслушивала их разговор, разогревая на кухне ужин для старушки: курицу с булочками в сливочном соусе[1]1
Традиционное блюдо южных штатов, булочки запекают в духовке прямо поверх мясного рагу.
[Закрыть]. Ничего интересного дома у Либби не происходило, зато после визитов Гарриет хоть разговоры делались поживее.
Если Эллисон другие дети смутно одобряли, сами, впрочем, не зная за что, то Гарриет, которая любила всеми покомандовать, мало кому нравилась. Зато и дружили с ней не как с Эллисон – вяло и походя. Друзьями Гарриет были в основном фанатично преданные ей мальчишки помладше, которые после школы вскакивали на велосипеды и ехали через полгорода, лишь бы увидеться с ней. Она заставляла их играть в крестоносцев и в Жанну д’Арк, по ее приказу они напяливали на себя простыни и разыгрывали сценки из Нового Завета, в которых сама Гарриет всегда была Иисусом.
Больше всего она любила тайную вечерю. Они все усаживались за стол на одну лавку – в духе Леонардовой фрески – в увитой мускатом беседке на заднем дворе у Гарриет и, затаив дыхание, ждали, когда она, раздав опресноки из крекеров и виноградную фанту вместо вина, по очереди смерит холодным взглядом каждого из них.
– Истинно, истинно говорю вам, – произносила она так спокойно, что у них мурашки бежали по коже, – один из вас предаст меня.
– Нет! Нет! – с восторгом взвизгивали они – и вместе с ними Хили, который играл Иуду, но Хили был у Гарриет любимчиком, и ему перепадали все козырные роли, не только Иуды, но и апостолов Иоанна, Луки или Симона Петра. – Никогда, Господи!
За этой сценой следовало шествие в Гефсиманский сад, который находился в глубокой тени черного дерева тупело во дворе у Гарриет. Здесь Гарриет-Иисуса хватали римские воины – хватали буйно, куда яростнее, чем было сказано в Писании, что само по себе уже было страшно увлекательно, но мальчишкам нравилось играть в Гефсиманский сад, потому что играли они под деревом, где убили брата Гарриет. Его убили, когда многие из них еще даже не родились, но историю эту они все знали, сложив ее из обрывков родительских разговоров или того, о чем перешептывались перед сном их старшие братья, половину сами перевирая или додумывая, а потому дерево отбрасывало густую тень на их воображение с самых их малых лет, с той самой поры, когда им его показывали няньки – замедляя шаг на углу Джордж-стрит, склоняясь поближе, ухватив покрепче за руку, шипя, что нельзя никуда убегать одному.
Никто не знал, почему дерево так и не срубили. Все были уверены, срубить его надо – и не только из-за Робина, а еще и потому, что с верхушки оно начало чахнуть – над рыжеватой листвой торчали переломанными костями унылые серые ветки, как будто в них ударило молнией. Осенью листья делались яркими, яростно-красными, но красота эта держалась всего день-другой, после чего все они разом облетали и дерево стояло голым. Новые листья были блестящими, кожистыми и такими темными, что казалось, будто они совсем черные. Они отбрасывали такую густую тень, что под деревом почти не росла трава, а кроме того, оно было таким огромным и стояло так близко к дому, что, подуй тут ветер посильнее, сказал кронировщик Шарлотте, и однажды утром она проснется, а дерево будет торчать у нее в окне спальни (“А про мальчонку я вообще молчу, – сказал он напарнику, забираясь обратно в грузовик и захлопывая за собой дверь. – Неужто эта бедняга всю жизнь будет просыпаться, глядеть в окно и видеть там вот это?”)
Миссис Фонтейн говорила, что сама заплатит, лишь бы его спилили, тактично притворяясь, будто дерево и на ее дом рухнуть может. Предложение совершенно неслыханное, потому что миссис Фонтейн была такой скрягой, что даже фольгу мыла, скатывала в рулончики и потом использовала снова, но Шарлотта только головой покачала:
– Нет, спасибо, миссис Фонтейн, – отозвалась она так бесстрастно, что миссис Фонтейн даже показалось, что та ее не совсем поняла.
– Говорю же, – взвизгнула миссис Фонтейн, – я сама заплачу! С радостью! Оно и к моему дому слишком близко стоит, а если вдруг торнадо…
– Нет, спасибо.
Шарлотта не глядела на миссис Фонтейн, не глядела на дерево, в высохшей развилке ветвей которого догнивал опустевший шалашик ее умершего сына. Она глядела вдаль – за дорогу, за пустырь, заросший пыреем и кукушкиным цветом, туда, где за ржавыми крышами негритянского квартала исчезала суровая нитка железнодорожных путей.
– Послушай, – сказала миссис Фонтейн уже другим тоном, – послушай-ка меня, Шарлотта. Ты думаешь, я ничего не понимаю, но я-то знаю, каково это – потерять сына. Но на все Божья воля, и с этим надо просто смириться. – Молчание Шарлотты она сочла добрым знаком и продолжила: – А кроме того, он ведь не один у тебя был. По крайней мере, у тебя еще дети есть. А вот у меня только и был бедняжка Линси. Каждый день вспоминаю то утро, когда мне сообщили, что сбили его самолет. Мы как раз украшали дом к Рождеству. Стою я на лестнице в халате и ночной рубашке, прилаживаю к люстре веточку омелы и тут слышу, что в дверь стучат. Портер, упокой его Господь – это было уже после того, как у него первый раз был инфаркт, но еще до второго.
Голос у нее задрожал, и она взглянула на Шарлотту. Но Шарлотта уже ушла. Отвернулась от миссис Фонтейн и поплелась к дому.
Уж сколько лет прошло с того разговора, а дерево так никуда и не делось, и домик Робина так и догнивал в ветвях. Теперь миссис Фонтейн с Шарлоттой держалась куда прохладнее.
– На дочерей она вообще внимания не обращает, – сообщила она дамам в салоне миссис Нили, когда укладывала волосы. – И дома развела бардак. Заглянешь в окно, а там стопки газет аж до потолка.
– Я вот думаю – сказала остролицая миссис Нили, потянувшись за лаком для волос и перехватив в зеркале взгляд миссис Фонтейн, – уж не выпивает ли она?
– Вот уж чему не удивлюсь, – ответила миссис Фонтейн.
Из-за того, что миссис Фонтейн часто выскакивала на крыльцо и разгоняла детей, про нее ходили разные слухи: что она, мол, ворует (и ест) маленьких мальчиков, а их толчеными костями удобряет свои клумбы с призовыми розами. Из-за того, что двор Гарриет был рядом с царством ужасов миссис Фонтейн, разыгрывать там сцену ареста в Гефсиманском саду было в разы увлекательнее.
Иногда на эту удочку кто-нибудь даже попадался, а вот про дерево мальчишкам даже и выдумывать ничего не надо было. От одних его очертаний у них по коже бежали мурашки, от его душной бурой тени – дерево росло всего-то в двух шагах от залитого солнцем двора, но как будто в другом мире – делалось не по себе, даже если не знать, что тут случилось. А уж про то, что случилось, им и напоминать было не нужно, им об этом напоминало само дерево. Была у него своя сила, своя темная власть.
Из-за Робина Эллисон в начальной школе чуть не задразнили. (“Мама, мама, можно мне поиграть с братиком во дворе? – Конечно, нет, ты на этой неделе его уже три раза выкапывала!”) Издевательства она сносила молча, безропотно – никто и не знал даже, сколько это все длилось, давно ли началось, – и только какой-то добросердечный учитель, узнав, что творится, сумел положить этому конец.
А вот Гарриет никто не дразнил – может, из-за того, что характером она была посильнее, а может, просто потому, что ее одноклассникам дела не было до убийства, потому что тогда они были слишком малы. Но семейная трагедия придавала Гарриет жутковатого шарма, перед которым мальчишки не могли устоять. О покойном брате она говорила часто, всякий раз – со странным, своенравным упрямством, так, будто она не только знала Робина, но он и не умирал вовсе. Снова и снова мальчишки скашивали на Гарриет глаза, глядели ей в затылок. Иногда им казалось, будто она и есть Робин: такой же ребенок, как и они, который вернулся с того света и теперь знает то, что им неведомо. Вот оно, таинство кровного родства: стоило Гарриет на них посмотреть, как их так и обдавало взглядом ее умершего брата. Никому из них и в голову не приходило, что Гарриет с братом не были похожи – даже на фотографиях: живой, непоседливый, вертлявый, как малек, Робин и мрачная, надменная, неулыбчивая Гарриет, но это сила ее, а не его характера притягивала их к Гарриет, приковывала их взгляды.
Мальчишки не замечали иронии, не проводили никаких параллелей между трагедией, которую они разыгрывали в тени смолисто-черного тупело, и трагедией, которая произошла тут двенадцать лет назад. У Хили было дел невпроворот: в роли Иуды Искариота он должен был выдать Гарриет римлянам, но он же (в роли Симона Петра) должен был отрезать центуриону ухо, защищая ее. Дрожа от волнения, довольный собой Хили отсчитал тридцать вареных арахисовых орешков, за которые он должен был продать Спасителя, и пока другие мальчишки его пихали и подталкивали, глотнул еще виноградной фанты, чтоб смочить губы. Чтобы предать Гарриет, ему надо было поцеловать ее в щеку. Однажды его подначили другие апостолы, и он с размаху чмокнул Гарриет в губы. То, как сурово она вытерла рот, презрительно мазнув по губам тыльной стороной ладони, пробрало его почище самого поцелуя.
Всем, кому попадались на глаза замотанные в простыни апостолы Гарриет, делалось не по себе. Ида Рью, бывало, поднимала глаза от кухонной мойки и аж вздрагивала – до того странно выглядела эта мрачно шагавшая по двору маленькая процессия. Она не видела, как Хили пересчитывает на ходу арахисовые орешки, не замечала торчащих из-под его облачения зеленых кед, не слышала, как остальные апостолы вполголоса возмущаются, что им не дают защищать Иисуса игрушечными пистолетами. Она смотрела на маленькие закутанные в белое фигурки и волочившиеся за ними по траве края простыней с тем же любопытством и предчувствием чего-то дурного, с каким смотрела бы на них в теплых сумерках дня Песаха палестинская прачка: погрузив руки по самые локти в корыто с грязной колодезной водой, встрепенувшись, утирая лоб запястьем, озадаченно глядя, как мимо нее, надвинув капюшоны на глаза, идут по пыльной дороге в сторону оливковой рощи на холме тринадцать человек – и по тому, как строго и неспешно они движутся, видно, что дело у них важное, но вот какое – трудно вообразить: быть может, они идут на похороны? К постели умирающего, на суд, на религиозный праздник? Уж верно что-то серьезное – она даже на пару мгновений отвлеклась от работы, впрочем, потом она снова примется за стирку, и не подозревая, что маленькая процессия серьезно движется к новой странице в истории.
– И чего вы вечно играете под этим гадким деревом? – спросила она Гарриет, когда та вернулась домой.
– Потому что, – ответила Гарриет, – там темнее всего.
Гарриет с малых лет увлекалась археологией: индейскими курганами, разрушенными городами, зарытыми кладами. Все началось с ее интереса к динозаврам, который потом перерос в нечто совсем иное. Едва Гарриет смогла облечь это в слова, стало ясно – интересуют ее не сами динозавры, не мультяшные бронтозаврики с длинными ресницами, которые позволяли на себе кататься и кротко выгибали шеи, чтоб дети могли съезжать с них, как с горки, не рыкающие тираннозавры и не кошмарные птеродактили. Ее интересовало то, что они вымерли.
– Откуда же мы знаем, – спрашивала она Эди, которую уже тошнило от динозавров, – как они на самом деле выглядели?
– Потому что люди нашли их кости.
– Но, Эди, если я найду твои кости, то не узнаю, как ты выглядела. Эди ничего не ответила и продолжила чистить персики.
– Эди, вот посмотри. Здесь пишут, что нашли только кость ноги, – она вскарабкалась на табуретку и с надеждой протянула книжку Эди. – А тут нарисован целый динозавр.
– Ты ведь помнишь эту песенку, Гарриет? – вмешалась Либби, перегнувшись через кухонную стойку, где она вытаскивала косточки из персиков. Дрожащим голоском она пропела:
– Кости ног, кости ног сосчитать никто не мог… а за-пом-нить очень просто.
– Откуда узнали, как они выглядели? Откуда узнали, что они были зеленые? На картинке они зеленые! Посмотри. Эди, посмотри!
– Ну, смотрю, – кисло отозвалась Эди, даже не взглянув на картинку.
– Нет, не смотришь!
– Насмотрелась уже.
Став постарше, лет в девять-десять, Гарриет переключилась на археологию и обнаружила родственную душу в тетке Тэт, которая охотно, хоть и путано отвечала на ее вопросы. Тэт тридцать лет преподавала латынь старшеклассникам, а выйдя на пенсию, стала интересоваться всякими “Загадками древних цивилизаций”. Многие из этих цивилизаций, по ее мнению, зародились в Атлантиде. Это атланты построили пирамиды, говорила Тэт, и статуи на острове Пасхи – тоже их рук дело, и если в Андах нашли черепа со следами трепанации, а в гробницах древних фараонов – электрические батарейки, то это все – благодаря мудрости атлантов. Книжные полки у нее дома были забиты популярными псевдонаучными книжками 1890-х годов, которые она унаследовала от своего весьма образованного, но легковерного отца, знаменитого судьи, который последние годы жизни провел под замком у себя в спальне, откуда он то и дело порывался сбежать в одной пижаме. Библиотеку он завещал своей почти самой младшей дочери Теодоре, которую он прозвал Тэттикорум[2]2
Тэттикорум – персонаж романа Чарльза Диккенса “Крошка Доррит”, служанка со вспыльчивым, вздорным нравом. Примечательно, что настоящее имя Тэттикорум из романа Диккенса – Гарриет.
[Закрыть] (сокращенно – Тэт), и туда входили такие труды, как “Антеделювиальные контроверзы”, “О существовании других миров” и “Цивилизация Му: факт или выдумка?”.
Сестры Тэт эти расспросы не поощряли, Аделаида и Либби думали, что это не по-христиански, Эди – что просто глупо.
– Но если эта Атланта и впрямь существовала, – сказала Либби, наморщив гладенький лобик, – почему тогда в Библии про нее ничего не сказано?
– Потому что ее тогда еще не построили, – несколько бессердечно заметила Эди. – Атланта – это столица Джорджии. Ее Шерман спалил в гражданскую войну.
– Ой, Эди, ну не будь ты такой гадкой.
– Атланты, – сказала Тэт, – были прародителями древних египтян.
– Вот-вот. Древние египтяне не были христианами, – сказала Аделаида. – Они поклонялись кошкам, собакам и всякому такому.
– Они и не могли быть христианами, Аделаида. Христос еще не родился.
– Может, и не родился, но Моисей хоть заставил их соблюдать десять заповедей. Никаким кошкам-собакам они не поклонялись.
– Атланты, – надменно заявила Тэт, перекрикивая смех сестер, – да нынешние ученые запрыгали бы от радости, знай они то, что знали атланты. Папочка знал все про Атлантиду, и он был добрый христианин, и уж образованнее нас всех вместе взятых.
– Папочка, – пробормотала Эди, – папочка меня подымал посреди ночи, говоря, что на нас вот-вот нападет кайзер Вильгельм и мне надо поскорее припрятать серебро в колодце.
– Эдит!
– Эдит, так нельзя. Он ведь тогда уже болел. Он ведь столько хорошего нам сделал!
– Я и не говорю, что папочка был плохим, Тэтти. Я просто напоминаю, что это мне пришлось за ним ухаживать.
– Меня папочка всегда узнавал, – живо вклинилась Аделаида, самая младшая сестра, она верила, что была отцовской любимицей и никогда не забывала другим сестрам об этом напомнить. – До самой своей кончины меня узнавал. В тот день, когда он умер, он взял меня за руку и сказал: “Адди, милая, что же они со мной сделали?” Не знаю, почему он только меня одну и узнавал. Так странно.
Гарриет обожала разглядывать книжки Тэт, среди которых были не только сочинения про Атлантиду, но и более признанные труды, вроде “Историй” Гиббона и Ридпата, а также любовные романы в разноцветных мягких обложках, на которых были нарисованы гладиаторы, а действие разворачивалось в древности.
– Это, разумеется, не исторические сочинения, – поясняла Тэт. – Так, легкие романчики, в которых исторические события – только фон. Зато они увлекательные, да и познавательные тоже. Я их давала почитать своим ученикам, чтоб хоть как-то заинтересовать их древнеримской историей. Нынешние-то романы сейчас вот так детям не раздашь, сплошную дрянь пишут, не чета этим славным, невинным книжечкам. – Она провела узловатым пальцем – из-за артрита у нее все суставы распухли – по рядку абсолютно одинаковых корешков. – Монтгомери Сторм. По-моему, у него были романы и про эпоху Регентства, он писал их под женским псевдонимом, вот только не помню, под каким.
Но романы про гладиаторов Гарриет не интересовали. Все равно это были просто любовные истории, только в римских тогах, а всякую любовь и романтику Гарриет терпеть не могла. Из всех книжек Тэт она больше всего любила “Геркуланум и Помпеи. Забытые города” – с цветными иллюстрациями.
Вместе с Гарриет эту книжку любила разглядывать и сама Тэт. Они садились на бархатную козетку у нее дома и переворачивали страницы: изящные фрески из разрушенных домов, лотки булочников – даже хлеб остался, сохранился идеально под пятнадцатифутовым слоем пепла, безликие, серые слепки погибших римлян, которые навеки скрючились в мучительно красноречивых позах на мощеных булыжником улицах, где две тысячи лет назад их сбил с ног дождь из пепла.
– Не понимаю, как у этих бедняг ума не хватило уехать пораньше, – говорила Тэт. – Наверное, они тогда еще не знали, что это такое, вулкан. А еще, думается мне, почти то же самое было, когда ураган “Камилла” налетел на северное побережье. Тогда весь город эвакуировали, но нашлись дураки, которые никуда не поехали и засели в баре отеля “Буэна Виста”, как будто сейчас какое-то веселье начнется. И вот что я тебе скажу, Гарриет, когда вода сошла, их трупы потом еще недели три с деревьев снимали. А от “Буэна Висты” камня на камне не осталось. Ты, моя хорошая, “Буэна Висту”, конечно, не помнишь. У них воду подавали в стаканах, на которых были нарисованы рыбы-ангелы, – она перевернула страницу. – Гляди-ка. Видишь этот слепок – мертвого песика? У него в пасти так и осталось печенье. Про этого пса кто-то написал премилый рассказ, я его даже читала. Якобы пес принадлежал маленькому побирушке, которого тот очень любил, и, когда они бежали из Помпей, пес погиб, пытаясь принести мальчику еду, чтоб ему было в дороге чем питаться. Грустная история, верно? Как оно там все было, уж никто, конечно, не знает, но, по-моему, здорово похоже на правду, а?
– А может, пес сам хотел съесть печенье.
– Сомневаюсь. Вряд ли бедняжка мог думать о еде, когда вокруг него с криками носились люди и повсюду летал пепел.
Тэт разделяла увлечение Гарриет погибшим городом, но исключительно с сентиментальной точки зрения, и не понимала, отчего Гарриет так страстно интересуют даже самые мелкие и малозанятные подробности его гибели: разбитая утварь, бурые черепки, какие-то проржавевшие металлические обломки. Она, конечно, не догадывалась, что любовь Гарриет ко всякого рода обрывкам связана с их семейной историей.
Как и большинство старинных семей в Миссисипи, Кливы когда-то были богаты. Но так же, как сгинули Помпеи, так и от этого богатства не осталось и следа, хотя Кливы очень любили сами себе рассказывать истории о былой роскоши. Кое-что даже было правдой. Янки и впрямь украли у Кливов кое-какое серебро и драгоценности, хотя несметных богатств, по которым плакали сестры, там отродясь не было. Обвал двадцать девятого года сильно подкосил судью Клива, а на старости лет он сделал несколько неудачных вложений, в том числе вбухал почти все свои сбережения в безумный прожект по созданию “машины будущего” – летающего автомобиля. Когда он умер, его дочери с ужасом узнали, что судья был главным акционером несуществующей компании.
Поэтому большой дом, которым Кливы владели с 1809 года – с тех самых пор, когда он и был построен, – пришлось спешно продать, чтобы расплатиться с долгами судьи. Сестры от этого так и не оправились. В этом доме выросли и они, и сам судья, и его мать, и его бабка с дедом. Хуже того, покупатель их родового гнезда мигом его перепродал, а новый хозяин сначала организовал там дом престарелых, а потом, когда дому престарелых не продлили лицензию, стал сдавать в нем жилье задешево. Через три года после смерти Робина дом сгорел. “Этот дом Гражданскую войну пережил, – горько заметила Эди, – но ниггеры его все-таки спалили”.
Вообще-то дом разрушил судья Клив, а никакие не “ниггеры”, потому что почти семьдесят лет судья его не ремонтировал, как и сорок лет до того – его мать. Когда он умер, в доме уже прогнили все половицы, а фундамент был начисто изъеден термитами, еще бы немного – и он рухнул бы, но сестры только знай вспоминали с придыханием бирюзовые, с огромными махровыми розами обои ручной работы, которые выписывали аж из Франции, мраморные каминные полки с резными купидонами, люстру из шлифованного вручную богемского хрусталя, двойную лестницу, сработанную так, чтоб можно было без опаски устраивать совместные праздники: одна лестница – для мальчиков, другая – для девочек, и верхний этаж разделен надвое перегородкой, чтоб озорники посреди ночи не пробрались на девичью половину. Они почти позабыли, что к тому времени, когда судья умер, мальчики по северной лестнице не ходили уж лет пятьдесят, и ступеньки на ней так расшатались, что ею вовсе перестали пользоваться, что столовая однажды выгорела дотла, когда старенький судья выронил там парафиновую лампу, что полы проседали и протекала крыша, что в 1947 году под ногами газовщика, который пришел снять показания счетчика, просело и развалилось заднее крыльцо, а знаменитые обои ручной работы свисали со стен огромными плесневелыми лохмотьями.
Забавно, кстати, что дом назывался “Напастью”. Так его прозвал дед судьи Клива – он не раз говорил, что строительство дома чуть не свело его в могилу. Теперь от дома остались только две дымовые трубы да замшелая дорожка из выложенного хитрой “елочкой” кирпича – дорожка вела к парадному крыльцу, где на приступке еще сохранились пять растрескавшихся бледно-голубых плиток с буквами “К-Л-И-В-Ы”.
Гарриет эти пять голландских изразцов – осколок погибшей цивилизации – занимали куда сильнее мертвых собак с печеньями в пасти. Их нежная блеклая голубизна казалась ей лазурным цветом богатства, Европы, рая; “Напасть”, которую она восстанавливала по этим плиткам, оживала в ослепительном, фосфоресцентном ореоле мечты.
Она представляла, будто ее погибший брат бродит, словно принц, по залам этого утраченного ими дворца. Дом продали, когда ей было всего полтора месяца, но вот Робин съезжал вниз по перилам красного дерева (он так однажды, рассказывала Аделаида, чуть не пробил ногами стеклянные дверцы серванта, который стоял внизу) и играл в домино на персидском ковре, а мраморные купидоны простирали над ним крылья и лукаво глядели на него из-под набрякших век. Он засыпал под чучелом медведя, которого подстрелил его двоюродный дед – дед же потом и набил чучело, он видел стрелу, украшенную выцветшими перьями сойки – стрелу эту в его прапрадеда пустил индеец-натчез во время набега в 1812 году, и она так и осталась торчать в стене гостиной.
Кроме изразцов от “Напасти” уцелело немногое. Почти все ковры и мебель, все предметы интерьера – и мраморных купидонов, и люстру – распихали по ящикам с надписью “Разное” и продали гринвудскому антиквару, который дал за них от силы половину стоимости. Знаменитая стрела рассыпалась у Эди прямо в руках, когда та попыталась выдернуть ее из стены, а крошечный наконечник даже ножом не смогли выковырять из штукатурки. Изъеденное молью чучело медведя выкинули на помойку, откуда его радостно вытащили какие-то негритята и за задние лапы уволокли по грязи домой.
Как же тогда воссоздать этого сгинувшего колосса? Где ей искать подсказки, на какие глядеть окаменелости? На окраине города до сих пор сохранился фундамент дома, где именно, она, правда, не знала, да и знать ей отчего-то не хотелось; посмотреть на развалины дома ее водили всего раз, давным-давно, холодным зимним днем. Она тогда была совсем маленькой, и потому ей казалось, что на фундаменте стоит что-то гораздо больше дома, может быть, даже целый город; она помнила, как Эди (одетая по-мальчишески, в брюках цветах хаки) возбужденно перепрыгивала из комнаты в комнату и показывала, где была гостиная, где столовая, где библиотека, а изо рта у нее вырывались клубы белого пара – впрочем, куда сильнее ей в память врезалось другое воспоминание – преужасное – как одетая в красный труакар Либби вдруг принимается рыдать, тянет руки к Эди и та ведет ее обратно к машине по хрустящему зимнему лесу, а Гарриет плетется за ними.
Из “Напасти” удалось спасти кое-какие артефакты калибром помельче – постельное и столовое белье, посуду с вензелями, громоздкий палисандровый буфет, вазы, настольные часы из фарфора, обеденные стулья, – и они расползлись по ее дому и по домам ее бабушек; и по этим отдельным фрагментам (там берцовая кость, там позвонок) Гарриет и принялась восстанавливать облик сгинувшей в огне былой роскоши, которой она никогда не видела. Уцелевшие предметы сияли стариной – тепло, безмятежно, совершенно по-особенному: серебро было тяжелее, вышивка – богаче, хрусталь – прозрачнее, а голубой цвет фарфоровых чашек – нежнее, изысканнее. Но красноречивее всего были истории, которые достались ей от старших Кливов – разукрашенные виньетки, которые Гарриет расписывала еще причудливее, старательно создавая миф о зачарованном алькасаре, сказочном замке, которого никогда не было. Амбразурное видение мира, благодаря которому Кливы легко забывали все, чего не хотели помнить, или приукрашивали и меняли то, чего забыть не могли, у Гарриет было сужено еще больше – в самой пренеприятнейшей степени. Нанизывая заново скелет вымершего чудища, в роли которого выступало семейное богатство, она и не подозревала, что не все кости подлинные, а кое-какие и вовсе принадлежат совсем другим животным и что большая часть массивного, выпуклого остова – никакие не кости, а гипсовые подделки. (Например, знаменитая люстра богемского хрусталя приехала вовсе не из Богемии, более того – она даже хрустальной не была: мать судьи заказала ее у “Монтгомери Уорда”.) И Гарриет совсем не замечала кое-каких пыльных, незаметных мелочей, на которые она постоянно наталкивалась в своих изысканиях, а вот если б заметила, то уже держала бы в руках ключ к подлинной – и довольно неприглядной – конструкции. К тому, что пышная, внушительная, монументальная “Напасть”, которую она с таким тщанием выстроила у себя в голове, даже и близко не походила на когда-то стоявший дом, а была лишь сказкой, химерой.
Гарриет целыми днями могла разглядывать старые снимки в фотоальбоме, который хранился дома у Эди (не чета “Напасти”, конечно – так, бунгало с двумя спальнями, и построен в сороковых). Вот тоненькая, застенчивая Либби – она и в восемнадцать выглядела бесцветной старой девой – волосы гладко зачесаны, в очертаниях рта, в глазах – неуловимое сходство с матерью Гарриет (да и с Эллисон тоже). Рядом с ней девятилетняя Эди – глядит презрительно, хмурит лоб, выражение лица один в один как у ее отца-судьи, который хмурится у нее за спиной. Тэт и вовсе не узнать – лицо чудное, глуповатое, она развалилась в плетеном кресле, на коленях у нее размытой тенью лежит котенок. Хохочет, глядя прямо в камеру, кроха Аделаида, которая потом троих мужей переживет. Из четырех сестер она была самая хорошенькая, если вглядеться, то и тут сходство с Эллисон просматривалось, хотя уголки губ у Аделаиды уже начали капризно опускаться. За ними высился роковой дом, на ступеньках которого виднелись голландские изразцы с буквами “К-Л-И-В-Ы”: заметить их, правда, можно было только, если изо всех сил вглядываться, но зато только эти плитки в отличие от всего остального на фото с тех пор и не переменились.
Больше всего Гарриет любила фотографии с братом. Их почти все забрала себе Эди: так тяжело было глядеть на эти снимки, что их вынули из альбома и хранили отдельно, на полке в чулане у Эди, в коробке-сердечке из-под шоколадных конфет. Гарриет было лет восемь, когда она их откопала, и эту ее археологическую находку по значимости можно было сравнить разве что с обнаружением гробницы Тутанхамона.
Эди и не подозревала, что Гарриет нашла фотографии, и уж тем более не догадывалась, что из-за них внучка постоянно и торчала у нее дома. Вооружившись фонариком, Гарриет разглядывала снимки, сидя в Эдином затхлом чулане, под подолами Эдиных выходных платьев, а иногда запихивала их в игрушечный чемоданчик с Барби и утаскивала к Эди в сарай – Эди, радуясь, что Гарриет больше не путается у нее под ногами, никогда не мешала ей там играть. Несколько раз она приносила фотографии на ночь домой. Как-то раз, когда их мать уже улеглась, она показала снимки Эллисон.
– Смотри, – сказала она, – это наш брат.
Эллисон уставилась на открытую коробку, которую Гарриет поставила ей на колени, и как будто даже испугалась.
– Давай же! Посмотри! Там и ты есть.
– Не хочу, – сказала Эллисон, захлопнула коробку и сунула ее обратно Гарриет.
Снимки были цветные: поблекшие “полароиды” с зарозовевшими краями, липкие и рваные, потому что их выдрали из альбома. Они были заляпаны отпечатками пальцев, как будто их часто пересматривали. Самые заляпанные были проштемпелеваны черными каталожными номерами – их забирали полицейские для расследования.
Разглядывать их Гарриет никогда не надоедало. Все краски на фото были нереальными, с просинью, и с годами цвета сделались еще более хрупкими, более чудными. Через них Гарриет приоткрывалась дверка в сказочный мир – магический, цельный, утраченный навеки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?