Текст книги "Лица в воде"
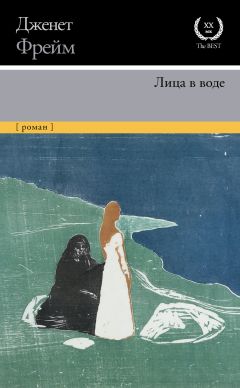
Автор книги: Дженет Фрейм
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
3
После завершения последней утренней процедуры доктор, главная медсестра Гласс и старшая медсестра Хани шли в сестринскую выпить чаю, где доктора усаживали в лучшее кресло, принесенное из примыкающей комнаты, которую называли кают-компанией и где иногда принимали посетителей. Доктор Хауэлл пил чай из особой чашки, на ручку которой был повязан лоскут красной ткани, чтобы нельзя было перепутать посуду персонала с посудой для пациентов и заразить друг друга скукой, одиночеством, авторитаризмом. Доктор Хауэлл был молод, полноват, близорук, с припухшими глазами и бледным лицом (мы прозвали его Булка), он был чутким, но изможден работой: растерял весь задор новичка под давлением непрекращающегося стресса, как новый самолет, который поместили в испытательную камеру – симулятор полетов на расстояния в миллионы миль и который уже через несколько часов несет на себе бремя усталости нескольких лет.
В одиннадцать часов, после чаепития, начинался утренний Обход, ритуал, когда доктор Хауэлл в сопровождении вездесущих главной медсестры Гласс и старшей медсестры Хани, одновременно выступавших в роли посредника, переводчика и охранника, приходил в общий зал, где престарелые женщины и пациентки помоложе, но не подходившие для работы в прачечной, или швейной мастерской, или престижном медсестринском корпусе, понуро перелистывали старые номера журналов «Иллюстрейтед Лондон Ньюз» или «Уименз Уикли», или вязали одеяла для прокаженных, или вышивали под надзором недавно назначенного эрготерапевта, у которой, к немалому огорчению многих из той сотни пациенток, что обитали в четвертом отделении, был с доктором Хауэллом роман.
«Доброе утро. Как вы сегодня?» Иногда доктор мог остановиться, чтобы поинтересоваться делами пациентки, вроде бы дружелюбно улыбаясь, но при этом украдкой поглядывая на часы, возможно, с трудом представляя, как за оставшийся час перед обедом обойти все женские отделения, а затем разобраться со всей корреспонденцией и принять настойчивых-обескураженных-встревоженных-осрамленных родственников.
Пациентка, которой выпала неслыханная честь побеседовать с врачом, приходила в такой восторг, что порой не знала, что ответить, или же наоборот, пересказывала все события скороговоркой, так что главной медсестре приходилось обрывать ее на полуслове.
«Доктору сейчас некогда это слушать, Мэрион. Возвращайтесь к своей вышивке».
При этом всемогущая главная медсестра сообщала ему шепотом: «Последнее время она совсем отказывается сотрудничать. Мы записали ее на завтра на процедуру».
Доктор кивал рассеянно, говорил что-то невпопад, будучи неглупым человеком, тут же осознавал бессмысленность своей ремарки и мысленно отшатывался от себя, словно продавец, который с небрежностью отнесся к собственному товару. С нарочитым вниманием тогда рассматривал он кусок полотна или примитивно вышитые цветы, горделиво ему демонстрируемые. Потом, окинув помещение обеспокоенным виноватым взглядом, он направлялся к двери в сопровождении главной медсестры Гласс и старшей медсестры Хани, которые отпирали и запирали дверь, не давали приблизиться женщинам, в последний момент желавшим пообщаться с сострадательным собеседником и потому мчавшимся показать ему свое рукоделие, или наброситься на него с ругательствами, или поприветствовать вопросом: «Здравствуйте-доктор-когда-меня-отпустят-домой?»
Иногда, как будто бы выражая главной медсестре Гласс и сестре Хани протест, доктор Хауэлл решал самостоятельно, без их участия, уйти через дверь, которая открывалась в просторный, полный деревьев парк под окнами четвертого отделения; пока его фигура удалялась, обе медсестры укоризненно и с опаской переглядывались, как две паучихи, из старательно сплетенной ловушки которых добыча смогла высвободиться одним лишь взмахом крылышек.
Нам нравилось, что доктор Хауэлл был молод; все остальные, которые нами не занимались, но руководили больницей, были седовласыми и пожилыми, они спешили в свои кабинеты и из своих кабинетов, сновали внизу перед зданием, словно крысы, перебегающие от укрытия к укрытию, и прятались в рабочую рутину, устланную одними и теми же многажды пережеванными методами. И не кто иной, как доктор Хауэлл, пытался донести до остальных любопытные новости о том, что душевнобольные пациенты тоже были людьми и им могли нравиться обычные людские занятия. Так и появились «Вечера», когда мы играли в карты: снап, старую деву, осла, юкер, а еще настольные игры «Лудо» и «Змеи и лестницы», вручали победителям награды, а потом шли ужинать. Но где взять столько санитаров, чтобы следить за развлечениями? Павлова, единственный социальный работник на всю больницу, отважно поприсутствовала на нескольких «раутах», устроенных для пациентов обоих полов в общем зале четвертого отделения. Она наблюдала за тем, как люди взбираются по лестницам, съезжают по змеям и приводят свои фишки в дом по красным и синим квадратам лудо. Она тоже была рада, когда прибывал главный гость вечера – доктор Хауэлл, одетый в легкий пиджак и спортивные туфли, с приглаженными назад пшеничными волосами и неожиданно громким, густым смехом. Он был подобен богу: метал кости, словно молнии; с надлежащим возмущением встречал требование проехаться назад по аспиду, однако, вне всякого сомнения, он был заклинателем даже картонных змей цвета желчи. Не говоря уже о людях. Мы знали, что он был богом и для Павловой; но беготня в замусоленном белом халате с вечно расстегнутыми нижними пуговицами была плохим союзником в войне против эрготерапевта. Бедная Павлова! И бедная Ноэлин, которая ждала от доктора предложения руки и сердца, несмотря на то, что единственными его словами, обращенными к ней, были «Как вы?», «Вы знаете, где находитесь?», «Знаете, почему вы здесь?» – фразы, которые обычно трудно истолковать как проявление особых чувств. Но болезнь позволяет обнаружить в себе неожиданные просторы восприятия, богато засеянные новыми смыслами, которые отныне единственные дают каждодневную пищу для размышлений. Поэтому, когда доктор Хауэлл женился наконец на эрготерапевтше, Ноэлин пришлось перевести в отделение для беспокойных. Она не могла взять в толк, почему не она была нужна доктору больше всех на свете, почему он предал ее и должен был жениться на ком-то, чьей единственной добродетелью была способность показывать пациентам – которым и не нужно это было особо – как вязать шарфы и вышивать по муслину.
4
Говорят, когда заключенного приговаривают к смертной казни, все часы рядом с его камерой останавливают; как будто это может перекрыть поток времени и забросить обреченного на неподвластный четвертому измерению остров, вокруг которого мгновения, вздымаясь и отступая, словно волны прибоя, никак не могут достичь берега.
Однако еще ни разу смерть океанографа не смогла заставить море замереть; а одним из условий существования моря является то, что оно все-таки соприкасается с сушей. А в камере смертника время мчится с таким грохотом, как если бы все в мире часы с кукушкой-боем-будильником звучали у него в голове одновременно.
Снова и снова, когда думаю о Клифхейвене, я играю в игру со временем: словно это меня приговорили к смерти и все, что указывало на ход времени, было убрано из моего поля зрения, но я продолжаю слышать у себя в голове, как бой часов ведет отсчет, предупреждая о приближении девяти часов – времени, когда нужно было идти на процедуру и искать пару шерстяных носков, так необходимых, чтобы не умереть. Или уже одиннадцать, все завершилось, а мой сон длится всего несколько часов или лет, когда я еще не сидела в радужных лужах принадлежавшего второму отделению дворика и не бродила по ухоженному парку, огороженному частоколом с ржавыми, ощерившимися в небо навершиями.
Одиннадцать. Я помню то ощущение одиннадцати утра и приятную агонию от того, что нужно было решить, пойти ли вместе с бледнокожей миссис Пиллинг и ее корзинкой для белья, застланной пропитанной сырным запахом салфеткой («Пойдете со мной за хлебом?»), или вместе с беспокойной миссис Эверетт, которую упекли в больницу, как поговаривали, до дальнейшего уведомления, и ее пустым кувшином для молока («Пойдете со мной за сливками для наших особенных?»).
Перспектива совершить сразу два путешествия за пределы запертого пространства переполняла восторгом, и я смаковала момент, сравнивая преимущества пекарни и сепараторной. Так все же: хлеб или сливки? К пекарне, где Энди забрасывает в разинутую пасть печки противни с будущими буханками, похожими на покрытые налетом зубища, нарезает хлеб для нашей палаты и пытается петь дуэтом с хлеборезкой, перекрикивая последнюю и хруст случайной корочки, или приглашает меня вдруг в подсобку, чтобы отдать остатки выпечки с вечеринки у главврача, или поделиться куском воскресного борстальского пирога с черносмородиновой начинкой?
Или вверх по склону на ферму, мимо опустевших коровников, от которых несет навозом, в сепараторный цех, где Тед расставил посуду со сливками в порядке важности, как мы когда-то делали в детстве с чашками, когда играли в школу: первый в классе, второй в классе, третий в классе?
Сначала шла фляга для главврача, тщательно отполированная, без вмятин и следов старых сливок. Затем фляга для врачей, тоже начищенная. Затем фляги для главного бухгалтера, управляющего фермой и его семьи, инженера, главных медсестер, главного санитара, прочих санитаров и медицинских сестер. Наконец, фляга для особых пациентов, которые были слишком слабы или болели туберкулезом, и поэтому их имена были внесены в специальный список, что висел на стене в столовой. Из сотни женщин, обитавших в отделении, лишь десять или пятнадцать могли претендовать на звание «особой», которой было положено это лакомство. Помню свой восторг и благодарность, когда на несколько недель в списке появилось и мое имя, и за обедом я с самодовольством наблюдала, как сестра поливала сливками мою порцию тапиокового, или рисового, или манного, или хлебного пудинга (по понедельникам) или печеное яблоко (по четвергам, когда был сезон).
Но вы же знаете, что все это самообман; знаете, что уже одиннадцать, а мне не разрешено выходить ни за хлебом, ни вверх по склону за сливками – мимо тополей, кустов дрока и акаций; знаете, что я прячусь в подсобке для белья, сидя на ящике с дровами, плачу оттого, что не хочу, чтобы меня записывали на процедуру, и боюсь, что кто-то увидит, что я плачу. Эта комната – мое любимое укрытие. Каждое утро ее убирает медсестра из туберкулезного отделения, и ее пол похож на палубу корабля. Отсюда я слушаю, как чахоточная Маргарет бубнит осипшим голосом про Первую мировую. Она умоляет любого, кто проходит мимо по коридору, помочь ей выдворить из ее комнаты врага. В этой палате, в которую солнце, пробиваясь через ржавую сетку на окне, заглядывает летом всего на несколько часов в день и заставляет пылинки плясать в воздухе, она живет уже много лет. Иногда на вечерней прогулке можно увидеть, как Маргарет стоит в освещенном солнцем углу своей палаты, и кажется, что лучи проходят сквозь нее, и кости ее не плотнее паутины. Лицо ее бесцветно, нет даже обычного для чахоточных румянца, а сама она как скелет; смотришь на нее и думаешь: «Умирает». Она же все живет и живет, год за годом, тогда как другие туберкулезные, более крепкие на вид, как Эффи и Джейн, уходят, а их тела поспешно, без антисептической обработки, отправляют в морг, что стоит позади прачечной и напротив теплицы в окружении овощных грядок и живучих уличных растений, а внутри у него нежные бегонии в горшках, которые расставляют вокруг пианино, когда из города приезжает выступать слепой музыкант.
У морга нет лица.
Если бы его строили так, чтобы вместить всех умерших, он бы поглотил теплицу, и прачечную, и котельную, и большую кухню, и, возможно, даже всю больницу. Однако он мал, неприметен и умоляет, чтобы пациенты не нарушали правило одиночества и умирали строго по очереди.
Хотя подсобка и выглядит начищенной до блеска, она полна запахов – мастики для полов; крема для обуви (черного и коричневого, затвердевшего, почти не использованного, в жестяных банках, которые хранятся внутри большой банки из-под печенья, с вмятиной и серьезным профилем Георга Шестого на крышке); покрытой сырыми пятнами щепы, от которой во рту сухо и появляется странный привкус; прилипающего ко всему еще влажного белья и свежего выглаженного белья, разложенного по полкам с бирками «Панталоны», «Сорочки», «Ночные рубашки», «Простыни», «Покрывала» (украшенными завитками патриотичного орнамента из листьев акеаке или венком и надписью «Вперед», как на кокардах у военных). Здесь хранятся маски для больных туберкулезом и картонные коробки для сбора мокроты, в разобранном виде, как их привозят из магазина. Часть трудотерапии чахоточных пациентов заключается в том, чтобы собирать эти коробки, цепляя клапаны друг за друга, и следить за тем, чтобы маркировка с указанием унций была сбоку; они были словно дети в детском саду, собирающие гробики из набора «Сделай сам». Здесь хранятся жестяные канистры из-под керосина со срезанным верхом, которые используют, чтобы кипятить на открытом огне в столовой посуду туберкулезных пациентов, потому что стерилизатора для них у больницы еще нет.
За процессом надзирают миссис Эверетт и миссис Пиллинг, хозяйки на кухне и у очага. А еще миссис Пиллинг (самая надежная в палате) заботится о том, чтобы на завтрак были поджарены на огне тосты, принесены хлеб и сливки, выставлен за боковую дверь жестяной бак с едой для свиней, который, неторопливо подгоняя своего тяжеловоза, забирает по пути на ферму золотоволосый посвиненок. Водрузив бак на повозку, он роется в нем в поисках съедобных кусков, обходя стороной студенистое болото из каши, вытаскивая казавшиеся повкусней куски тостов и пропитанных черносмородиновым сиропом булочек, жадно запихивает все это себе в рот, с удовольствием пережевывает, а затем снова забирается на козлы и, дернув за поводья и выкрикнув: «Но!», заставляет хмурую, но терпеливую лошадь сдвинуться с места; миссис Пиллинг, сдержанная и молчаливая, находит в себе понимание к причудам мальчишки, хоть ее и воротит от его привычки; с непоколебимым терпением и уважением она воспринимает особенности других людей и, вставая на защиту чужой индивидуальности, сама порой может выкинуть фортель.
Иной раз она оставляет кусок пирога с начинкой на баке. Похоже, что у нее нет ни мужа, ни детей, ни родственников. Никто никогда не приходит ее навестить. Она никогда не разговаривает о личном, так что сложно заподозрить, что оно вообще у нее есть. Она уже много лет прожила в больнице и обзавелась здесь собственной комнатой в конце коридора, где располагаются палаты больных туберкулезом; удивительно, насколько уютной смотрится эта каморка, по крайней мере, для палаты в больнице для душевнобольных. Ей разрешено хранить свое пальто у себя. Его место за дверью. У комнаты женский запах – пудры и одежды. Кто-то когда-то подарил миссис Пиллинг цветок в горшке, который сейчас живет в углу на стуле; календарь пятилетней давности, сохраненный, возможно, из-за красоты старого доброго английского пейзажа, закрывает собой окошко в двери, чтобы медсестры не могли заглянуть к ней в комнату посреди ночи. Она среди тех, кому позволено немного приватности.
Ясность ее ума, ее осознанное принятие своего положения на всю оставшуюся жизнь меня пугают. Она похожа на кого-то, кто мог бы встать лагерем на кладбище и как ни в чем не бывало продолжать готовить суп в котелке, есть и крепко спать, а днем, возможно, начищать могильные камни и выпалывать сорняки. Ждешь от нее проявления хоть какой-то эмоции, как ждешь, что из-под бесконечно безмятежной глади озера появится тот самый зверь, который, по слухам, обитает где-то там, «глубже, чем достанет лот» [3]3
У. Шекспир «Буря». Пер. Т. Щепкиной-Куперник.
[Закрыть]. Чтобы добраться до самой миссис Пиллинг, нужно что-то вроде батисферы. Батисферы полной страха? Или любви?
Ее альфа и омега – хлеб-сливки-больница-столовая-очаг, а еще проверить вместе с миссис Эверетт, разделяющей общую страсть к наведению порядка, чтобы медный титан для чая начищали каждый день, а еще выставлять на стол еду из буфета для личных запасов. Фрукты, сладости, пироги, пряники – все, что принесли гости и осталось недоеденным после субботнего часа для посетителей, запирают в том шкафу, а за чаем ты можешь обнаружить перед собой тарелку со своим именем, на которой лежат две-три шоколадки в обертке, апельсин или яблоко. Иногда мне удается попасть в помощники к медсестре и миссис Пиллинг, ведь посетители у меня бывают редко, и тогда я с нетерпением жду момента, когда сестра соорудит на тарелке натюрморт из шоколадок в блестящих обертках и скажет: «Держи, съешь парочку».
Я возражаю: «Нет-нет, это же не мое».
А сестра отвечает согласно сценарию: «У этой пациентки корзинки и картонки еды – пропадет, если не съесть».
Я виновато беру шоколадку, медленно разворачиваю ее, разглаживаю складочки на серебристой бумаге, откусываю крошечный кусочек, чтобы понять, насколько сильно отвердел шоколад, а затем, словно вор, словно пронырливый любитель дармовщинки, съедаю всё. Точно так же, когда посетители уходят, а расстроенные и взволнованные пациентки разбредаются, разговаривая о муже-доме-детях, прижимая к себе единственные видимые и осязаемые свидетельства общения с родными, все эти печенья, конфеты, фрукты, я – с пустотой в руках, стараясь не показать вида, когда отвечаю на вопрос «К тебе кто приходил?», оказываюсь внезапно в самом оживленном уголке общего зала, где мне непременно предложат апельсин, или мятную конфетку, или печенье.
«Что ты, тебе самой нужно», – протестую я, нетерпеливо протягивая руку.
Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Использовать времена – все равно что писать мелом на воде. Я не знаю, случилось ли мое пребывание в Клифхейвене много лет назад, или происходит сейчас, или только ожидает меня в том времени, что называют будущим.
Что я знаю наверняка, так это то, что подсобка для хранения белья часто была моим укрытием. Оттуда сквозь маленькое пыльное оконце я смотрела на парк, газоны, деревья, далекую полоску моря, приклеенную, точно стикер, к краю небосвода. Я плакала, и недоумевала, и лелеяла мечту каждого душевнобольного пациента – о Большом Мире, о Свободе, о Воле; с ужасом представляла то, что пугало больше всего, – лечение электрошоковой терапией, заключение на ночь в одиночной палате, переселение во второе отделение, то, которое для беспокойных. Я мечтала о большом мире, потому что так было принято, потому что не могла вынести мысли, что не все узники грезят о свободе; реальный же образ жизни за стенами больницы приводил меня в ужас: трясина – обиталище отчаяния-жестокости-смерти – под тонкой корочкой изо льда, по которой Любовь, крошка краб с радужным панцирем, цепляясь клешнями за поверхность, осторожно боком семенит и никак не может никуда добраться, пока солнце, похожее на один из тех шерстяных помпонов, которые мы делаем на трудотерапии, наматывая оранжевую нить на картонный кружок, поднимается все выше над горизонтом, расправляя огненную бахрому, и угрожает растопить предательскую стеклянную гладь. Люди же… похожи на гигантские куклы из лоскутов, с оторванными конечностями и подрезанным под имеющуюся форму сознанием.
Я не умела выбраться из своих грез; у меня не было нужных средств; словно у хирурга, который обнаруживает перед началом сложной операции, что у него украли поднос с инструментами или, что еще страшнее, все его инструменты изменили форму – и лишь он их не узнает, пока остальные, ничего не подозревая, ждут, когда он сделает первый разрез. И как тут можно объяснить что-то, очевидное только для тебя, кому-то, кто не способен этого понять? Как полагается, я мечтала о Большом Мире, потому что была выдворена за его пределы: кому же еще испытывать чувство тоски, как не изгнаннику? А иногда бормотала доктору заученную фразу: «Когда меня отпустят домой?», прекрасно зная, что дом был местом, куда я совсем не хотела вернуться. Домашние бы постоянно ждали от меня чего-то ненормального, как ждут хорьки у кроличьей норы, когда из нее высунется ее хозяин.
Я боялась очутиться в одиночке. И хотя все маленькие палаты были одиночными, одно лишь это название делало угрозу еще более страшной. Во время моего пребывания в четвертом отделении я жила в наблюдательной палате, а позже в переполненной палате, что «в другом крыле», с цветочными покрывалами на кроватях, которые стояли даже в коридоре. Мне нравилось лежать ночью в наблюдательной палате, когда медсестра, сидя в принесенном из кают-компании кресле, вязала все новые и новые кофты, всматривалась во вкладыши со схемами в женских журналах, урывками ненадолго засыпала, подняв ноги на каминную решетку, чтобы приятное тепло от огня доставало и до ее пятой точки. Я любила ритуал подготовки ко сну, когда надежная миссис Пиллинг присылала поднос со стаканами молока, а одна из пациенток, балансируя, словно официант, заносила колонну из серовато-бежевых ночных горшков. Мне нравилось, что кровати стояли бок о бок и то, как спокойно становилось от равномерного дыхания соседей, к которому примешивались раздражающий храп, перешептывания, позвякивание ночных горшков и доносящийся потом теплый запах, как из коровника. Я боялась, что в какой-то момент главная медсестра Гласс, услышав, что я «доставляла трудности» или отказывалась «сотрудничать», отчеканит: «Понятно. В одиночную палату, дамочка».
Когда часто слышишь, как угрожают другим, сам боишься еще больше, а когда видишь, что пациент, которого уводят, всегда упирается и кричит, задумываешься с болезненным любопытством, что же там такое в этой комнате, что за ночь буйствующие крикуньи становятся послушными, сидят с отстраненным взглядом и апатично следуют командам «В общий зал», «В столовую», «В кровать». Менялись, однако, не все; и тех, кто не поддавался увещеваниям заточения на четырех квадратных метрах и никак не мог выучить «урок», как выражались главная медсестра Гласс и старшая медсестра Хани, отправляли во второе отделение.
А второе отделение было моим кошмаром. Туда отсылали, если пациент отказывался «сотрудничать» или если систематические процедуры ЭШТ не приводили к улучшению состояния, которое оценивалось в основном по тому, насколько сговорчиво и быстро выполнялись команды «Дамы, в общий зал», «Вставайте, дамы», «По кроватям, дамы».
Ты прилежно выучивался «не выделяться»: не плакать при свидетелях, улыбаться и выражать удовлетворенность, изредка спрашивать, можешь ли вернуться домой, в доказательство того, что тебе становится лучше, а потому нет никакой необходимости переводить тебя под покровом ночи в это самое второе отделение. Ты приучался хорошо выполнять свои «домашние» обязанности: заправлять кровать так, чтобы текст смотрел правильной стороной вверх, а углы покрывала были аккуратно подогнуты; начищать пол в палате и коридоре, усердно придавливая к поверхности тряпку, сделанную из порванного одеяла, пропитанную неподатливой желтой мастикой, вобравшей в себя запахи еженедельных покупок, в одной корзине с которыми ее принесли из магазина: всех этих банок с вареньем, бутылок с уксусом, огромных головок сыра и брикетов масла, куски из которых миссис Пиллинг или миссис Эверетт вырезала при помощи ножа, хранившегося в запиравшемся на ключ футляре. Ты запоминал, каким был порядок вещей: ванну принимали вечером в среду, но тем, кому можно было доверить мытье собственного тела выше запястья, разрешалось в любой день посещать просторную комнату с высокими потолками, словно на вокзале, и стоявшими рядом друг с другом тремя глубокими ваннами, краны которых были спрятаны в защитные кожухи, запиравшиеся на замок. На стене висели правила поведения, напечатанные таким мелким шрифтом, что их можно было перепутать с расписанием поездов. Список был древний, еще начала века, и содержал четырнадцать указаний, согласно которым было запрещено, например, принимать ванну в отсутствие санитаров, емкость разрешалось заполнять водой лишь на шесть дюймов, при этом сначала включать холодную воду, не допускалось использовать щетки какого бы то ни было типа… Каждая из нас мылась в своей ванне, без ширм, и таращилась с любопытством на тела соседок, на обвисшие животы и сдувшиеся груди, на клоки выцветших волос на теле, на те громоздкие и гибкие формы, которые для женщины являют собой квинтэссенцию ноющей, не прекращающейся связи с собственной плотью.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































