Читать книгу "Лица в воде"
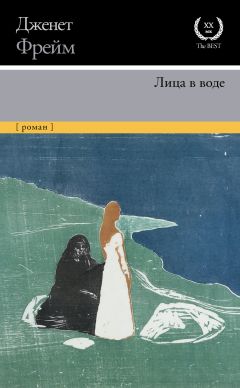
Автор книги: Дженет Фрейм
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
8
Мы с мамой стояли на железнодорожной станции и ждали, когда подойдет наш экспресс. Помню, как часто, когда мы проезжали через Клифхейвен и поезд делал остановку, чтобы загрузить почту и охладить двигатель, я специально выглядывала, чтобы посмотреть на «дурачков» на платформе. А теперь, когда поезд замер, из вагонов смотрели уже на меня, и я пыталась понять, нет ли на мне каких-то отличительных знаков безумия, понимали ли они – хотели ли понять – то, какой жизнь была за пределами станции, вверх по дороге, за воротами, вверх по тропинке, за запертыми дверями серого каменного здания.
Забираясь в вагон, я вспоминала, как миссис Пиллинг ставила на стол хлеб к чаю, а миссис Эверетт следила за приготовлением яиц на огне в столовой. В общем зале миссис Ричи рассказывала любопытным, но скептично настроенным слушателям, как во время операции у нее «часть тела просто взяла и отвалилась. Хирурги что-то там не то сделали. Какая-то часть тела – секретная, не могу сказать какая – просто взяла и пропала». С раскрасневшимся лицом, жестикулируя, она снова и снова повторяла про досадную ошибку, из-за которой стала не такой, как все, а подлые врачи отказываются признаваться в краже. Меж тем в углу тихо и безмолвно стоит Сьюзан с замерзшими и посиневшими руками и ногами. Она сняла кофту и туфли, и теперь невозможно убедить ее снова их надеть.
Престарелые пациентки бродят по палате с потерянным видом, в помятых платьях и фильдеперсовых чулках, собравшихся гармошкой на щиколотках, потому что, когда их одевали рано утром, подвязок в их «связке» вещей, вероятно, не оказалось. Они бьются в запертые двери, хотят выбраться, «заняться делами» или разобраться с чем-то из прошлого, что побеспокоило сейчас и требует немедленного внимания; им нужно поговорить с людьми, которых нет рядом, поухаживать за давно умершими – принести чашку чая уставшему мужу, которого нет ни здесь в общем зале, ни среди живых. Голоса передают им срочные послания, и их начинает переполнять беспокойство, но никто, никто не хочет их выслушать или понять.
Новые медсестры, пришедшие в больницу всего несколько дней назад и занимавшиеся тем, что начищали полы, убирали постели и пополняли емкости с углем, как будто бы от них требовалось установить хорошие отношения с домашней утварью, а лечить нужно было ведра, одеяла и коридоры, находили какое-то странное успокоение в том, чтобы, стоя посреди общего зала, расчесывать грубой больничной расческой волосы наших престарелых дам – редеющие белые пряди на обтянутом прозрачной голубоватой кожей черепе. Со временем эти самые медсестры растеряют все свое терпение, но сейчас они все еще полны сочувствия к своим подопечным; по всему видно, что старушкам плохо: общий вид потерянности подчеркивает их неказистая одежда, слишком длинные кофты, в которые завернуты их усохшие тела, бесформенные платья, которые им принесли мужья или дочери со словами: «Надеюсь, будет как раз. Почему-то не могу вспомнить, какой у тебя размер», возможно, даже осознавая где-то глубоко внутри, что нет «правильного размера», что искореженный внутренний мир их матери или жены добрался до их плоти и никакими обычными инструментами невозможно было теперь снять мерки.
Этих престарелых дам усаживают за отдельный стол, подают им сливки к пудингу, рано отправляют по своим палатам, раздевают, укладывают спать и запирают. Как только медсестра уходит, они сразу же выбираются из постели и разбредаются по комнате, чтобы посмотреть, все ли здесь в порядке, не нужно ли что-то поправить, не нужно ли о чем-то позаботиться. Так беспокойно они проводят почти всю ночь, а утром, после мимолетного сна, снова встают с кроватей, иногда мокрых и перепачканных, и, как и в любой другой день, пытаются разобраться, где они находятся, почему им нельзя уйти, куда пропали их подвязки и носовые платки, познают сложности перемещения из одной комнаты в другую, из дневной палаты за обеденный стол и обратно, стараются не забыть подтереться после туалета. Спустя несколько недель, если улучшений нет, их сажают в большой государственный автомобиль черного цвета и отправляют в Кайкохе, в дом престарелых у моря, или переводят в первое отделение, которое также является и детским, с внутренним двориком, где пожелтевшая трава пробивается из трещин на асфальте и бледные слюнявые дети, которых ночью уводят спать в маленькие сырые комнаты с бетонными полами, утешаются парой деревянных игрушек.
В конце концов именно здесь старух уложат в кровать в последний раз; в этих обшарпанных, провонявших уриной палатах, куда не проникает солнце, их будут мыть и каждый день переворачивать, а глаза их затянет мутная пленка – последний признак победы мира химер. И как-нибудь утром, проходя по коридору первого отделения, можно будет почувствовать запах дезинфицирующего средства, которым вымыли полы в одной из маленьких комнат, увидеть, как с кровати сняли постельное белье, а матрас поставили проветриваться, как за ночь место стало свободным.
Поезд покидал Клифхейвен; медленно набирал ход, проезжая мимо неухоженных склонов, поросших душистым горошком и утесником, и садовых двориков с их хлопающим на ветру, пропахшим мылом бельем на сушилке и курятниками, где толстые белоснежные куры, задрав свои гузки, поклевывали и скребли каменистую почву. Наконец мне надоело пытаться рассмотреть больничные башни за удаляющимися холмами, и я погрузилась в ленивую, туманную дремоту пассажира поезда, который сонно смотрит на погибшие скрюченные деревья, и безудержно пасущихся овец, и помахивающих хвостами коров, которых начинают сгонять на вечернюю дойку. Клифхейвен ускользнул из моих мыслей так же легко, как солнце скользит вниз по небу в прореху между облаками и горизонтом.
Когда поезд остановился на запасном пути где-то в поросшей травой и эвкалиптами глуши, чтобы пропустить экспресс, который шел на юг, и ждал, и ждал, и ждал, пока не начало казаться, что его бросили на съедение ржавчине, сорнякам и тишине – этим врагам всех людей и машин, хоть в покое, хоть в движении, я снова подумала о Клифхейвене и его обитателях. Интересно, были ли они вытеснены на запасной путь, чтобы уступить дорогу кому-то, кто ехал по более срочным делам? И куда этот кто-то направлялся?
Но поезд тронулся, а я уснула, и мне было все равно. Клифхейвен далеко, а я больше никогда не заболею.
Правда же?
Часть II. Трикрофт
9
Итак, я отправилась на север, в край пальмовых деревьев и мангровых лесов, напоминающих злокачественные наросты в пасти бухты, покрытой иловым налетом; в край апельсиновых деревьев с темными и строгими листьями, служившими прибежищем непрошеным шарам зимнего пламени; в край безупречного и высокого неба. Так там было – на севере. Я остановилась на несколько недель у своей сестры. Знаете ли вы, каково жить под одной крышей маленького домика вместе со своей сестрой, ее мужем и их недавно родившимся ребенком, если ты взрослая одинокая женщина? Смотреть на то, как они заигрывают друг с другом, пощипывают и щекочут друг друга, а ночью, когда ты лежишь на узкой, как гроб, раскладушке, на которой нет места для двоих, слышать их, потому что не можешь не слышать?
Я не могла понять, кто я. Меня лишили телесной оболочки и подвесили под небесным куполом, словно чучело. День казался осязаемым лишь до того момента, пока я не пыталась до него дотронуться, и тогда он отшатывался в страхе, что я могу его заразить. Я все молила и молила небо о помощи. А оно закрылось от меня фарфоровыми облаками. Я не была ни комаром, ни сверчком, ни бамбуком, и потому в самый разгар лета я очутилась в кровати под лоскутным одеялом веселенькой расцветки в безупречно чистой наблюдательной палате седьмого отделения Психиатрической больницы Трикрофта, что на севере. Из комнаты открывался вид на сад из пышных роз и калл с оранжевой сердцевиной, которые бурно разрослись по краям сухого газона с плакучей ивой по центру. И хотя рядом не было ручья или речки, дерево там было, вне всяких сомнений питаемое той надеждой, что не дает пропасть некоторым людям и растениям; оно там было и ожидало тайного поступления провизии. Сад окружала высокая стена, спрятавшаяся под противопожарным покрывалом из плюща. Я заметила, что окна палаты были створчатыми и открывались так, что никто не смог бы догадаться, что ширина, на которую они открывались, была фиксированная; и над ними не было никаких досок с грубо вбитыми гвоздями, какие использовали в Клифхейвене. В палате было сумеречно и прохладно; снаружи люди в летней одежде прогуливались туда и сюда или сидели в тени плакучей ивы. Воздух был наполнен спокойствием. Никто не кричал, не протестовал, не стонал; не было никаких звуков возни, когда пациента силой заставляли выполнять приказы. Люди, что были снаружи, были пациентами. И это была больница.
Ведь больница же?
Ну да, конечно, больница; я слышала, как они говорили водителю: «В Психиатрическую больницу Трикрофта, куда убийц направляют. Вот сюда, спасибо».
На кровати напротив меня сидела женщина и разговаривала с любым, кто подходил на роль слушателя.
«Меня зовут миссис Огден», – говорила она.
При поступлении они подписали ее платье, ее туфли, даже ночные рубашки, но в спешке забыли подписать ее саму, поэтому теперь ей приходилось рассказывать, как ее зовут, перманентно, как чернила, которые наносили на ярлыки.
«Меня зовут миссис Огден».
Ее лицо в испарине было бледным, рот влажным, с поджатыми уголками; я узнавала это выражение, такое было у чахоточных в Клифхейвене. Она тараторила без умолку, рассказывая с восторгом об операции, которую ей сделали в городе, чтобы удалить несколько ребер. Она демонстрировала шрамы. Она рассказывала о произошедшем. Она объясняла, что означали все эти фразочки, описывавшие пребывание в обычной больнице.
«У меня был “амбулаторный” режим, – говорила она блаженно. – Знаете, что это? Это когда несколько часов в день можно не лежать в кровати. Мы надевали халаты и сидели в креслах. Один раз был гром, и два раза молния, и целую неделю лил дождь, а в остальном было солнечно. На террасе. Это достаточно далеко за городом. Все зовут меня Бетти».
Я не могла ничего ей ответить, потому что не могла говорить; я лежала в своей постели, уставившись на нее и пытаясь предупредить о фальши окружающего спокойствия и приятной обстановки, ярких покрывал и людей в летней одежде, прогуливающихся снаружи; я хотела предостеречь от спрятанных в палате ловушек и капканов. У меня в голове поселился ужас, который только усиливался от созерцания сада, плакучей ивы, довольных пациентов, фланирующих без ограничения по нагретому солнцем газону. Меня восхищало то, какой безмятежной казалась миссис Огден. Неужели она не догадывалась об угрозе? Почему не проявляла осторожность, не следовала правилам безопасности, не затаилась в кровати, натянув одеяло под самый подбородок?
Я лежала и следила за тем, как темный ужас захватывал все вокруг, словно одно из тех сказочных растений, чье существование зависит от отсутствия дисциплины, неудержимого желания прорасти, перерасти, врасти, нарасти – до самого неба, чтобы закрыть собою солнце. Мой ужас выползал из меня, поселялся в тихой палате и оттуда набрасывался на меня, как ребенок, бунтующий против родителей. Угрожал мне.
Я наблюдала за тем, как ответственная за отделение медсестра – старшая медсестра Крид – сопровождала доктора во время обходов; она разговаривала тихо и спокойно, она улыбалась нам с миссис Огден (единственным лежачим больным), подобно тому как вежливая хозяйка дома могла бы приветствовать гостей, приехавших на выходные. Но как только они выходили в сад через распахнутые двери, я замечала с чувством тревоги, что и доктор, и старшая медсестра Крид прихрамывали. Невозможно, чтобы это было просто совпадение! Меня переполнял суеверный страх, какой испытывают первобытные люди и дети, который заставляет их придумывать богов и повторять рифмованные строфы, чтобы защититься от порока. Мне вспомнилась одна женщина, которую мы прозвали Сторожиха. Она встречала по пути в школу тех, кто замешкался и начинал опаздывать. «Сторожиха», – шептали мы в ужасе и припускали что было сил, не обращая внимания на колотящиеся сердца и колики в боку, лишь бы скрыться из виду хромоножки и успеть на сбор всех учеников во дворе школы.
А потом я познакомилась с главной медсестрой Трикрофта и еще раз убедилась, что страхи мои не были беспочвенными; сначала мне показалось, что главная медсестра Гласс проследовала за мной с юга на север и приняла облик главной медсестры Боро: даже фигуры у них были одинаковые, огромные, упакованные в белую униформу, через которую оградой продавливались прутья корсета. У нее был низкий командный голос; лишь одним своим взглядом она могла дать понять, что наш с миссис Огден постельный режим, привносивший дезорганизованность в упорядоченные ряды накрахмаленных простынь, безупречно чистых после прачечной, аккуратных кроватей, которые никто не занимал, лоскутных покрывал, расправленных под нужным углом, был оскорблением всему седьмому отделению; и чем раньше мы «вылезем из-под одеяла», тем лучше.
Я с ужасом ожидала того момента, когда мне придется одеться и встать посреди комнаты навстречу сбивающим с ног волнам океана, проверить реальность того умиротворения и довольства, которые я наблюдала из своего укрытия под одеялом. Я не могла найти объяснений своим страхам. Что если, седьмое отделение было всего лишь подводным состоянием разума, который прятал погруженные в воду страшные силуэты за ритмичной иллюзией покоя; и что если, встав с постели, я обнаружу под новым углом зрения, что картина внезапно изменилась, или попаду в ловушку, где огонь, горящий в стенах, высушил всю воду и уничтожил мой покой, полностью обнажив кошмарные силуэты и подставив их резким лучам дневного света? Откуда мне было знать?
Мне разрешили оставаться в постели два дня; я была благодарна. Доктор осматривал меня, а палатная медсестра ненавязчиво поправляла одеяла. Я сжимала ладони в кулаки, следила глазами за движением пальца доктора Тейла, давила ему на руки, ощущала укол булавкой, дышала, говорила: «Девяносто девять», подставляла колено для удара молоточком и ступню для того, чтобы по ней провели иголкой. Я не просила доктора объяснить, почему старшая медсестра Крид прихрамывала, а главная медсестра Боро была так пугающе похожа на главную медсестру Гласс или что означали плакучая ива и послания комаров, бамбук, звенящие сверчки, мухи-каменщицы, жуки хуху, муравьи, потерянно останавливавшиеся на своем пути и из-за этого плакавшие, глубокие трещины в земле, алюминиевый дождь, вскипавший на земле.
Доктор Тейл был тенью, что появляются поздно днем, аккуратный, в белом халате, с куском золота, вставленным между передними зубами, – роскошным трофеем, к которому постоянно возвращался его язык, словно хотел убедиться, что драгоценность на месте, или чтобы освободиться от нее, как избавляются от надоевшей дурной привычки, давно потерявшей свою привлекательность и не приносящей удовольствия.
«Вы знаете, где вы находитесь?»
Очень хотелось выразить сомнение в том, что это было седьмое отделение Психиатрической больницы Трикрофта. Трикрофт. Не могла избавиться от мысли, что меня положили в голубятню. Но говорить я не могла и только смотрела, не отрываясь, на золотой зуб доктора Тейла. «Запишите ее на завтра на ЭШТ», – сказал он старшей медсестре Крид.
Выносить бремя пугающего будущего я больше не могла; я устала; даже если пойдет дождь и арфа в ветвях ивы намокнет, мне будет все равно. Миссис Огден закашлялась, достала контейнер для мокроты и теперь внимательно изучала его содержимое. Она раскраснелась, как будто только что занималась любовью с кем-то или чем-то невидимым для остальных; затаила дыхание от радости, когда увидела, что идет медсестра с картой и градусником.
«Поднялась», – победоносно заявила она, как будто бы выиграла спор у своего невидимого компаньона.
На следующее утро меня в ночной рубашке и халате повели вместе с другими пациентками в незнакомое отделение, которое тоже выходило окнами на сад. Меня положили в одиночной палате, какими были и все другие в этом коридоре, сказали вести себя тихо и ждать. Я лежала, рассматривала узор на половике и думала, что никогда не видела, чтобы в Клифхейвене в палатах что-то стелили на пол; лениво размышляла о том, что будет со мной, словно была персонажем не очень увлекательного сериала, которому угрожала опасность. Вдруг я услышала знакомый горький, отчаянный крик кого-то, кому делают ЭШТ, и всхлипывания в соседней палате, и как что-то везли в мою комнату.
Дверь отворили. В проеме показался незнакомый мне доктор, а на тележке стоял аппарат электрошоковой терапии. Врач зло посмотрел на меня, подошел к кровати, прикрепил электроды к моим вискам – и я погрузилась в беспамятство и одинокую битву против кошмаров и отчаяния. Когда я очнулась, меня отвели через сад, мимо плакучей ивы и пустой купальни для птиц, в которой в пыли кувыркались несколько воробьев, в седьмое отделение, такое мирное, что я могла бы усомниться в реальности криков и крадущегося по коридору аппарата, если бы в памяти не сохранилось, почти против моей воли, особое зловоние той комнаты, в котором запахи человеческого тела, мастики и мочи спрессовались, как табак или травы, до состояния трухи и давали о себе знать то слегка, то посильнее, пока их остатки источало, намеренно или нечаянно, вездесущее никуда не исчезающее нечто, которое некоторые называют Временем.
Через несколько дней я уже могла вставать, одеваться и ходить по палате или сидеть в саду под плакучей ивой; пытаясь усмирить всевозрастающую тревогу, и ужас, и навязчивый запах той палаты теперь, когда я стала похожа на одного из спокойных, довольных пациентов седьмого отделения, я приучала себя к мысли, что три процедуры в неделю и арпеджио из криков, сопровождавших продвижение тележки по коридору, – все эти ужасы были для моего «блага». «Для вашего же блага» – убедительный аргумент, при помощи которого любого можно заставить согласиться на собственное уничтожение. Я пыталась приободрить себя тем, что в седьмом отделении придерживаются «нового подхода» («душевнобольные пациенты – такие же люди, как мы с вами»): покрывала яркой расцветки и стены пастельных тонов должны оказывать успокаивающий эффект, в гостиной висят несколько абстрактных картин, в столовой расставлены столы на четверых, накрытые пестрыми клетчатыми скатертями, – делалось все, чтобы создать иллюзию, что Трикрофт был отелем, а не сумасшедшим домом, да и слова «сумасшедший дом» теперь не приветствовались и правильно было говорить «психиатрическое учреждение».
Добрая старшая медсестра Крид ела вместе с нами. На завтрак нам подавали пудинг со сливочной подливой, бекон и яйца; все это готовила на кухне седьмого отделения Хиллси, миссис Хилл, еще один преданный старожил, чья жизнь заключалась в служении. Она работала с утра до поздней ночи, хоть и была всегда бледна, с впалыми глазами и темными кругами под ними, а щиколотки ее к ночи опухали.
«Ты только посмотри на мои ноги», – повторяла она.
А кто-то обязательно отвечал: «Хиллси, тебе не следует так много работать».
«Пожалуй, нет», – отвечала она.
Но на следующий же день она поднималась рано утром и направлялась на кухню готовить завтрак, заботливо приносить сестрам чай («Хиллси, ты просто ангел»), мыть и начищать. По воскресеньям, в свой единственный выходной, она оставалась в постели весь день, и тогда люди спрашивали со страхом и раздражением в голосе: «А где Хиллси?» В такие дни, казалось, все шло наперекосяк: еда подгорала и засыхала, столовые приборы терялись, никто не мог ничего найти или сделать сам, и Хиллси все время беспокоили вопросами где, да почему, да как. Комната Хиллси, как и комната миссис Пиллинг, была украшена картинками и календарями. На туалетном столике стояли ваза с розами из сада и фотография ее сына в форме моряка, привлекательного парня, бледного, как и его мать. Ее поместили в Трикрофт, когда он только родился; в те времена ее еще не могли вылечить.
В назначенные дни посетители приходили почти к каждому пациенту. Моя тетушка решила «удочерить» меня и стала приезжать ко мне каждую неделю, проделывая на трамвае длинный путь с самых окраин города. Она была женщиной средних лет, которая нечаянно или намеренно придерживалась новой моды, провозглашавшей, что розовый и серый – «правильные» цвета для средневозрастных дам. Она носила розовые блузы и серые костюмы в сочетании с невесомыми шифоновыми шарфиками. Кожа на ее лице, испещренная покраснениями и сосудами, напоминала разрисованную карту; глаза ее были мутными, с розовыми комочками, похожими на крупинки крови в яичном белке. Она была милой, интуитивно понимала, чего ожидают от хорошего посетителя: чтобы он принес что-нибудь вкусненькое, а после первого неловкого вопроса «Как ты?», не требующего подробного ответа, посидел вместе с тобой в саду, тихий, сдержанный, нелюбопытный, время от времени предлагая мятно-карамельные помадки и пирожные. Она восторгалась больницей, любезностью персонала, приятной атмосферой, царившей в отделении, и тем, как выглядели пациенты – «как будто с ними все было в порядке». Другие посетители отзывались о лечебнице похожим образом.
«Тебе так повезло, что ты сюда попала. Здесь все такие милые. Все это больше похоже на дорогую гостиницу. Я подумываю о том, чтобы как-нибудь тоже устроить себе нервный срыв. Я шучу, конечно же. Я понимаю, как нелегко тебе пришлось».
Большинство пациентов седьмого отделения любили поговаривать со своими гостями о «нервном срыве», о том, как он устроен и какие бывают нюансы, как будто бы это был объект недвижимости, нечаянно ими приобретенный. Они любили описывать своим родным, «через что им пришлось пройти». И получали в ответ искреннее утешение: «Скоро домой, еще парочка недель – и ты снова будешь с нами».
И для многих так и случалось. Были прощания и слова благодарности, обмен адресами и обещания писать, обещания рассказать всему свету, что больницы для душевнобольных совершенно не такие, как о них думают, что письма, полные душераздирающих подробностей, появляющиеся в газетах, – творение странных выдумщиков и лжецов.
Разве обитатели седьмого отделения не убедились на собственном опыте, что здесь самые современные условия и к пациентам относятся как к обычным людям, с заботой и добротой? Электрошок, конечно, не мог быть приятной процедурой, но ведь это было же для их собственного блага, и проводили его в специальном отделении, и пациенты все равно были под действием препаратов, так что вряд ли что-то помнят. Главное, что вам стало лучше и вы можете отправляться домой, а если вдруг придется вернуться в Трикрофт, вы не будете этого бояться.
Как-то раз доктор Тейл сообщил и мне, что скоро и мне станет лучше. Мы нечасто его видели – он был всегда занят и лишь изредка находил минутку, чтобы произнести: «Что вяжете?», «Вы молодец», «Жарко сегодня, не находите?» – или какую-нибудь другую затхлую фразу. Он заботился – или старался заботиться – более чем о тысяче женщин.
Я не чувствовала себя больной, но мне было страшно. Доктор Тейл прихрамывал. Старшая медсестра Крид прихрамывала. Передо мной устрашающе раздулось лицо главной медсестры Боро, похожее на физиономию мясника. И я послушно направилась на процедуру в то, другое, отделение, под номером четыреста пятьдесят один, старалась подавить тревогу, которая перерастала в панику, как только я ощущала знакомый запах или даже слышала название отделения – номер четыреста пятьдесят один (наверняка код от чего-то зловеще-опасного), как только видела принадлежащее отделению туберкулезное крыло, выходящее в кухню и похожее на хижину, с голыми деревянными полами под крышей из гофрированных металлических листов, из-за которой в солнечный день в палатах, должно быть, была невыносимая жара, пульсировавшая, как головная боль небосвода. Голые полы, контрастировавшие с яркостью и атмосферой достоинства седьмого отделения, приводили меня в уныние, я очень хотела их забыть, чувствовала, насколько мне необходимо не верить в то, что они реальны. Я не смела одновременно поселить у себя в голове и образ седьмого отделения, и образ туберкулезного крыла отделения номер четыреста пятьдесят один.
Я возвращалась с каким-то истерическим удовольствием из суровой «походной» палаты, где царил запах трухи, к иллюзорной реальности седьмого отделения, уверенной болтовне миссис Огден, раздражающей мечтательности остальных женщин, неторопливо рассказывавших о своих домах, семьях, симптомах и о том, какими хорошими были условия в этой больнице. Но я все больше и больше чувствовала себя гостем в загородном особняке, которого окружили заботой, который, однако, самым неожиданным образом находит следы чьего-то тайного присутствия, секретные панели, слышит постукивания и наконец подслушивает разговор хозяев, в котором упоминаются заговор, яд, пытки и смерть. Могло ли быть, что загородный домик, куда я приехала погостить на выходные, был моей собственной головой и тревожили меня проявления зла, обитавшего в ней?
Неожиданно для всех как-то вечером в ванной комнате разразилась ссора между Элизабет и миссис Дин.
«Я первая иду».
«Нет, я».
Казалось бы, всего лишь спор о том, кому первым принимать ванну. Что такого необычного или ужасного тут может быть? В седьмом отделении почти никто не ссорился; пациентку, которая отказывалась «сотрудничать», моментально переводили в некое «другое отделение». Возможно, перебранка утихла бы сама собой или разрешилась мирным образом, если бы главная медсестра Боро, совершая вечерний обход, не услышала ругань, не заглянула в помещение, не потребовала шокировано ответить на вопрос: «Что тут такое происходит?» – и не смотрела бы свирепо на полураздетую миссис Дин, женщину средних лет, которая не желала признавать свой возраст, не могла смириться с трансформациями своего тела, нервничала и расстраивалась из-за своей внешности и лишнего веса и всеми силами старалась сорвать ярлык, который на нее навесили ее годы. Взгляд главной медсестры Боро привел ее в ярость. Она стала обзываться и бросаться бранными словами.
«Ты, чертова жируха, бычара-переросток, не смей пялиться на меня».
Лицо и шея главной медсестры покраснели: для нее вопрос внешности тоже был болезненным.
«Выйдите вон, – скомандовала она. – Как вам не стыдно. Приведите себя в порядок. Для такого поведения нет никаких оправданий».
Миссис Дин отказалась покинуть ванную комнату. Элизабет стояла рядом, покорная, само воплощение сотрудничества.
«Понятно», – отчеканила главная медсестра, кивком головы подзывая на помощь и подходя к двери в ванной комнате, которую всегда держали запертой и которую никогда до этого при мне не открывали; дверь отперли, и вместе с тремя другими медсестрами главная медсестра Боро силой вывела через нее упирающуюся миссис Дин.
В нашем отделении мы больше ее не видели.
Я все размышляла об этом таинственном исчезновении. Куда она делась? В «другое отделение»?
Как-то позже, в знак признания того, что мне становилось лучше и скоро меня отпустят домой, медсестра попросила меня пойти вместе с ней на «большую кухню», чтобы вернуть бадью для овсяной каши (овсянка была единственным блюдом, которое готовила не Хиллси). До этого момента я никогда не видела ту часть больницы, что лежала за пределами сада, принадлежавшего седьмому отделению, я смотрела кругом, задавала вопросы и удивлялась, что, оказывается, больница занимала такую огромную территорию. Если посмотреть снаружи, со стороны приветливого главного входа, лечебница была похожа на укрытый плющом загородный дом; внутри же по всей территории было раскидано несколько ветхих строений, большая кухня, приземистая и грязная, стояла напротив здания, которое было в таком плачевном состоянии, что мне стало интересно, что за отделение там находится.
«Что там?»
«Там? Батистовый Дом».
Мы переступили порог тусклой, плохо вентилируемой кухни и сразу же были сбиты с ног запахом кипящих кабачков. Прошли мимо чана с булькающим жирным мясом и чана с месивом из манной крупы, за которыми следил мужчина в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, откуда выглядывала его волосатая грудь. Внезапно он засунул свою мохнатую руку в бак с кашей и стал энергично ее перемешивать. Пораженная и обескураженная этим зрелищем, я очень захотела вернуться в свое отделение, чтобы удостовериться, что нашу еду готовит Хиллси, да и в целом, чтобы проверить, что оно все еще существовало. На обратном пути, когда мы проходили мимо группы старых зданий, которые казались почти нереальными, настолько разительно они отличались от нашей собственной обители, мы повстречали двух санитаров, которые через заднюю дверь отделения номер четыреста пятьдесят один выносили чье-то опухшее тело, накрытое простынями.
«Миссис Дин, – опрометчиво прокомментировала медсестра. – Умерла».
Как рада я была вернуться к нам; я пыталась убедить себя, что сад, лужайка, плакучая ива, широко распахнутые окна и двери не были сном, что Трикрофт, хоть некоторые из его зданий и выглядели архаично, был больницей, которая проповедовала новый подход к лечению психиатрических заболеваний. Но тревога не утихала: я обнаружила секретные двери, прознала про страшные планы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































