Текст книги "Лица в воде"
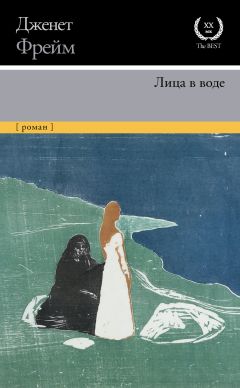
Автор книги: Дженет Фрейм
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
10
Мне по-прежнему делали ЭШТ; с каждым разом я все сильнее страшилась звука тележки и приглушенных криков, сопровождавших ее приближение, – от палаты к палате, все ближе и ближе. Настал момент, когда яркость интерьеров седьмого отделения вдруг превратилась в утомительную пестроту хаотично расползшейся растительности, существовавшей, казалось, чтобы скрывать перемещения смертоносных пресмыкающихся и ядовитых насекомых. Я услышала, что медсестры разговаривают резко, с угрозой. А клетчатые скатерти теперь заставляли меня вздрагивать: казалось, они были измазаны в крови и бедах. И никто не имел понятия о нарастающей угрозе. Рядом с загадочной дверью в ванной комнате я вдруг увидела другие, и у меня не было средств, чтобы узнать, куда они вели, хотя как-то раз одна из них была открыта и из помещения за ней потянуло кислым запахом мокрого постельного белья, который смешался с тяжелой сладостью аромата калл на каминной полке и амариллисов – похоронных цветов, которые приносят, чтобы заглушить запах смерти.
Был конец лета, грозы грохотали так, что, казалось, могли переломать нам кости, по небу проворно расползались изломы молний. Купальни для птиц были переполнены теплой, паркой дождевой водой, намокшие изящные листочки плакучей ивы поникли, вспыхивали пламенем по краям и на кончиках, похожие на скрутившиеся зеленые бумажки, поднесенные на мгновенье к огню. Мы проводили время внутри – в комнате, казавшейся дружелюбной. Медлительно, подергивая конечностями, переводя злобный взгляд с одного предмета на другой, насекомые ползали по ковру; рептилии скользили сквозь жижу внутри стен, выстреливая языками и снова пряча их в пасть.
Теперь, когда тетушка Роуз приходила навестить меня, я была еще более молчалива и с еще большим рвением угощалась мятными помадками и пирожными. Наша деревянная скамейка под плакучей ивой изветшала и вся была в пятнах крови; по ночам на лужайке рыли могилы; из дверей отделения номер четыреста пятьдесят один выбегали крохотные ящерицы с коричневыми сморщенными мордочками, пытались схватить зубами солнце и с клокотанием в горле убегали.
«Здесь так мирно», – говорила тетушка Роуз.
Пошел снег.
«Уже скоро, – повторял доктор, – вы будете себя прекрасно чувствовать».
Он тоже, казалось, не замечал таинственных процессий с факелами, кругов из крепа и ситца, белых полотнищ, шестеренок, что завертелись и грозили трону мятежом, замшелых лиц, отпечатков пальцев – отпечатков стремительно включаемого света – и скрытой камеры.
Мой страх усиливался. Я начала бродить по ночам и испытывать приступы паники за обедом при виде кровавой клетчатой ткани и костяного фарфора – почему его делали из костей? Я пыталась понять, что происходит. Когда открывали ту самую дверь в то самое, другое, помещение, я пыталась представить взаимное расположение седьмого отделения и шестого отделения, где в переполненных палатах на приставленных друг к другу кроватях лежали престарелые пациентки с вечно открытыми ртами, впавшими щеками и беспокойно перебирающими простыни руками. Я тщилась сравнить смрад безнадежности, просачивавшийся оттуда, осквернявший нашу мебель, ковры и подушки, и запах, который я приносила из отделения номер четыреста пятьдесят один – замка, где вместо ладана воскуряли одиночество и отчаяние.
Как-то утром я увидела, что медсестра собрала мои вещи и проверяла их по списку.
«Вас переводят в другое отделение», – сказала она.
Мое сердце замерло. Я чувствовала, как кровь отхлынула от лица.
«В какое?»
«В соседнее. Тут недалеко. Четыреста пятьдесят первое».
11
Я стояла в дверях общего зала отделения номер четыреста пятьдесят один. В комнате никого не было, не считая карликовой женщины, которая шила, свесив ноги с потрепанного кожаного дивана, который вместе с другой ветхой мебелью напомнил мне старомодную приемную мистера Питерса, нашего семейного дантиста; на стенах не хватало лишь знакомой выцветшей фотографии игроков клуба «Одиннадцать первых», сидевших скрестив ноги и руки; в переднем ряду, по центру, расположился, зажав между коленями футбольный мяч, юный мистер Питерс с чисто выбритым лицом и воинственным взором. Здесь на стенах, однако, не было ни картин, ни фотографий. Постепенно характерный запах чего-то вкипевшего в пол, стены и предметы мебели стал сочиться обратно и наполнять комнату удушающим зловонием, которое – будь оно дымом – заставило бы людей кричать: «Пожар!» – и спасаться бегством от опасности задохнуться. Но что нужно кричать, когда чувствуешь не дым или огонь, а смертоносный запах?
Женщина увлеченно занималась своим шитьем, и по тому, каким замысловатым был узор и с каким вниманием она его выводила, можно было понять, что она прожила в лечебнице уже много лет. Я видела такое раньше, в Клифхейвене, когда, вдев свою жизнь в иглу, пациентки вышивали скатерти, салфетки и чехлы на чайник, не питая никаких надежд увидеть их в собственном доме, на собственной мебели. Они работали увлеченно, самозабвенно, как настоящие художники; было видно, с какой любовью они относились к чему-то, что будет продано, отдано, испачкано до неузнаваемости; аккуратно сворачивали свою работу и убирали в маленькую сумку, в которой хранили свои сокровища. Рядом с крохотной пациенткой как раз была такая сумка. В ней хранились журнал, схемы узоров, нитки, иглы, возможно, что-то съедобное на дне (вроде смятой шоколадки) и что-то ценное лично для нее, что остальным могло бы показаться пустяком, но она была готова яростно защищать, если бы это попросили отдать или выбросить. Я одиноко стояла у двери, рядом с пианино с поднятой крышкой, обнаженные нечищеные шатающиеся зубы-клавиши которого вклинивались в десны из затхлого зеленого сукна, только усиливая образ, создаваемый мебелью, – пошлости зубной гнили, приемной дантиста, общей безрадостности. Я ждала, пока не появится кто-то еще из местных пациенток, и вдруг осознала, что во время прошлых моих визитов сюда мне очень редко встречались его обитательницы. Неужели они все попрятались в свои норы? Неужели они живут в стенах и выползают только на время приема пищи? Или они были навечно замурованы и запах, исходивший от дерева, был запахом их заточения, который сочился наружу сквозь их кожу, и разум, и все тело?
Дверь общего зала не была заперта, и все же я боялась пошевелиться. Я стояла, дрожа, в углу и пыталась понять, почему меня перевели в отделение номер четыреста пятьдесят один. Я не смела выйти в сад, чтобы стать объектом любопытных взглядов и отвечать на вопросы привилегированных обитателей седьмого отделения, но не могла и заставить себя пойти в свою палату, которая была в конце коридора, где пациентам делали электрошок. Весь день я простояла в лишенном солнца общем зале. Иногда, закончив розу или доведя до совершенства ветвь с листьями, карлица радостно прищелкивала языком, отодвигала вышивку на расстояние вытянутой руки и оценивала общую картину. Осознав, что я стою без дела, она выронила работу из рук и как будто была к ней безразлична или убеждала себя в этом; угрюмо уставилась в пустоту, выражение ее лица, веснушчатого и постаревшего (как обычно бывает у маленьких людей, чьи черты, кажется, несут двойное бремя возрастных изменений, равномерно распределяемое по всему телу при обычном росте), было хмурым.
Вдруг откуда-то из недр отделения раздались глухие звуки гонга, снова и снова, – и сразу все его обитательницы ожили, как будто звук потревожил гнездо насекомых или нелетающих птиц, и я увидела женщин, низких, высоких, толстых, худых, уродливых, азиаток, карликового роста, которые появлялись из своих уголков и укромных мест, словно из ниоткуда, держа в руках свои сумки с сокровищами, торопясь и суетясь, повинуясь гонгу. Я пошла за ними и оказалась в столовой. Следуя их примеру, я встала в очередь, чтобы получить свою порцию еды. За кухней я могла различить коридор туберкулезного крыла с его унылыми голыми полами, и меня охватило чувство безысходности. Медсестры выкрикивали приказы. Пациенток отчитывали за проступки. Заполучив тарелку с едой, каждая из них торопилась за свой стол, торжествуя, оттого что знала, куда идти и что делать.
Я разрыдалась и выбежала из зала. Меня силой перехватила одна из сестер, усадила за один из столов и поставила передо мной мой обед. Безысходность была вокруг меня и внутри меня, она схватила меня за горло, не давая проглатывать еду. Я сидела и слушала возбужденную, раздраженную болтовню обитателей отделения номер четыреста пятьдесят один. Звучали слова «прачечная» и «швейная мастерская», пересказывались связанные с ними сплетни – похоже, пациентки отделения номер четыреста пятьдесят один были рабочей силой больницы; предмет их разговоров выдавал в них людей, которые год за годом вели один и тот же образ жизни и не ждали – не хотели – никаких перемен. Никто не рассказывал о своей семье, своем нервном срыве или его симптомах, как это бывало в седьмом отделении; очевидно, что местные обитательницы либо не осознавали своей эксцентричности, либо и вовсе принимали свое поведение как что-то само собой разумеющееся и не стоящее обсуждения.
Все делалось в спешке, безотлагательно; чай был выпит без промедления, ножи пересчитаны, и было какое-то ощущение, что самые важные события еще только впереди. Столовая быстро обезлюдела. Я заметила, что одна из пациенток, забывшая свою сумку, бегом, в панике вернулась за ней, не успокоившись, пока не отыскала ее. Из сумки выкатилось надкусанное яблоко, она быстро подняла его и засунула обратно. Затем она поднялась по лестнице туда, где располагались большие комнаты, в которых спало большинство пациенток; возможно, она будет наводить порядок у себя в шкафчике или, как делают многие из нас, постоит пару мгновений у своей кровати, как будто бы закрепляя свое право на нее. Я попробовала пойти посмотреть на собственную комнату, провести рукой по кровати, пройтись из угла в угол, но мне приказали: «Марш в общий зал. Никому не разрешено выходить в коридор до отбоя».
Я вернулась в общий зал, который теперь начали заполнять женщины, как будто торопились попасть на интересное собрание. Пациентки шили, вязали, ссорились, беседовали, периодически поднимая глаза и посматривая с нетерпением на дверь. Радио на высокой зарешеченной полке, настроенное на местную коммерческую станцию, передавало одну за другой песенные рекламы зубной пасты, бритвы, мыла; медсестра открыла клетку и выключила прибор – тут же начались жалобы и крики недовольства.
Вдруг одна из пациенток упала в припадке на пол.
«Это опять Марджори», – замечал кто-то. Или Ненси. Или Памела. Ее сумку сторожили, пока она не приходила в себя и не тянулась за ней, чтобы проверить, не рылся ли кто внутри, не украл ли чего.
На протяжении всего вечера сохранялось чувство, что что-то должно произойти; чем бы ни было то, чего ожидали обитательницы отделения, их вполне устраивало ощущение радостного предчувствия, подбадриваемое изредка всплесками особого волнения, когда казалось, что долгожданное событие вот-вот произойдет. Наступило время сна. Суета, суматоха и предвкушение перенеслись в коридор и вверх по лестнице; казалось, невозможно было сдержать оживленную болтовню, когда знал, что вот-вот, уже совсем скоро случится то, что должно случиться. И даже если не сегодня, то, вполне возможно, завтра? Или послезавтра? Меня провели по коридору и заперли в моей палате, мои вещи, завязанные в узел при помощи рукавов кофты, были оставлены за дверью; сон пришел сразу же, без стука.
Дни проходили. В столовой я сидела за своим столом, не притрагиваясь к еде: запах, царивший в отделении, и общая чужеродность происходящего не давали мне покоя, не отпускали меня; еда, воздух и люди – все и всё было пропитано зловонием. Люди же… Теперь я знала, что это были автоматоны, параметр «возбуждение» которых был установлен на непонятном для них самих уровне, при этом они боялись, что нечто или некто, управляющие ими, устанут давать им задание и отпустят свободно бегать, как сломанные игрушки, и тогда им самим придется искать способ справляться с сопровождавшей их безысходностью. Через месяц такой диеты я похудела настолько сильно, что меня уложили в постель, на неопределенный срок; я была в апатии, меня кормили рисом и яичницей-болтуньей.
Они считали, что я была больна. Любопытно, что бы они ответили, поведай я им, что болезнь могут вызывать запахи, что именно смрад отделения номер четыреста пятьдесят один вытягивал из меня все жизненные силы и само желание жить? И спастись от него было нельзя: он был повсюду. Невозможно представить, что люди могли жить так, как жили эти женщины, в тесноте и одиночестве, никем не навещаемые, иногда ездившие в поездки на автобусе или на пикник (в качестве награды за работу); что многие годы кому-то был знаком только такой образ жизни и он не изменится, пока они не умрут. Невозможно представить, чтобы двери и окна отделения номер четыреста пятьдесят один также выходили в сад, вместе с его купальней для птиц, плакучей ивой и осыпающимися розами, с его кроткими обитателями седьмого отделения, которые могли непринужденно проводить время в своей светлой «современной» гостиной с ее стульями в ярких чехлах, щепетильно приготовленной вкусной едой, со сливками и вторыми порциями.
Не было ничего удивительного в том, что одна из пациенток отделения номер четыреста пятьдесят один, миссис Джопсон, по-видимому, выпав из общего синхронного возбуждения, однажды покончила с собой, спрыгнув с пожарной лестницы.
Как-то утром, без предупреждения, мне сделали электрошок. Когда я очнулась, сделали еще раз. Когда я увидела, что аппарат везут во второй раз, я потеряла всякое самообладание и в панике закричала, а когда снова пришла в себя, увидела, что медсестра аккуратно складывает мою одежду на стуле у кровати.
«Вас переводят в другое отделение», – сказала она.
У меня не осталось ни сил, ни любопытства, тем не менее я спросила: «В какое?»
«В Батистовый Дом».
12
Когда меня привели к дверям Батистового Дома, то предупредили принимающую медсестру: «Осторожней. Она кидается на людей».
Я никогда не проявляла агрессию, никогда ни на кого не «кидалась». Была лишь напугана, растеряна и подавлена, и аппетит у меня пропал из-за смрада, которым пропахло то отделение. Словно кусок сырого мяса выставили на солнце и на милость мух. Ведь так и было: этот запах был как солнце в том смысле, что вся жизнь отделения номер четыреста пятьдесят один вращалась вокруг него и подпитывалась от него безысходностью, и был как мухи, которые присосались к воздуху, к нашему дыханию, нашей одежде и невидимому облачению нашего сознания. Сейчас же я была в Батистовом Доме, отделении для пациентов, не поддающихся лечению, в помещении, полном бушующих, кричащих, исступленных женщин, целой сотни таких женщин, многие из которых сидели в смирительных рубашках, коротких и длинных, с фиксирующими ремнями, проходящими через промежность, с перекрещенными рукавами, завязанными грубым шнуром на спине, не дававшими свободы рукам. На одном из концов вытянутой комнаты стоял тяжелый стол, расщепленный и склеенный грязью, за которым находились шестнадцать человек (или около того), охраняемых одной медсестрой; это был «специальный» стол, и пациенткам, которые за ним сидели, запрещалось вставать со своего места весь день, пока их не отводили по своим палатам. Меня посадили к ним, рядом с Фионой, девочкой из борстальской воспитательной колонии, которой сделали операцию на мозге и теперь заставляли носить короткую смирительную рубашку из тика.
«Ну и фто ты думаеф? – Она не выговаривала звук “ш”. – Фто думаеф? Если уф сюда попала, всё, обратной дороги нет».
Сидя за специальным столом, я наблюдала, словно зритель в концертном зале, за бушующей человеческой массой: каждая женщина исполняла собственную яростную партию в оркестре безумия; это была какая-то новая музыка, где инструментами выступали проклятия и крики, звучавшие на фоне безмолвия тихонь, свернувшихся клубочком, неподвижных и безымянных; движения пациенток складывались в балет, постановщиком которого было Помешательство; казалось, что крутили фильм, снятый на старую пленку, героями которого были атомы в тюремной робе, разбредающиеся или бегающие кругами в поисках своего потерянного ядра.
Две пациентки яростно набросились друг на друга. Я с содроганием обнаружила и в себе то чувство возбуждения, которое в предвкушении мордобоя охватило всех остальных в зале – и даже трех медсестер. И с ужасом поняла, что временами именно они провоцировали женщин на проявление жестокости. Этот трюк они проделывали с Хелен, которая шагала по комнате скованно, как оловянный солдатик, вытянув руки вперед в попытке обнять любого, кто попадется на ее пути, и шептала: «Любви, любви» – с такой интонацией, которая в голливудском фильме воспринималась бы банальной, но здесь казалась искренней и вызывала сострадание.
«Мне любви, Хелен», – подзывала медсестра, и Хелен улыбалась от предвкушения радости, осторожно шла навстречу и получала разворот и презрительный комментарий как раз в тот момент, когда ее руки готовы были сомкнуться вокруг вожделенного объекта из плоти и крови. Тогда ее любовь сменялась ненавистью: в ярости она кидалась на обидчика, а медсестра свистком подзывала себе на помощь других сестер; Хелен упаковывали в смирительную рубашку, и, чтобы заявить о своем негодовании и разочаровании, весь оставшийся день она в исступлении металась по комнате, переступая босыми ногами, с которых сняли обувь.
День за днем я наблюдала со своего места за столом, как сестры подстрекали Хелен.
Постепенно я стала различать в этой бурлящей массе отдельных персонажей: тут была, например, Норвежская Королева, очаровательная женщина средних лет с невозмутимым выражением лица и красивыми волосами, отливавшими бронзой, заплетенными в косы и уложенными вокруг головы наподобие короны. Когда медсестры, явно получавшие от этого удовольствие, спрашивали, кто был ее обожатель, каково это было – иметь замок, прислугу, королевство, на лице ее появлялась улыбка, на щеках – ямочки, и, имитируя «норвежский» акцент, она давала волю фантазии. Еще тут была Милти, другая любимица, женщина атлетичного сложения, высокого роста, с приятными манерами и талантом к обнаружению окурков, которые она превращала в сигареты, вполне пригодные для курения. Дни напролет она вальсировала по комнате в нежных объятиях кого-то призрака, которого не так и трудно вызвать, если ты болен. А еще, преисполненная чувства собственного достоинства, даруя ныне всегда желанные благословения, обращая пророческий взор на окружавшие ее убожество и смуту, фланировала по комнате седовласая женщина-Христос, неспокойная, в смирительной рубашке. Она молилась. И плакала. И набрасывалась на всякого, кто пытался передать Милти окурок, который она отобрала во время своего богослужения.
Но помимо тех, чей бред выражался экстравагантным образом, и тех, которые выделялись на общем фоне, потому что совершили убийство и перед ними испытывали трепет даже медсестры (лечебница славилась тем, что была «самой безопасной» в стране… для убийц), была толпа тех, кого от остальных отличало только имя (да и оно было зачастую позабыто и вытеснено прозвищем); были раздражающие эгоцентричные эпилептики, которые ссорились со всеми вокруг и к которым никто не испытывал сострадания; были исполненные гордыней и недоверием дамы, которые держались отстраненно, замкнувшись в собственном величии, но, если бы пожелали стать заметными для медсестер, могли бы получать преференции: на сигарету больше, чем положено, или сладость за то, что были «такими послушными, такими заиньками». И были пациентки, которые давно отказались от членораздельной речи и теперь издавали звуки, которые больше соответствовали здешней среде обитания: рыкали зверем, скулили, иногда лаяли и выли, точно собаки при виде луны. Другие молчали, полностью погрузившись в себя, сидели весь день, свернувшись клубочком, не шевелясь, спрятавшись под длинными обеденными столами, которые после приема пищи отодвигались к стене.
Царившее в отделении четыреста пятьдесят один запустение меня угнетало; здесь же, в Батистовом Доме, я была в таком потрясении, что перестала понимать собственные эмоции; как будто бы с завязанными глазами, пыталась нащупать дорогу среди чувств, которые не узнавала, и никакие прошлые ориентиры, которые теперь изменили свою форму, не могли мне помочь и лишь приводили в замешательство.
Я не могла поверить, что Батистовый Дом реален. Я хотела, чтобы сорванные покровы человеческого достоинства были возвращены на место (наподобие того специального эффекта в кинематографе, когда пленку прокручивают назад), чтобы не видеть того, что должно быть укрыто.
За специальным столом я просидела несколько недель. У пациенток в смирительных рубашках (всего двадцать четыре женщины) был собственный стол; всех их кормили с ложки. Молчаливых тоже кормили, массируя горло, чтобы заставить глотать еду. Для остальных прием пищи превращался в аттракцион швыряния едой и почти горячечного возбуждения, особенно когда сосиски или сардельки заканчивались до того, как был накрыт последний стол, потому что из большой кухни в наше отделение никогда не поступало достаточно еды, и бунтующую голодную толпу приходилось успокаивать фразами вроде «Завтра вам первым подадим» или «В следующий раз получите двойную порцию».
У специального стола была привилегия первоочередного обслуживания, и поэтому мы никогда не страдали, если при расчете необходимого количества порций допускались ошибки или если большая кухня (именно ее назначали виновницей) присылала недостаточно подносов.
Иногда, получив свою порцию спрессовавшегося яблочного пирога, мы начинали сумасбродно и расточительно разбрасываться едой, швыряясь ею в стену позади нас, отчего на ней оставались прилипшие куски и пятна. Этот отчаянный отказ от того, что представляло для нас ценность, был заразителен, как самопожертвование в военное время. Я тоже пристрастилась к забаве; мы с Фионой и Шейлой, еще одной бывшей воспитанницей борстальской колонии, были меткими стрелками, отламывали драгоценные кусочки от тощего ломтика хлеба и швыряли их через стол, в медсестер и других пациенток. Мы бы и во врача кинули чем-нибудь, но в Батистовый Дом он не приходил. Мы раздавали щелчки, мы колотили посудой по столу, мы пели непристойные песни.
Привел в кино красотку, каких и не видал,
И каждый раз, как свет гасили…
И почти каждое мгновение каждого дня я помнила, что мне сказала когда-то Фиона: «Фто думаеф? Если уф попала в Батистовый Дом, всё, обратной дороги нет».
Спали мы в двух палатах на нижнем этаже, обе запирались на ключ, обе были заставлены кроватями, тесно примыкавшими друг к другу так, что почти не оставалось пространства для прохода и переодевания. Личных шкафчиков или других предметов мебели, куда можно было бы убрать пожитки, если бы нам разрешили их иметь, не было. Тем, кому они могли понадобиться, предлагали одиночные палаты в крыле на нижнем этаже и наверху, где также располагались две спальные комнаты для надежных пациенток, которых не было нужды запирать на замок. Сначала меня определили в одну из палат, закрываемых на ключ; мои ноги упирались в изголовье кровати Барбары. Ночью Барбара не спала. Она сидела на кровати, потирая руки и похихикивая.
Очень скоро из-за моей привычки бродить по ночам меня перевели в одну из комнат в коридоре на нижнем этаже. По утрам всех пациентов из одиночных и общих палат собирали в крохотной умывальной комнате, чтобы раздать одежду. Надежды на то, что получится помыться, было мало; входившего сразу сбивала с ног застаревшая вонь немытых тел. Голые, в тесноте, словно скот на распродаже, мы ждали беспорядочной раздачи наших вещей, причем одного или двух предметов обычно не хватало. Как-то раз я обнаружила, что мне не выдали штаны. Я подняла шум. Мне начинало нравиться поднимать шум, протестовать и пытаться отстаивать свои права и права других пациентов, за которых я чувствовала себя ответственной. Я громко пожаловалась: «Мне не дали штаны».
«Штаны? – воскликнула старшая медсестра Вулф, острая на язык, миниатюрная, спортивного сложения, с непреклонным как скала лицом, которое она ежедневно покрывала плотным слоем косметики, служившей той же цели, что и лишайник на камнях. – Да зачем они тебе? Тут мужиков нет».
Так и было. Единственные представители мужского пола, с кем мы сталкивались, были повара с небритыми лицами, которые подносили ко входу почерневшие подносы с сосисками и тушеным мясом.
Так я и проходила весь день – без штанов; иногда не приносили чулки; каждый месяц я боялась того момента, когда мне придется попросить выдать гигиенические прокладки, потому что пару раз получала отказ, при этом перегруженный обязанностями работник заявил: «Задницу свою попроси». В конце концов мне все стало безразлично; если я хотела в туалет (а хотелось мне часто) и просила разрешения выйти из-за стола, а мне отказывали, я соскальзывала со своего места под столешницу и мочилась прямо на пол, как животное.
Наступила зима, наше здание не отапливалось, и было холодно; иногда дождь шел днями напролет, и нам было слышно, как в лужах шумит и булькает вода, но нам ничего не было видно, потому что нижнюю часть окон заколотили, как в доме, где поселилась чума. Я вспоминала о том, какой была жизнь в седьмом отделении, о его ярких красках и доброте персонала, о милых меланхоличных пациентках, рассказывавших о своих болях и печалях, бессонницах и сентиментальных переживаниях человека, не утратившего разум, рассказывавших о доме, родственниках и планах на будущее; все казалось таким чистым, надежным и безопасным. Я вспоминала плакучую иву и арфу, теперь уничтоженную морозом и сыростью, и старшую медсестру Крид, обходившую, прихрамывая, палаты со стенами, выкрашенными в пастельные тона, расстилавшую яркие скатерти, разглаживавшую ладонями покрывала веселой расцветки. Дни проходили, складывались в стопки, как слои изоляционного материала, заглушали наше звучание даже для нас самих, так что будущее, если когда-нибудь и наступило бы, не смогло бы нас услышать; новые дни хоронили нас; мы были как люди, погребенные под завалами, которых спасатели, блуждающие в темноте, подсвечивающие свой путь фонариками и зовущие нас, не могут услышать и в конце концов сдаются, потому что никто не отзывается; порой, место крушения даже раскапывают и находят уже трупы. Так что время, как снег, сыпалось на нас, заглушая наши крики и наши жизни, и некому было его развеять.
Интересно, помогло бы, если бы мы стали разговаривать загадками, скрестив руки на груди?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































