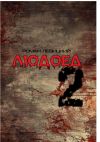Читать книгу "Сын цирка"
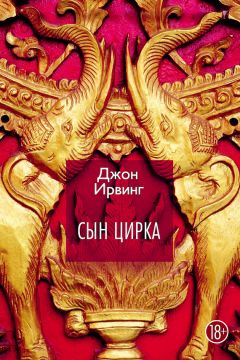
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Я уверен, что вы видели их, – сказал Фаррух режиссеру.
– Слушай, парень, – сказал Гордон Хэтэвей, – когда ты делаешь кино, у тебя нет времени смотреть на какие-то гребаные деревья.
Должно быть, Мехер было больно следить за выражением лица мужа, который нашел это замечание весьма мудрым. Между тем Гордон Хэтэвей дал понять, что разговор окончен, обратив лицо к красивой несовершеннолетней девушке за соседним столом. Фарруху же не осталось ничего иного, кроме как лицезреть высокомерный профиль режиссера и, главное, тревожное мерцание темно-фиолетовых тонов внутри уха Хэтэвея. На самом же деле ухо представляло собой целую радугу цветов – от бледно-красного до пурпурного, оно было такое же неподобающе цветастое, как морда мандрила.
Позже, после того как разноцветный режиссер вернулся в «Тадж» – возможно, чтобы перед сном намыть себе в ванне еды, – Фарруху пришлось наблюдать за своим отцом, полным подобострастия перед пьяным Дэнни Миллсом.
– Должно быть, трудно переделывать сценарий в этих условиях? – рискнул спросить Лоуджи.
– Вы имеете в виду, в позднее время? За едой? После того, как я выпил? – спросил Дэнни.
– Я имею в виду спонтанность, – сказал Лоуджи. – Казалось бы, благоразумней снимать историю, которую вы уже написали.
– Разумеется, – согласился бедный Дэнни. – Но они никогда так не снимают.
– Полагаю, они любят спонтанность, – сказал Лоуджи.
– Они считают, что написанное не так уж важно, – сказал Дэнни Миллс.
– Неужели? – воскликнул Лоуджи.
– Да, они никогда не снимают по написанному, – сказал ему Дэнни.
Бедный Лоуджи всегда придавал важность фигуре сценариста фильма. Даже Фаррух посмотрел с сочувствием на Дэнни Миллса, – тот был человеком нежным и сентиментальным, с мягкими манерами и лицом, которое привлекало женщин, пока они не узнавали Дэнни поближе. Тогда они либо отвергали его за его главную слабость, либо эксплуатировали. Алкоголь, безусловно, был для него проблемой, но его питие было скорее последствием его неудач, нежели их причиной. Он всегда был без денег и потому редко заканчивал то, что писал, и продавал написанное на любых условиях; как правило, он продавал только замысел произведения или какой-нибудь уже написанный фрагмент намеченного сюжета, в результате он потерял представление о том, что же есть произведение в целом.
Он так и не закончил роман, хотя несколько раз начинал; когда ему нужны были деньги, он откладывал роман в сторону и писал сценарий, продавая его, не завершив. Все всегда шло по одной и той же схеме. Когда же он наконец возвращался к роману, то, глянув на него со стороны, уже не мог не видеть, насколько тот плох.
Но если Фаррух не любил Гордона Хэтэвея, то, скорее, симпатизировал Дэнни; Фаррух также видел, что Дэнни любит Лоуджи. Дэнни к тому же сделал попытку избавить отца Фарруха от дальнейшей неловкости, которую тот испытывал после слов сценариста.
– Да, так оно и есть, – сказал он Лоуджи. Он поболтал льдинками на дне стакана; в пекле перед муссоном лед таял быстро, но не успевал растаять до того, как Дэнни выпивал джин. – Вас поимеют, если вы продаете что-то, прежде чем закончите, – сказал Дэнни Миллс старшему Дарувалле. – Никогда даже не показывайте никому, что вы пишете, пока не закончите. Просто делайте свою работу. Когда вы уверены, что написали хорошо, покажите это кому-нибудь, чьи фильмы вам нравятся.
– Вы имеете в виду – режиссеру? – спросил Лоуджи, продолжая все записывать.
– Разумеется, режиссеру, – сказал Дэнни Миллс. – Я не имею в виду студию.
– Значит, вы показываете сценарий тому, кто вам нравится, режиссеру, а затем вам платят? – спросил старший Дарувалла.
– Нет, – сказал Дэнни Миллс. – Вы не берете никаких денег, пока не заключена вся сделка. Стоит вам только взять деньги, и вас поимеют.
– Но когда вы берете деньги? – спросил Лоуджи.
– Когда они подпишут контракт с актерами, которых вы хотите, когда они подпишут контракт с режиссером и дадут ему окончательный вариант картины. Когда все так полюбят сценарий, что вы уверены – они не посмеют изменить ни слова, а если вы сомневаетесь в этом, требуйте окончательного одобрения сценария. Только затем будьте готовы отвалить.
– Вы так и делаете? – спросил Лоуджи.
– Я – нет, – сказал Дэнни. – Я беру деньги вперед, столько, сколько дадут. А потом они меня имеют.
– Но кто делает так, как вы предлагаете? – спросил Лоуджи; он был так смущен, что перестал записывать.
– Таких не знаю, – сказал Дэнни Миллс. – А всех, кого я знаю, – их имеют.
– Значит, вы не ходили к Гордону Хэтэвею – не выбирали его? – спросил Лоуджи.
– Только студия выбирает Гордона, – сказал Дэнни.
Лицо у него, как у некоторых алкоголиков, было необычайно гладким, что сбивало с толку; будто детская внешность Дэнни была прямым результатом консервации, будто рост его бороды был таким же неторопливым, как его речь. Дэнни выглядел так, словно бриться ему нужно было лишь один раз в неделю, хотя ему было почти тридцать пять лет.
– Я расскажу вам о Гордоне, – сказал Дэнни. – Это была идея Гордона – расширить роль гуру – заклинателя змей, его идея – сделать ашрам со змеями воплощением зла. Я расскажу вам о Гордоне, – продолжал Дэнни Миллс, поскольку ни Лоуджи, ни Фаррух его не прерывали. – Гордон никогда не встречался с гуру, со змеями или без змей. Гордон никогда не видел ашрам, даже в Калифорнии.
– Можно легко устроить встречу с гуру, – сказал Лоуджи. – Можно легко посетить ашрам.
– Уверен, вы знаете, как Гордон отозвался бы об этой идее, – сказал пьяный сценарист Дэнни Миллс, посмотрев на Фарруха.
Фаррух попытался максимально точно передразнить Гордона Хэтэвея.
– Я делаю гребаный фильм, – сказал Фаррух. – Разве у меня есть время, чтобы встретиться с гребаным гуру или пойти в гребаный ашрам, когда я в середине съемок гребаного фильма?
– Умный мальчик, – сказал Дэнни Миллс. И добавил доверительно в сторону старого Лоуджи: – Ваш сын разбирается в кинобизнесе.
Хотя Дэнни Миллс казался конченым человеком, трудно было не любить его, подумал Фаррух. Потом посмотрел на свое пиво и увидел в нем два ярких фиолетовых комочка из ушей Гордона Хэтэвея. Как они оказались в моем пиве? – спросил себя Фаррух. Ему пришлось использовать десертную ложку, чтобы извлечь их, роняющих капли, из своего бокала с пивом. Он положил мокрые ватные серьги Гордона Хэтэвея на чайное блюдце, размышляя над тем, как долго они пребывали в его пиве и сколько пива он выпил за то время, пока ушные комочки Гордона Хэтэвея впитывали в себя пиво на дне стакана. Между тем Дэнни Миллс трясся от смеха так, что был не в силах произнести ни слова. Лоуджи понимал, о чем думает его критически настроенный сын.
– Не возмущайся, Фаррух! – сказал ему отец. – Конечно, это была чистая случайность.
От этих слов Дэнни Миллс захохотал еще громче, отчего мистер Сетна подошел к столу и с неодобрением уставился на чайное блюдце, где лежали пропитанные пивом, все еще фиолетовые ватные комочки. Оставшееся в бокале пиво Фарруха тоже было фиолетовым. Какое счастье, подумал мистер Сетна, что миссис Дарувалла уже уехала домой.
Фаррух помог отцу устроить Дэнни Миллса на заднем сиденье автомобиля. Прежде чем они окажутся на дороге, ведущей от клуба «Дакворт», или, по крайней мере, к тому времени, как они покинут район Махалакшми, Дэнни будет уже крепко спать. В это время сценарист всегда спал, если не вернулся домой раньше; когда они выгрузили его в «Тадже», отец Фарруха дал одному из высоких швейцаров-сикхов несколько монет, чтобы тот транспортировал Дэнни в номер на багажной тележке.
В эту ночь – Фаррух рядом с креслом водителя, его отец за рулем, а Дэнни Миллс спит на заднем сиденье – уже в районе Тардео старый Дарувалла сказал:
– С твоей стороны было бы разумней сменить выражение лица и не показывать столь очевидную неприязнь к этим людям. Я знаю, ты думаешь, что ты такой тонкий и глубокий, а они такие паразиты, не сто́ящие даже твоего презрения, но я тебе скажу, что это очень глупо – так откровенно выражать свои чувства на лице.
Фаррух запомнит это, потому что упрек вонзится ему в самое сердце, – тогда же он молча сидел, кипя от гнева на отца, который был отнюдь не так глуп, как казалось его юному сыну. Фаррух запомнит это также и потому, что они будут проезжать именно то место в Тардео, где спустя двадцать лет машина с его отцом взлетит на воздух.
– Ты должен слушать этих людей, Фаррух, – говорил ему отец. – Пусть у них не такие моральные устои, как у тебя, это не значит, что у них нечему научиться.
Фаррух запомнит также и его иронию. Хотя это была идея его отца, Фаррух действительно станет тем, кто чему-то научится у этих жалких иностранцев; он будет тем, кто воспримет совет Дэнни.
Но научился ли он чему-нибудь полезному?
Теперь Фарруху было не девятнадцать, а пятьдесят девять. Сумерки уже давно опустились, а доктор все еще сидел в Дамском саду, откинувшись на спинку стула. Как правило, выражение лица младшего доктора Даруваллы ассоциировалось с неудачей; хотя он сохранял абсолютный контроль над киносценариями о своем Инспекторе Дхаре – Фарруху всегда предоставляли «окончательно утвержденный сценарий», – какое это имело значение? Все, что он написал, было дерьмом. Ирония заключалась в том, что он весьма успешно писал для фильмов, которые были не лучше, чем «Однажды мы поедем в Индию, дорогая».
Интересно, мечтали ли другие сценаристы, писавшие такое же дерьмо, как он, о «качественной» ленте? – задавался вопросом доктор Дарувалла. В случае Фарруха его «качественный» сценарий начинался с того, что дальше первой сцены он не мог продвинуться ни на шаг.
На первых кадрах возникал вокзал Виктория, железнодорожная станция в стиле готики, со своими витражами, фризами, летящими контрфорсами, с изысканным куполом и бдительными горгульями, – по мнению Фарруха, это было сердце Бомбея. Внутри станции стоял гул от полумиллиона жителей пригородов и постоянно прибывающих мигрантов; эти последние везли с собой все, начиная от своих детей и кончая цыплятами.
За огромным депо открывался рынок Крауфорд, со всеми его многочисленными товарами, прилавками, где можно купить попугаев, или пираний, или обезьян. И в толпе носильщиков и продавцов, нищих, бродяг и карманников камера так или иначе нашла бы главного героя, хотя он пока всего лишь ребенок и к тому же калека. А какого еще героя может представить себе хирург-ортопед? И с помощью волшебного приема синхронности, которым иногда пользуются кинематографисты, лицо мальчика (крупным планом) дало бы нам понять, что именно его история выбрана среди миллионов других – тогда как закадровый голос мальчика назвал бы нам его имя.
Фаррух чрезмерно увлекался старомодным приемом голоса за кадром; в каждом фильме об Инспекторе Дхаре этого было с избытком. Вот на рынке Крауфорд камера следует за довольно молодой женщиной. Она взволнована, как будто знает, что за ней следят, и потому натыкается на гору ананасов на фруктовом прилавке – гора рассыпается, и женщина ударяется в бег; это приводит к тому, что она поскальзывается на какой-то гнили под ногами и врезается прямо в птичьи ряды, где сердитый какаду клюет ее в руку. Тут мы и видим Инспектора Дхара. Молодая женщина продолжает убегать, а Дхар спокойно следует за ней. Он призадерживается лишь у стенда с экзотическими птицами, чтобы слегка шлепнуть какаду по загривку тыльной стороной руки.
Его голос за кадром говорит: «Я уже в третий раз преследую ее, а ей не хватает ума понять, что для меня она не проблема».
Дхар снова делает паузу, тогда как симпатичная женщина в спешке задевает гору манго. Дхар, как истинный джентльмен, дожидается, пока продавец не расчистит путь через упавшие плоды, но когда наконец Дхар догоняет женщину, она мертва. Между ее широко открытыми глазами, которые Дхар вежливо закрывает, – дырка. Это ее чмокнула пуля.
Его голос за кадром говорит: «Жаль, что я был не единственным, кто ее преследовал. Видно, для кого-то она все же была проблемой».
Глядя на молодого доктора Даруваллу, сидящего в Дамском саду, старый мистер Сетна был уверен, что знает причину ненависти в глазах доктора; стюард думал, что доктор имеет в виду того самого паразита, которого когда-то наблюдал и мистер Сетна. Но мистеру Сетне не были знакомы ни сомнения относительно себя самого, ни приступы самобичевания. Старый парс никогда бы не предположил, что доктор Дарувалла думал о себе.
Фаррух же решал, каким образом мальчик-калека может покинуть вокзал Виктория, на который он прибыл; сколько историй начиналось с бомбейского вокзала Виктория, но для этого брошенного ребенка доктор Дарувалла не мог придумать никакой. Он все еще задавался вопросом, что может случиться с мальчиком после приезда в Бомбей. Фаррух знал – случиться могло все, что угодно; вместо этого сценарист занялся Инспектором Дхаром, крутым парнем, чей монолог был таким же неоригинальным, как и все прочее, что его касалось.
Доктор Дарувалла пытался помочь себе мыслями о своих любимых, чистых и невинных, номерах в «Большом Королевском цирке», но не мог представить историю такую же хорошую и простую, как те «пункты» цирковой программы, которые он любил. Он не мог придумать даже простую историю, похожую на повседневную жизнь цирка. Там ничего не проходило впустую в течение долгого дня, который начался с чая в шесть утра. Дети-артисты и прочие акробаты делали свои упражнения на силу и гибкость и репетировали свои новые «пункты» программы до девяти или десяти утра, после чего съедали легкий завтрак и чистили свои палатки; в наступающей жаре они пришивали блестки на костюмы или занимались другой, не требующей нагрузки поденщиной. Все тренировки животных кончались до полудня; большим кошкам было слишком жарко, а лошади и слоны поднимали слишком много пыли.
Днем тигры и львы валялись в своих клетках, высунув между прутьями хвосты, лапы и даже уши, как если бы надеясь на свежий ветерок; только их хвосты пошевеливались среди оркестра мух. Лошади оставались стоять, так было прохладней, чем лежа, а два мальчика по очереди осыпали пылью слонов из прорванного холщового мешка из-под лука или картофеля. Еще один мальчик поливал из шланга пол главного шатра; в полуденную жару это лишь ненадолго прибивало пыль. Всеобщим оцепенением были охвачены даже шимпанзе, которые переставали качаться в клетках; время от времени они еще кричали и прыгали вверх и вниз, как всегда. Но стоило какой-нибудь собаке заскулить или тем более залаять, кто-нибудь пинал ее.
В полдень у дрессировщиков и акробатов был главный обед; затем они спали часов до двух – их первое выступление всегда начиналось после трех пополудни. Жара все еще отупляла, и пылинки поднимались и сверкали, как звездочки, в солнечных лучах, что косо проникали через вентиляционные отверстия в главном шатре; в этих резких полосах света пыль напоминала роящихся мух. В перерывах между музыкальными номерами оркестранты передавали друг другу влажную тряпку, которой вытирали медные духовые инструменты, а чаще всего – собственные головы.
На представлении в пятнадцать тридцать оставалось еще много свободных мест. Тут были пожилые люди, занятые на работе неполный день, и дошкольники; и те и другие слишком рассеянно следили за выступлениями акробатов и дрессированных животных – им, и без того не очень-то внимательным, мешали и затянувшаяся жара, и пыль. Однако на протяжении многих лет доктор Дарувалла ни разу не видел, чтобы на выступление в три тридцать артисты тратили меньше усилий; акробаты и дрессировщики и даже животные выкладывались, как и положено, полностью. Это публика слегка сдувалась.
По этой причине Фаррух предпочитал первое вечернее представление. Приходили целыми семьями – молодые рабочие, женщины и мужчины, а также дети, уже достаточно взрослые для концентрации внимания, – и скудный, умирающий солнечный свет казался далеким, даже нежным; пылинки были не видны. Это был тот вечерний час, когда мухи, казалось, исчезали заодно с ярким светом и было еще слишком рано для комаров. На представлении в шесть тридцать цирк был всегда переполнен.
Первым номером программы была «Женщина-змея», «бескостная девушка» по имени Лакшми (богиня богатства). Это была красивая акробатка – никаких признаков рахита. Лакшми было всего четырнадцать лет, но резко очерченные скулы делали ее старше. Она была одета в ярко-оранжевое бикини с желтыми и красными блестками, которые сверкали в свете стробоскопа; она была похожа на рыбу в своих чешуйках, отражающих свет, сиявший словно из-под воды. В главном шатре было достаточно темно, так что меняющий цвета луч стробоскопа производил сильное впечатление, но остаток позднего солнечного света все еще освещал шатер, и можно было разглядеть лица детей в аудитории. Доктор Дарувалла подумал, что, кто бы ни говорил про цирк как зрелище для детей, это было верно лишь наполовину; цирк был также и для взрослых, которым приятно было видеть детей, увлеченных зрелищем.
Почему я не могу сделать это? – спрашивал доктор самого себя, думая о безыскусном блеске «бескостной девушки» по имени Лакшми и о мальчике-калеке, брошенном на вокзале Виктория, где воображение доктора Даруваллы стопорило, едва заработав. Вместо того чтобы создавать что-то чистое и манящее, как цирк, он занял свой мозг погромами и убийствами – персонифицированными Инспектором Дхаром.
Жалкое выражение на лице доктора Даруваллы, неверно истолкованное старым мистером Сетной, было просто глубоким разочарованием доктора в самом себе. С сочувственным поклоном доктору, который сидел одиноко в Дамском саду, стюард-парс позволил себе редкий момент фамильярности, сказав проходящему мимо официанту:
– Я рад, что я не та крыса, о которой он думает.
Дело не в соусе карри
Конечно, проблемы фильма «Однажды мы поедем в Индию, дорогая» заключались не только в алкоголизме Дэнни Миллса и в том, что это был невольный плагиат фильма «Темная победа»; и не только в том, что Гордон Хэтэвей напрасно внес изменения в «оригинальный» сценарий Дэнни, или в том, что режиссера преследовали геморрой и грибок. Хуже другое – актриса, которая играла умиравшую, а затем исцелившуюся жену, была бездарной красоткой и постоянной героиней колонок желтой прессы Вероникой Роуз. Ее друзья и коллеги звали ее Верой, но родилась она под именем Гермиона Роузен в Бруклине и была племянницей Гордона Хэтэвея (дочерью C. М.). Фарруху предстояло узнать, как тесен мир.
Продюсер Гарольд Роузен однажды откроет, что его дочь занудливо пошловата, о чем остальная часть мира догадывалась с первого взгляда на нее; тем не менее Гарольд был под таким же прессом своей жены, как и ее брат Гордон Хэтэвей. Гарольд руководствовался надеждой жены, что трансформация Гермионы Роузен в Веронику Роуз однажды сделает ее звездой. Однако отсутствие у Веры ума и таланта окажется слишком большим препятствием на пути к такой цели; в тандеме с импульсивным желанием выставлять напоказ свою грудь это выглядело так, что вызвало бы насмешку даже у леди Дакворт.
Но летом сорок девятого по клубу «Дакворт» ходили слухи, что вскоре Веру ждет огромный успех. И вообще, что Бомбей знал о Голливуде? Лоуджи Дарувалла знал лишь то, что Веру взяли на роль умиравшей, но воскресшей жены. Вскоре Фарруху станет известно, что Дэнни Миллс возражал против того, чтобы Вере давали эту роль, пока она не соблазнила его и не убедила, что он в нее влюблен. Потом он бегал за ней по пятам, как собака. Дэнни считал, что это работа над ролью пригасила недолгий любовный порыв Веры, – в «Тадже» у нее был свой номер, и с самого начала съемок она отказалась спать с Дэнни, но, по правде говоря, она явно завела роман со своим партнером по фильму. Для Дэнни, который, как правило, напивался перед сном и утром поздно вставал, это не было очевидно.
Что же касается исполнителя главной роли, он был бисексуалом по имени Невилл Иден. Это был утративший корни англичанин и профессионально обученный актер, если только его не наполнял собственный естественный дар, который поблек с переездом в Лос-Анджелес, когда стало ясно, что придется играть вполне предсказуемых персонажей. Ему без труда давались роли стереотипных британцев. Это была роль британца-глупца – того самого типичного бритта, над которым насмехались более неотесанные и менее образованные американцы, – далее, это был утонченный английский джентльмен, в которого влюбляется впечатлительная американская девушка, пока не осознает свою ошибку и не выберет более надежного (пусть он и поскучнее) американского парня. Была также роль гостя из Англии – иногда однополчанина, – который комически изображал свое неумение держаться в седле, водить машину по правой стороне дороги или драться на кулаках в притонах. Этими ролями, чувствовал Невилл, он только укреплял зрителей в идиотской уверенности, будто мужественность присуща исключительно американским парням. Это открытие его отчасти раздражало; несомненно, это также способствовало тому, что он называл «моя гомосексуальность».
К фильму «Однажды мы поедем в Индию, дорогая» Невилл относился философски: по крайней мере, у него была главная роль, и отнюдь не в духе мутно воспринимаемых британских типов, которых его обычно просили изображать, – в конце концов, в этой истории он был счастливо женатым англичанином с умирающей американской женой. Но даже Невиллу Идену комбинация таких неудачников, как Дэнни Миллс, Гордон Хэтэвей и Вероника Роуз, представлялась немного страшноватой. По прошлому опыту Иден знал, что от плохого сценария, никудышного режиссера и любвеобильной бабенки в роли партнерши сам легко тупеешь. И Невилл был равнодушен к Вере, которая начала воображать, что влюблена в него; тем не менее блудить с ней в паре было в целом занятней и увлекательней, чем актерствовать, – а вообще все ему давно прискучило.
Кроме того, он был женат, о чем Вера знала и что вызывало у нее великую скорбь или, по крайней мере, страшную бессонницу. Конечно, она не знала, что Невилл был бисексуалом; этим обстоятельством Невилл пользовался лишь для того, чтобы покончить с очередной любовной интрижкой. Он считал это весьма эффективным приемом – признаться похотливой подруге, кем бы она ни являлась, что она первая женщина, которая завладела как его сердцем, так и вниманием, но что его гомосексуальность все равно сильнее всего прочего. Это, как правило, срабатывало, чтобы на раз избавляться от женщин. От всех, кроме жены.
Что касается Гордона Хэтэвея, у него было дел выше крыши; его геморрой с грибком были ничем по сравнению с явной катастрофой, маячившей перед ним. Вероника Роуз хотела, чтобы Дэнни Миллс вернулся в Америку, дабы она могла свободно изъявлять свои чувства к Невиллу Идену. Гордон Хэтэвей пошел ей навстречу лишь в том, что запретил Дэнни торчать на съемочной площадке. Присутствие сценариста, утверждал Гордон, до гребаности мешает актерам. Но как Гордон мог выполнить просьбу своей племянницы и отправить Дэнни домой, когда тот был нужен ему каждый вечер, чтобы переписывать постоянно меняющийся план сценария? Вполне понятно, что Дэнни Миллс хотел восстановить свой первоначальный вариант, который, по мнению Невилла Идена, был лучше, чем то, что они снимали. Дэнни подумал, что Невилл хороший парень, хотя, узнай сценарист, что Невилл крутит амуры с Верой, его бы это убило. Помимо всего прочего, Вера серьезно страдала от бессонницы, и доктор Лоуджи Дарувалла был озабочен тем, что она требует прописать ей снотворные таблетки; но он был настолько помешан на фильмах, что находил и ее «прелестной».
Его сын Фаррух был не столь очарован Вероникой Роуз; однако нельзя сказать, что он не отмечал ее привлекательности. Вскоре конфликт эмоций поглотил нежного девятнадцатилетнего юношу. Ясно, что Вера была вульгарной молодкой, не лишенной шарма для девятнадцатилетних юнцов, особенно если речь идет о даме, которая интригующе старше – Вере было двадцать пять. Кроме того, пока ничего еще не зная о прихоти Веры тут и там обнажать грудь, Фаррух обнаружил замечательное сходство актрисы со старыми фотографиями, на которых ему так пришлась по вкусу леди Дакворт.
Это случилось вечером в пустом бальном зале, когда даже каменные полы и неустанно вращающиеся потолочные вентиляторы не могли охладить душный и влажный ночной воздух, хлынувший в «Дакворт», как густой туман с Аравийского моря. Даже такие безбожники, как Лоуджи, молились о муссонных дождях. После ужина Фаррух проводил Веру в бальный зал, но не танцевать с ней, а показать ей фотографии леди Дакворт.
– Вы мне кое-кого напоминаете, – сказал актрисе молодой человек. – Пожалуйста, можете сами убедиться. – Потом он улыбнулся своей матери Мехер, которую, похоже, не очень-то радовали ни угрюмое высокомерие Невилла Идена, который сидел слева от нее, ни пьяный Дэнни Миллс, который сидел справа от нее, уронив голову на сложенные руки, покоившиеся в его тарелке.
– Да! – сказал Гордон Хэтэвей своей племяннице. – Тебе стоит увидеть фотографии этой бабенки. Она тоже показывала всем свои сиськи!
Слово «тоже» должно было предупредить Фарруха, но он подумал: Гордон намекает лишь на то, что леди Дакворт обнажалась в довесок к другим своим особенностям.
На Веронике Роуз было платье из муслина, без рукавов, которое прилипало к ее спине, когда, потная, она откидывалась на спинку кресла; ее голые плечи вызвали мучительное страдание у даквортианцев, и в особенности у недавно взятого на службу парса мистера Сетны, считавшего, что женщина, полностью обнажающая руки в общественных местах, скандально нарушает границы дозволенного, – это только шлюха может еще и груди показать!
Увидев фотографии леди Дакворт, Вера была польщена; она приподняла сзади влажные пряди светлых волос над мокрой шеей и повернулась к молодому Фарруху, у которого при виде дорожки пота под мышкой у женщины шевельнулась плоть.
– А мне подойдет такая прическа, как у нее? – сказала Вера, позволив затем упасть волосам обратно.
Фаррух, глядевший на ее спину, пока они возвращались в обеденный зал, не мог не заметить сквозь мокрую ткань платья, что на ней нет лифчика.
– Ну и как тебе эта гребаная эксгибиционистка? – спросил ее дядя, когда они вернулись.
Вера расстегнула несколько пуговок на белом муслиновом платье и показала всем свою грудь – всем, включая доктора Даруваллу, а также его жену миссис Даруваллу. И семейство мистера Лала, обедавшее за соседним столом вместе с семейством Баннерджи, конечно, тоже очень отчетливо разглядело грудь Вероники Роуз. А мистер Сетна, недавно уволенный из клуба «Райпон» за нападение на неучтивого члена, которого он облил горячим чаем, – этот самый мистер Сетна так сжал свой серебряный поднос, как будто собирался прихлопнуть насмерть эту голливудскую девку.
– Ну, что я думаю? – спросила свою аудиторию Вера. – Не знаю, была ли она эксгибиционисткой, но думаю, что она была довольно горячей гребаной штучкой!
Она добавила, что хотела бы вернуться в «Тадж», где, по крайней мере, с моря дул бриз. По правде говоря, она рассчитывала покормить крыс, которые собирались у кромки воды под Воротами Индии; эти крысы не боялись людей, и Вере нравилось дразнить их дорогими объедками со стола – так кто-то любит кормить уток или голубей. После этого она отправится в номер к Невиллу и, оседлав, будет скакать на нем, пока у того не заноет член.
Но утром, в дополнение к страданиям от бессонницы, Вера была больна; она уже неделю по утрам чувствовала недомогание, пока не проконсультировалась с доктором Лоуджи Даруваллой, который, несмотря на то что был ортопедом, легко установил, что актриса беременна.
– Вот дерьмо! – сказала Вера. – А я думала, что все это гребаный соус карри.
Но нет; это была просто «гребля». Отцом был либо Дэнни Миллс, либо Невилл Иден. Вера надеялась, что это Невилл, поскольку он лучше выглядел. Она также предполагала, что алкоголизм у Дэнни в генах.
– Господи Исусе, это должно быть от Невилла! – сказала Вера Роуз. – Дэнни так проспиртован, что, думаю, он стерилен.
Доктор Лоуджи Дарувалла был по понятным причинам озадачен грубостью прекрасной кинозвезды, которая на самом деле не была кинозвездой и которая вдруг ужаснулась: если ее дядя-режиссер узнает о ее беременности, то прогонит ее с картины. Старый Лоуджи указал мисс Роуз на то, что у нее по графику осталось меньше трех недель съемок и что ее беременность еще месяца три и даже больше будет незаметной.
Затем мисс Роуз озадачилась вопросом, женится ли на ней Невилл Иден, бросив свою жену. Доктор Лоуджи Дарувалла подумал, что тому не бывать, но предпочел смягчить удар косвенной репликой.
– Я считаю, что мистер Дэнни Миллс мог бы жениться на вас, – тактично предположил старший Дарувалла, но это лишь усилило депрессию Вероники Роуз, и она заплакала.
Что касается плача, это было не столь обычно в госпитале для детей-инвалидов, как можно было бы ожидать. Доктор Лоуджи Дарувалла провел всхлипывающую актрису из своего кабинета через приемный покой, который был полон раненых, искалеченных и деформированных детей; все они с сочувствием смотрели на плачущую светловолосую леди, представляя, что она только что услышала какие-то ужасные новости о своем собственном ребенке. В некотором смысле так оно и было.