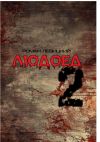Текст книги "Сын цирка"
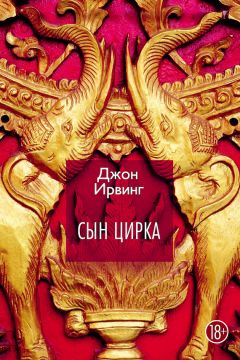
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Что за собаки лаяли в голове убийцы? Злые собаки, подумал доктор Дарувалла, потому что в голове убийцы царила страшная иррациональность. По сравнению с ней ум доктора Азиза казался вполне рассудительным. Однако размышления Фарруха на эту тему были прерваны третьим сообщением. Автоответчик врача был неумолим.
«Боже мой!» – воскликнул неузнаваемый голос. В этом голосе было столько безумной эйфории, что, как показалось доктору, едва ли это тот человек, на которого он сначала подумал.
8
Слишком много сообщений
Порой иезуиты знают далеко не все
Поначалу Фаррух действительно не догадался, что голос в автоответчике, полный истеричного энтузиазма, принадлежал отцу Сесилу, которому было семьдесят два года и который поэтому легко впадал в панику при необходимости говорить спокойно и четко с автоответчиком. Отец Сесил, индийский иезуит, пребывающий неизменно в приподнятом настроении, был старшим священником в колледже Святого Игнатия; как таковой он являлся полной противоположностью отца настоятеля – отца Джулиана, – англичанина шестидесяти восьми лет, представлявшего собой одного из тех иезуитов-интеллектуалов, что отличаются язвительным настроем ума. Сарказм отца Джулиана был такого свойства, что Фаррух каждый раз начинал испытывать к католикам смешанные чувства благоговения и недоверия. Но сообщение было от отца Сесила, поэтому не содержало ничего несерьезного. «Боже мой!» – начал отец Сесил, как будто предлагая выдать общее описание мира, распахнутого перед ним.
Что дальше? – подумал доктор Дарувалла. Поскольку Фаррух был в числе выдающихся выпускников колледжа Святого Игнатия, его часто просили выступать перед студентами с вдохновляющими речами; в предыдущие годы он также обращался к молодым женщинам из Ассоциации христиан. Когда-то он был активным членом так называемого комитета «Живая надежда», а также католической и англиканской общин во имя христианского единства. Но такая деятельность больше не интересовала его. Доктор Дарувалла искренне надеялся, что отец Сесил звонит ему не затем, чтобы снова услышать о поразительном опыте обращения доктора в христианство.
В конце концов, несмотря на прошлые усилия доктора Даруваллы по поводу единения католической и англиканской общин, сам он был англиканцем; он чувствовал себя неуютно среди, пусть немногих, сверхревностных последователей Церкви Святого Игнатия. Фаррух отклонил недавнее приглашение выступить в Католическом харизматическом информационном центре; предлагаемая тема называлась «Харизматическое возрождение в Индии». Доктор ответил, что его собственный скромный опыт – сугубо личное маленькое чудо его обращения в христианство – ничто по сравнению с прочими экстатическими религиозными чудесами (говорение на разных языках, спонтанное исцеление и т. п.). «Но чудо есть чудо!» – сказал тогда отец Сесил. К удивлению Фарруха, отец Джулиан встал на сторону доктора.
– Я совершенно согласен с доктором Даруваллой, – сказал отец Джулиан. – Его опыт едва ли можно отнести к чудесам.
Фаррух почувствовал себя оскорбленным. Он был готов изобразить свой опыт причащения как неброский вид чуда; он всегда скромничал, пересказывая свою историю. На его теле не было никаких следов, хотя бы отдаленно напоминавших раны на теле распятого Христа. Его история была не про стигматы. Он был не из тех, кто постоянно кровоточит! Но то, что отец настоятель считал, что пережитый Фаррухом опыт вообще нельзя отнести к чуду… хм, это больно задело доктора Даруваллу. Оскорбленный Фаррух не только почувствовал собственную уязвимость, но и испытал сомнение относительно якобы исключительной образованности иезуитов. Они были не только святее тебя, но и знали больше, чем ты! Но сообщение было не о причащении доктора, а о близнеце Дхара.
Ну как же! Близнец Дхара был первым американским миссионером в досточтимой сто двадцати пятилетней истории миссии Святого Игнатия; еще никогда ни церковь, ни колледж не осчастливливал своим визитом американский миссионер. Близнец Дхара был тем, кого иезуиты называют схоластом – под этим, как доктор уже успел выяснить, подразумевалось, что человек испытал на себе разные религиозные и философские учения и принял свои простые обеты. Тем не менее, как знал доктор, близнецу Дхара оставалось еще несколько лет до рукоположения в сан священника. Сейчас, полагал доктор Дарувалла, шел некий период самоанализа, последнее испытание принятых на себя простых обетов.
От самих этих обетов Фарруха бросало в дрожь. Бедность, целомудрие, послушание – тут не было ничего от «простоты». Трудно было представить себе, что потомок голливудского сценариста Дэнни Миллса сделает выбор в пользу бедности; еще труднее было себе представить, что отпрыск Вероники Роуз выберет целомудрие. Что же касается иезуитских хитросплетений относительно послушания, доктор Дарувалла знал, что в этом смысле даже про самого себя ему известно маловато. Он также подозревал, что если бы один из этих лукавых иезуитов попытался объяснить ему, что такое «послушание», то само объяснение было бы чудом смысловых уверток, изысканного резонерства – и в конце концов Фаррух остался бы с таким же представлением об обете послушания, каковое имел до того. По оценке доктора Даруваллы, иезуиты были интеллектуально лукавы и коварны. Труднее всего доктору было представить, что дитя Дэнни Миллса и Вероники Роуз может быть интеллектуально лукавым и коварным. Даже Дхар, получивший приличное европейское образование, не был интеллектуалом.
Но затем доктор Дарувалла напомнил себе, что Дхар и его близнец могут также быть генетическим творением Невилла Идена. Невилл всегда поражал Фарруха коварством и лукавством. Что за головоломка! И что это за человек, которому почти сорок, а он еще только собирается или пытается стать священником? Какие невзгоды привели его к этому? Фаррух полагал, что только грубые ошибки или разочарования могли привести человека к столь радикально-репрессивным обетам.
А теперь этот отец Сесил сообщал, что «молодой Мартин» упомянул в письме доктора Даруваллу как «старого друга семьи». Так, значит, его имя Мартин – Мартин Миллс. Фаррух вспомнил, что в своем письме к нему Вера уже сообщала ему об этом. И «молодой Мартин» был не так уж и молод – разве что лишь для отца Сесила, которому было семьдесят два. Но суть телефонного сообщения отца Сесила удивила доктора Даруваллу своей неожиданностью.
– Вы знаете, когда точно он приезжает? – спрашивал отец Сесил.
Что он имеет в виду – знаю ли я? – подумал Фаррух. Почему он этого не знает?
Но ни отец Джулиан, ни отец Сесил не запомнили, когда точно приезжает Мартин Миллс, и ругали брата Габриэля, потерявшего письмо из Америки.
Брат Габриэль прибыл в Бомбей и оказался в церкви Святого Игнатия после Гражданской войны в Испании; он воевал на стороне коммунистов, и его первым вкладом в дело церкви было собрание русских и византийских икон, благодаря чему часовня, в которой они были выставлены, приобрела известность. Брат Габриэль отвечал также за почту.
Когда Фарруху было десять или двенадцать лет и он учился в колледже при церкви, брату Габриэлю было лет двадцать шесть или двадцать восемь; доктор Дарувалла вспомнил, что в то время брат Габриэль еще пытался освоить языки хинди и маратхи, а его английский был мелодичным, с испанским акцентом. Это был невысокий крепкий мужчина в черной сутане – он поучал армию вооруженных вениками уборщиков, которые поднимали тучи пыли с каменных полов. Доктор вспомнил, что брат Габриэль вдобавок к почте отвечал и за прочую прислугу – в саду, на кухне, а также в прачечной. Но страстью его были иконы. Он был дружелюбным, энергичным человеком, не интеллектуалом и не священником, и доктор Дарувалла подсчитал, что сегодня брату Габриэлю было около семидесяти пяти. Неудивительно, что он теряет письма, подумал Фаррух.
Так что никто не знал точно, когда должен прибыть близнец Дхара! Отец Сесил добавил, что американец практически сразу же начнет исполнять свои обязанности преподавателя. Иезуитский колледж не относил к празднику неделю между Рождеством и Новым годом; выходные полагались только на Рождество и Новый год, о чем с раздражением вспомнил бывший ученик колледжа Фаррух. Доктор предположил, что это было связано с недовольством многих родителей, которые, принадлежа к иным конфессиям, считали, что значение Рождества явно преувеличено.
Отец Сесил высказал мнение, что, возможно, молодой Мартин свяжется с доктором Даруваллой раньше, чем вступит в контакт с кем-либо из церкви или колледжа Святого Игнатия. Или, возможно, американец уже дал о себе знать доктору? Дал о себе знать? – в панике подумал доктор.
Итак, близнец Дхара должен прибыть со дня на день, а Дхар до сих пор ничего не знает! И наивный американец прибудет в аэропорт в два или три часа ночи; в это время прибывают все рейсы из Европы и Северной Америки. (Доктор Дарувалла подумал, что все американцы, приезжающие в Индию, «наивны».) В тот ужасающе ранний час Святой Игнатий будет в буквальном смысле слова заперт – как за́мок, как армейские бараки, как лагерь для военнопленных или пусть как монастырь. Если священники и братья не знали точно, когда прибывает Мартин Миллс, никто не оставит для него никакого света или хотя бы открытых дверей, никто не встретит его самолет. И естественно, что сбитый с толку миссионер может направить свои стопы непосредственно к доктору Дарувалле; он может просто объявиться на докторском пороге в три или четыре часа ночи, то есть уже утра. (Доктор Дарувалла предполагал, что все миссионеры, приезжающие в Индию, бывают «сбиты с толку».)
Фаррух не мог вспомнить, что он написал Вере. Дал ли он этой ужасной женщине свой домашний адрес или адрес больницы для детей-инвалидов? Знаменательно, что она упомянула в письме к нему клуб «Дакворт». Из всего Бомбея, из всей Индии Вера, видимо, помнила только «Дакворт». (А корову, несомненно, хотела бы выбросить из памяти.)
– К черту чужие проблемы! – бормотал вслух доктор Дарувалла.
Он хирург, и как таковой он исключительно четок и добропорядочен. Явная неряшливость человеческих отношений потрясала его, особенно те отношения, за которые он чувствовал собственную особую ответственность. Брат – сестра, брат – брат, ребенок – родитель, родитель – ребенок. Что же случилось с людьми, если они устроили такой кавардак из этих базовых отношений?
Доктор Дарувалла не хотел скрывать Дхара от его близнеца. Он не хотел причинять боль Дэнни, предоставляя тому жестокие доказательства неверности и лжи Веры, но он чувствовал, что, прикрывая ее обман, он, по сути, защищает ее. Что касается Дхара, то сын настолько пропитался отвращением ко всему, чего наслушался о своей матери, что уже к двадцати годам перестал интересоваться ею; он никогда не выказывал желания что-то узнать о ней, а тем более встретиться. Можно допустить, что после тридцати он проявлял большой интерес к судьбе отца, но позднее, похоже, смирился с тем, что никогда о нем не узнает. Пожалуй, тут правильнее сказать не «смирился», а «окреп в убеждении».
К тридцати девяти годам Джон Д. просто привык к мысли, что он не знает ни мать, ни отца. Но кто не хотел бы узнать своего близнеца или, по крайней мере, встретиться с ним? Почему бы просто не познакомить этого глупого миссионера с его двойником? – спросил доктор самого себя. «Мартин, это твой брат – тебе лучше привыкнуть к этому». (Доктор Дарувалла предполагал, что все миссионеры в той или иной степени глупцы.) Фаррух подумал, что так Вере и надо, если он скажет Мартину всю правду о близнеце. Возможно, это даже удержало бы Мартина Миллса от принятия сана священника. Это в докторе Дарувалле явно заговорил англиканец, который становился в тупик от самой идеи целомудрия, представлявшейся ему абсолютным узилищем.
Фаррух вспомнил, что́ его сварливый отец говорил о целомудрии. Лоуджи рассматривал эту тему в свете опыта Ганди. Махатма женился в тринадцать лет; ему было тридцать семь, когда он принял обет сексуального воздержания. «Значит, по моим расчетам, – сказал Лоуджи, – у него было двадцать четыре года секса. Многие за всю жизнь не имеют столько лет секса. А Махатма выбрал сексуальное воздержание после двадцати четырех лет сексуальной активности. Да он был просто чертов бабник с кучей примкнувших Марий Магдалин!»
О чем бы ни высказывался его отец, это, как помнит Фаррух, был гремевший сквозь годы голос непререкаемого авторитета, поскольку старый Лоуджи изъяснялся в одной и той же напористой и вдохновенной манере; он издевался, он унижал, он провоцировал, он поучал. Давал ли он хороший совет (как правило, медицинского характера) или исходил из самых мрачных предрассудков – или выражал ни на что не похожее, до крайности упрощенное мнение, – у Лоуджи был тон самопровозглашенного эксперта. С каждым, о чем бы ни шла речь, он включал этот свой знаменитый тон, который сделал ему имя в дни борьбы за независимость Индии и в дни ее раздела, когда он так авторитетно ставил вопрос о медицине катастроф. («Перед тем как заняться переломами или ранами, в первую очередь обращайте внимание на утраченные конечности и крайне тяжелые травмы. Лучше всего, чтобы травмами головы занимались специалисты, если таковые имеются».) Жаль, что такой разумный совет был потрачен впустую на «движение», которое продлилось недолго, хотя нынешние добровольцы в данной области до сих пор говорили, что «медицина бунта» – это достойное дело.
Повозившись в прошлом, доктор Фаррух Дарувалла попытался высвободиться оттуда и вернуться в настоящее. Он заставил себя взглянуть на мелодраму двойника Дхара как на конкретную текущую проблему. И тут его словно обдало свежестью – доктор подумал, что Дхар сам должен решить, следует ли сообщать бедному Мартину Миллсу, что у того есть брат-близнец. Мартин Миллс был не тем близнецом, которого доктор знал и любил. Все зависело от того, что захочет любимый доктором Джон Д.: признать своего брата или не признать его. И к черту Дэнни и Веру и весь тот хаос, который они сотворили из своей жизни, – и, главное, к черту Веру. Ей уже шестьдесят пять, подумал Фаррух, а Дэнни был почти на десять лет старше; оба достаточно взрослые, чтобы самим разгребать это…
Но размышления доктора Даруваллы был полностью сметены следующим телефонным сообщением, рядом с которым все соображения насчет того, что делать с Дхаром и его близнецом, превратились в пустую сплетню, в никчемную ерунду.
– Это Пател, – сказал голос, который мгновенно впечатлил Фарруха неведомой ему беспристрастностью.
Анестезиолог Пател? Рентгенолог Пател? Это было гуджаратское имя – в Бомбее было не так уж много Пателов. А затем, с ощущением внезапного холода – почти такого же, как в голосе самого его автоответчика, – Фаррух осознал, кто это был. Это был заместитель комиссара Пател, настоящий полицейский. Вероятно, он был единственным гуджаратцем в полиции Бомбея, подумал Фаррух, – наверняка местные полицейские были в основном маратхами.
– Доктор, – сказал детектив, – есть совершенно другая тема, которую мы должны обсудить, только, пожалуйста, без Дхара. Я хочу поговорить с вами наедине.
На этом связь была прервана.
Если бы доктор Дарувалла был не так взволнован этим звонком, он мог бы как сценарист гордиться своей проницательностью, потому что его Инспектора Дхара всегда при разговоре по телефону, особенно для автоответчика, отличала подобная краткость. Но сценаристу было не до профессиональной гордости за точность созданного им характера; вместо этого Фаррух задавался вопросом, что это за «совершенно другая тема», которую детектив Пател хотел с ним обсудить, а кроме того, почему ее нельзя обсуждать в присутствии Дхара. В то же время доктор Дарувалла холодел от мысли, что заместителю комиссара что-то уже известно о преступлении.
Была ли это еще одна версия убийства мистера Лала или другая угроза Дхару? Или эта «другая тема» касалась убийств девушек в клетушках – то есть реальных, а не киношных убийств проституток?
Но у доктора не было времени поразмышлять над этой загадкой. Со следующим телефонным сообщением доктор Дарувалла снова оказался в тенетах прошлого.
Старые страхи и новая угроза
Это сообщение он слушал уже двадцать лет. Он получал эти звонки в Торонто и в Бомбее, у себя дома и в своем офисе. Он пытался засечь, откуда ему звонят, но безуспешно; все вызовы были сделаны с телефонов в общественных местах – из почтовых отделений, вестибюлей гостиниц, аэропортов и больниц. И независимо от того, насколько Фаррух был знаком с их содержанием, его всегда гипнотизировала ненависть, стоявшая за ними.
Голос, полный жестокой насмешки, начинал с указания старого Лоуджи для добровольцев из отряда медицины катастроф – «Перед тем как заняться переломами или ранами, в первую очередь обращайте внимание на утраченные конечности и крайне тяжелые травмы», а затем, оборвав цитату, голос говорил: «Что до „утраченного“, то твой отец утратил голову, напрочь! Я видел ее, сидя на пассажирском сиденье, еще до того, как пламя охватило машину. А что до „тяжелых травм“ – его руки не могли выпустить руль, хотя пальцы уже горели! Я видел сожженные волосы на его руках, прежде чем собралась толпа и мне пришлось исчезнуть. И твой отец говорил, что „лучше всего, чтобы травмами головы занимались специалисты, если таковые имеются“, – так вот, что до травм головы, так это я – специалист! Я сделал это. Я оторвал ему голову. Я видел, как он горит. И я говорю тебе – он получил по заслугам. И вся ваша семья тоже».
Это была та же самая старая страшилка – доктор Дарувалла слышал ее уже двадцать лет, – но реакция на нее не изменилась. Он сидел в спальне, и его била дрожь, точно так же, как сотни раз прежде. Его сестра в Лондоне никогда не получала таких сообщений. Фаррух предполагал, что она была избавлена от этого только потому, что абонент не знал ее фамилии в замужестве. Его брат Джамшед получал в Цюрихе такие звонки. Сообщения для обоих братьев были записаны на различных автоответчиках и на нескольких магнитофонных пленках в полиции. Как-то в Цюрихе братья Дарувалла вместе с женами несколько раз прослушали одну из этих записей. Никто так и не опознал голоса звонившего, но, к удивлению Фарруха и Джамшеда, их жены утверждали, что абонентом была женщина. Братья всегда считали этот голос явно мужским. Но сестры Джулия и Жозефина стояли на своем, утверждая, что то, в чем обе были убеждены, мистическим образом неизменно сбывается. Они были уверены, что звонила женщина.
Спор был еще в самом разгаре, когда в квартиру Джамшеда и Джозефины приехал на обед Джон Д. Каждый настаивал на том, чтобы Инспектор Дхар разрешил все сомнения. В конце концов, у актера был поставленный голос и он был обучен различать голоса и подражать им. Джон Д. прослушал запись только один раз.
– Этот человек пытается говорить, как женщина, – сказал он.
Доктор Дарувалла был в ярости – не столько от этого мнения, которое он нашел просто нелепым, но от той возмутительной безапелляционности, с которой высказывался Джон Д. Доктор был уверен, что это в нем говорил актер – актер в роли детектива. Вот откуда этот высокомерный, самоуверенный образ – из вымысла!
Все стали возражать Дхару, и поэтому актер перемотал ленту; он еще раз прослушал запись, а точнее – еще дважды. Потом вдруг манерность, которую доктор Дарувалла связывал с Инспектором Дхаром, испарилась; теперь перед ними был серьезный, оправдывающийся Джон Д., который сказал:
– Простите, я был не прав. Это женщина, которая пытается говорить как мужчина.
Поскольку это утверждение было высказано с меньшей уверенностью и совсем не с той подачей, что была характерна для Инспектора Дхара, доктор Дарувалла сказал:
– Давайте перемотаем и еще раз послушаем.
На этот раз все согласились с Джоном Д. Это была женщина, и она старалась говорить мужским голосом. И этого голоса они никогда раньше не слышали – с этим тоже все согласились. Ее английский был почти безупречным – звучал вполне по-британски. С едва уловимым акцентом хинди.
– Я сделал это. Я оторвал ему голову. Я видел, как он горит. И я говорю тебе – он получил по заслугам. И вся ваша семья тоже, – говорила женщина, возможно, больше ста раз за прошедшие двадцать лет. Кто она? Откуда ее ненависть? И она ли это сделала?
Ее ненависть могла бы быть сильнее, если бы она не сделала этого. Но тогда зачем брать на себя это убийство? За что можно так возненавидеть Лоуджи? Фаррух знал, что его отец много чего наговорил лишнего, чтобы оскорбить всех и каждого, но, насколько Фарруху было известно, его отец никому лично не причинил зла. В Индии легко было предположить, что источником любого насилия является либо месть каких-то политических противников, либо оскорбление чьих-то религиозных чувств. Когда такого выдающегося и прямодушного человека, как Лоуджи, взрывают в заминированном автомобиле, то подобное убийство автоматически относят к разряду заказных. Однако Фаррух должен был задать себе вопрос: что, если его отец стал жертвой чьего-то личного гнева, что, если его убийство выходило за привычные рамки?
Фарруху трудно было представить себе человека, особенно женщину, затаившего какую-то личную обиду на старого доктора. Потом он подумал о глубоко личной ненависти, которую, должно быть, питал к Инспектору Дхару убийца мистера Лала. («БУДУТ НОВЫЕ УБИЙСТВА ЧЛЕНОВ КЛУБА, ЕСЛИ ДХАР ОСТАНЕТСЯ ЕГО ЧЛЕНОМ».) И в голову доктору Дарувалле пришло, что, возможно, все они поспешили, предполагая, что это киногерой Дхара является причиной столь яростного гнева. Не вляпался ли дорогой мальчик доктора Даруваллы – его любимый Джон Д. – в какую-нибудь темную историю? Может, это какие-то личные отношения вылились в столь убийственную ненависть? Доктору Дарувалле стало стыдно за себя, что он так мало спрашивал Дхара о его личной жизни. Он опасался, что уже создал у молодого человека впечатление, будто совершенно равнодушен к его делам.
Конечно же, у Джона Д. не было интимных связей, когда он находился в Бомбее; по крайней мере, он так говорил. Были выходы на публику со старлетками – доступными кинокрасотками, – но такие пары придумывались лишь для того, чтобы вызывать желаемый скандал, когда обе стороны впоследствии могли все отрицать. Это были не отношения – это был пиар.
Успех фильмов об Инспекторе Дхаре зиждился на том, что они были для многих оскорбительны – а в Индии это дело рискованное. Тем не менее бессмысленность убийства мистера Лала означала, что ненависть убийцы имела более глубокие причины, нежели те, что доктор Дарувалла мог распознать в обычных реакциях на Дхара. Как по сигналу, как будто под влиянием простой мысли об обиженных и обидевших, следующее телефонное сообщение было от режиссера-постановщика всех фильмов об Инспекторе Дхаре. Балрадж Гупта снова докучал доктору Дарувалле крайне щекотливой темой – когда выпускать в прокат новый фильм об Инспекторе Дхаре. Из-за убийств проституток и общей неприязни, с которой был встречен «Инспектор Дхар и убийца девушек в клетушках», Гупта отложил премьеру, но нетерпение его росло.
Про себя доктор Дарувалла решил, что не хотел бы показывать зрителям новый фильм об Инспекторе Дхаре, но он знал, что фильм будет выпущен; он не мог остановить его. Как не мог сколько-нибудь дольше взывать к чувству социальной ответственности Балраджа Гупты, коль скоро у того был дефицит оного чувства; мало-мальское сострадание, которое Гупта мог испытать по поводу реально убитых проституток, было мимолетным.
– Это Гупта! – сказал режиссер. – Послушайте, а если посмотреть на это с другой стороны? Новый фильм вызовет новые обиды. Тот, кто убивает девушек в клетушках, перестанет их убивать и займется другими убийствами! Мы даем публике что-то новенькое, чтобы у нее крыша поехала, – а проституткам только услугу окажем.
У Балраджа Гупты была логика политика; доктор не сомневался, что от нового фильма об Инспекторе Дхаре у очередной группы киноманов поедет крыша.
Фильм назывался «Инспектор Дхар и Башни Молчания»; одно название было уже оскорбительно для всей общины парсов, потому что Башни Молчания были местом погребения всех умерших парсов. Трупы всегда лежали там обнаженными, вот почему доктор Дарувалла поначалу предположил, что именно они привлекли внимание первого грифа, которого он увидел над полем для гольфа в клубе «Дакворт». Парсы по понятным причинам охраняли свои Башни Молчания; как парс, доктор Дарувалла прекрасно это знал. Тем не менее в новом фильме об Инспекторе Дхаре кто-то убивает хиппи, приехавших с Запада, и помещает их тела в Башнях Молчания. Многие индийцы были готовы возмущаться европейскими и американскими хиппи, но живыми. Комплекс Дурганвади с Башнями Молчания является неотъемлемой частью культуры Бомбея. Так что, по крайней мере, парсы будут возмущены подобным кощунством. И все бомбейцы посчитают содержание фильма полным абсурдом. Никто не может приблизиться к Башням Молчания, даже парсы! (Если только они не мертвы.) Но конечно, горделиво думал доктор Дарувалла, вся интрига фильма заключалась в том, каким образом эти тела там оказываются и как все это распутывает Инспектор Дхар.
Доктор Дарувалла обреченно подумал, что больше не может задерживать выход на экраны «Инспектора Дхара и Башен Молчания»; однако он мог еще оспорить последние аргументы Балраджа Гупты в пользу немедленного выхода картины. Кроме того, доктору гораздо больше нравился писклявый голос Балраджа Гупты при скоростном режиме прокрутке пленки, нежели тот, реальный.
Позабавившись таким образом, доктор включил последнее сообщение на автоответчике. Звонила женщина. Поначалу Фаррух подумал, что он ее не знает. «Это доктор?» – спросила она. Это был голос крайне измученного человека, пребывающего в неизлечимой депрессии. Она говорила так, будто ее рот был при этом широко открыт, как бы с постоянно отвисающей нижней челюстью. Голос был бесстрастным и невозмутимым, а акцент слишком явным – конечно, североамериканским, но доктор Дарувалла (который хорошо разбирался в акцентах) пошел дальше, предположив, что она с американского Среднего Запада или из канадских прерий. Омаха или Су-Сити, Регина или Саскатун.
– Это доктор? – спросила она. – Я знаю, кто вы на самом деле, я знаю, чем вы на самом деле занимаетесь, – продолжала женщина. – Скажите заместителю комиссара – настоящему полицейскому. Скажите ему, кто вы такой. Скажите ему, чем вы занимаетесь.
Телефон отключился не сразу, как если бы женщина в сдерживаемом гневе промахнулась, вешая трубку на рычаг.
Фаррух сидел в своей спальне – его била дрожь. Он слышал, как в столовой Рупа накрывает к ужину их обеденный, со стеклянной столешницей стол. Вот-вот она объявит Дхару и Джулии, что доктор дома и что можно приступать к их крайне запоздалому ужину. Джулия поинтересуется, почему он как вор пробрался в спальню. По правде сказать, Фаррух и сам чувствовал себя вором, не зная, однако, что именно он украл и у кого.
Доктор Дарувалла перемотал ленту и еще раз послушал последнее сообщение. Это была совершенно новая угроза, и доктор настолько сосредоточился на смысле услышанного, что чуть не пропустил самое главное в словах абонента. Фаррух всегда был уверен в том, что кто-нибудь неизбежно уличит его как создателя Инспектора Дхара; в этой части сообщения не было ничего неожиданного. Но при чем тут настоящий полицейский? Почему кто-то считает, что об этом должен знать заместитель комиссара Пател?
«Я знаю, кто вы на самом деле, я знаю, чем вы на самом деле занимаетесь». – Ну и что с того, подумал киносценарист. – «Скажите ему, кто вы такой. Скажите ему, чем вы занимаетесь». – Но почему? – спрашивал себя Фаррух. Затем неожиданно для самого себя доктор обнаружил, что все это время слушает одно и то же – начало сообщения, которое он чуть не пропустил: «Это доктор?» Он снова и снова прокручивал эти слова, пока дрожь в его руках не стала такой сильной, что он перемотал ленту назад, вплоть до аргументов Балраджи Гупты в пользу немедленного выпуска на экраны нового фильма про Инспектора Дхара.
«Это доктор?»
Сердце доктора Даруваллы никогда еще так не замирало. Не может быть, что это она! – подумал он. Но это была она – Фаррух был уверен в этом. Сколько лет прошло – такого не могло быть! Но конечно же, понял он, если это была она, она все узнает; включит интеллект и все вычислит.
И в этот момент в спальню влетела его жена.
– Фаррух! – сказала Джулия. – Я и не знала, что ты дома.
Но я не «дома», подумал доктор, я в очень, очень чужой стране.
– Liebchen, – тихо сказал он своей жене. Всякий раз, когда он выражал нежность по-немецки, Джулия знала, что он либо настроен на ласку, либо попал в беду.
– Что случилось, Liebchen? – спросила она его.
Он протянул руку – она подошла и села рядом, достаточно близко, чтобы почувствовать, как он дрожит. Она обняла его.
– Пожалуйста, прослушай это, – сказал ей Фаррух. – Bitte.
Когда Джулия слушала первый раз, Фаррух видел по выражению ее лица, что она совершает его ошибку; она слишком сосредоточивается на содержании сообщения.
– Не обращай внимания на то, что она говорит, – сказал доктор Дарувалла. – Лучше подумай, кто это.
Только на третий раз Фаррух увидел, как стало меняться лицо Джулии.
– Это она, не так ли? – спросил он жену.
– Но эта женщина гораздо старше, – быстро сказала Джулия.
– Но прошло двадцать лет, Джулия! – сказал доктор Дарувалла. – Теперь она и должна быть гораздо старше! Она и есть гораздо старше!
Вместе они еще несколько раз прослушали запись. Наконец Джулия сказала:
– Да, я думаю, что это она, но какая связь между ней и тем, что сейчас происходит?
В холодной спальне, в своем похоронном темно-синем костюме, к которому был комически присовокуплен галстук с ярко-зеленым попугаем, доктор Дарувалла, не без приступа страха, догадывался, какая тут связь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?