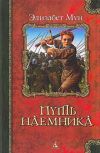Текст книги "Большие деньги"
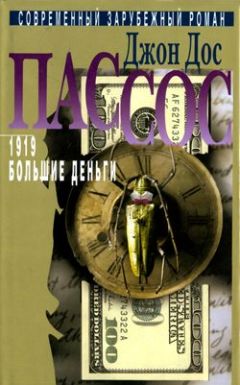
Автор книги: Джон Пассос
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Новости дня LII
собравшиеся на погребальную церемонию по случаю усопшего дорогого человека, чтобы отдать последние полчаса демонстрации ему своего почитания, воспоминаниям о свершенных им делах своих и о не доведенной до конца работе; воспоминаниям о дружбе и любви, о том, что было, и о том, как все могло бы быть. Почему же не использовать до конца, как полагается, эти полчаса не сделать эту службу такой превосходной, какую может совершить только Фрэнк Ю. Кзмпбелл в часовне (несектантской)
НАЙДЕНО МЕРТВОЕ ТЕЛО ПЛАВАЮЩЕЕ В МЕШКЕ
Китай-город, мой Китай-город где еле горят огни
А сердца не знающие другой земли
Скользят здесь то туда то сюда
КОНЕЦ НАСТУПАЕТ ОТ АПОПЛЕКСИЧЕСКОГО УДАРА КОГДА ЖЕНА ЧИТАЕТ ЕМУ КНИГУ
Миссис Гардинг читала ему книгу спокойным, успокаивающим, тихим монотонным голосом. Она надеялась, что он так скорее заснет
ДОГЕРТИ[22]22
Догерти Гарри (I860 – 1941) – американский адвокат, генеральный прокурор США в 1921–1924 гг.
[Закрыть] ИСПОЛНЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ
Один
у телефона
в ожидании звонка
ДВА МЕРТВЫХ ЖЕНСКИХ ТЕЛА ОБНАРУЖЕНЫ В БАГАЖЕ УБИЙЦЫ
РАБОЧИЕ В ТЕМНОТЕ УСТРАИВАЮТ МАРШ НА РЕЙХСТАГ
ГОНКА В ТАКСИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВА ОКАНЧИВАЕТСЯ НЕУДАЧЕЙ В БЕЛМОНТЕ
ПЕРШИНГ ТАНЦУЕТ ТАНГО В АРГЕНТИНЕ
ПОЕЗД С ТЕЛОМ ПРЕЗИДЕНТА ГАРДИНГА ТАЩИТСЯ МЕДЛЕННО ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЬ ПО ЗАПОЛНЕННОМУ ТОЛПАМИ ЛЮДЕЙ ЧИКАГО
БЕЗРАБОТНАЯ ДЕВУШКА УМИРАЕТ ПРИНЯВ ЯД
МНОГИЕ ВИДЯТ КУЛИДЖА[23]23
Кулидж Калвин (1872–1933) – 30-й президент США (1923–1929) от республиканской партии; вице-президент в 1921–1923 гг.
[Закрыть] НО ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ ЕГО СЛЫШАТ
Знай вы Сюзи
Как знаю ее я
Ох какая,
ах какая она девушка
Искусство и Айседора
В 1878 году в Сан-Франциско миссис Айседора О’Тормэн Дункан, пылкая, живая леди, любившая играть на фортепиано, начала бракоразводный процесс против своего мужа, знаменитого мистера Дункана, чье поведение, как нас заставляют в это поверить, не отличалось особой скромностью; вся эта кутерьма так подействовала на ее нервы, что, как она заявила своим детям, теперь ее желудок ничего не принимает, кроме шампанского и устриц; и вот в самый разгар громкого семейного скандала в обстановке освещаемых газом пансионов, которые содержали красотки с юга, бурной деятельности железнодорожных магнатов, и усатых мужчин, пожевывающих стебелек клевера, чтобы устранить изо рта запах виски, крутящихся дверей, медных плевательниц и четырехколесных экипажей, платьев с басками и турнюрами с длинными, в складках, тянущимися по полу шлейфами (когда лекционные и концертные залы, где преобладали высококультурные и образованные женщины, становились все больше центрами целеустремленной честолюбивой жизни)
она родила дочь, которой дала свое имя – Айседора. Разрыв с мистером Дунканом, разоблаченное ею его двуличие превратили миссис Дункан в непримиримую феминистку, атеистку, страстную последовательницу Боба Ингерсола,[24]24
Ингерсол Роберт (1833–1899) – американский писатель и популярный лектор, выступал против религиозного ханжества.
[Закрыть] горячую почитательницу его сочинений и его лекций. Ведь Бог – это сама Природа, женская красота – это долг перед ней, и порочен только мужчина.
Миссис Дункан вела непримиримую борьбу за воспитание своих детей в любви к красоте, прививала им лютую ненависть к корсетам и всевозможным условностям, а также составленным человеком законам. Она давала уроки игры на фортепиано, вышивала, вязала шарфы и носки.
Но Дунканы все же не вылезали из долгов.
Они всегда запаздывали с квартплатой.
Самые первые воспоминания Айседоры связаны с дурно пахнущими торговцами гастрономическими товарами, мясниками, владельцами земельных участков. Она торговала всякой мелочью, которой снабжала ее мать, она стучалась в двери и предлагала эти товары.
Она помогала тайно выносить через выходящее во двор окно чемоданы, когда у них не было денег, чтобы заплатить за квартиру, тащила их из одного захудалого пансионата в другой, которые им так часто приходилось менять в пригородах Окленда и Сан-Франциско.
Мать и маленькие Дунканы представляли собой клан, Дунканы были против грубого, омерзительного, отталкивающего окружающего мира. Дунканы теперь уже не были ни католиками, ни пресвитерианами, ни квакерами и ни баптистами, они стали артистами.
Совсем еще маленькие детишки разыгрывали театральные представления в пустом амбаре, вызывая большой интерес у всех соседей. Старшая дочь Элизабет давала уроки светских танцев: они были западниками, западниками по натуре, а там, на Западе, повсеместно гремел воинственный будоражащий клич «золотая лихорадка!»; они не стыдились демонстрировать свои таланты на людях.
У Айседоры такие зеленые-зеленые глаза, рыжие волосы и такие красивые руки, лебединая шея. Ей не нравились обычные диктуемые светскими условностями танцы, поэтому она выдумывала свои собственные.
Они переехали в Чикаго. Она танцевала по заказу «Вашингтон пост» в масонском храме «Руф-гарден» за пятьдесят долларов в неделю. Танцевала в клубах. Она поехала к Огастену Дейли, чтобы сказать ему, что она открыла
ТАНЕЦ, танец с большой буквы, а в Нью-Йорке в марлевой пачке танцевала фею в тамошней постановке шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь» вместе с Адой Реан.
Вся семья последовала за ней в Нью-Йорк. Они все вместе сняли большой зал в Карнеги-холл, разложили там по углам матрацы, развесили по стенам драпировки и таким образом стали изобретателями типичной грин-виллиджской студии.
Они всегда опережали на шаг местного шерифа, им удавалось умасливать торговцев, и те забывали на время об их просроченных счетах, они храбро сражались с домовладелицей, отказываясь вовремя платить за квартиру, выпрашивали подачки у богатых филистимлян.
Айседора организовывала вечера мелодекламации с Этебертом Невином
танцевала под стихи Омара Хайяма для женских обществ в НьюПорте. Когда сгорел отель «Виндзор» вместе со всеми их чемоданами и узлами, вместе со счетом за жилье длиной с руку, они отправились в Лондон на грузовом судне, перевозившем скот,
чтобы таким образом спастись от заедавшего их материализма родной Америки.
В Лондоне в Британском музее они открыли для себя древних греков;
Танец – греческое изобретение.
В своих муслиновых туниках они танцевали под лондонскими дымоходами, на покрытых сажей и копотью площадях, копировали позы изображенные на античных вазах греков, ходили на лекции, посещали художественные галереи, слушали концерты, смотрели театральные пьесы, мокли под дождем спустя пятьдесят лет после завершения викторианской эпохи.
Назад, к грекам.
Когда их выгоняли из жилища за неуплату, Айседора не унывая тащила весь выводок Дунканов в лучший отель, там снимала целые апартаменты, и тут же, сбиваясь с ног, официанты бежали за омарами с шампанским, за фруктами, сезон для которых еще далеко не наступил; чего не могут позволить себе артисты, Дунканы, Греки;
Лондону девяностых нравилась ее поразительная наглость
В Кенсингтоне и даже в Мэйфере она танцевала на вечеринках в частных домах,
все британцы, включая и принца Эдуарда
восхищались ее красотой эпохи прерафаэлитов
похотливой чисто американской невинностью
ее калифорнийским акцентом.
После Лондона – Париж во время самой большой Всемирной выставки девятнадцатого века. Она танцевала с Лойе Фуллер. Она все еще была девственницей, такой робкой, что не осмелилась ответить на заигрывания Родена, этого великого скульптора, и ее просто поражало необычное поведение кружка Лойе Фуллер с чокнутыми красотками-извращенками. Все Дунканы были вегетарианцами, вульгарность мужчин вызывала У них сильное подозрение, как, собственно, и материализм.
Раймонд всех их обеспечивал балетными туфлями.
Айседора в обществе матери и своего брата Раймонда объехала всю Европу в своих балетных туфлях, с повязкой на голове и в греческой тунике,
останавливаясь в лучших отелях, выбирая для себя естественную настоящую греческую жизнь под шуршание стопки неоплаченных счетов.
Айседора дала первый свой сольный концерт в Будапеште; теперь она уже дива, у нее была любовная связь с ведущим актером; в Мюнхене восторженные студенты выпрягли лошадей из ее кареты и потащили ее сами, на своем горбу. Повсюду – только цветы, радушные рукопожатия, ужины с шампанским. В Берлине все сходили по ней с ума.
На деньги, заработанные в Германии, она повезла весь клан Дунканов в Грецию. Они прибыли туда на рыбацкой шхуне с Итаки. Все они фотографировались на фоне Парфенона, танцевали в театре Диониса, учили уличных мальчишек петь, исполнять античный хор из «Мольбы» и даже затеяли строительство храма для жилья на горе, с которой открывался превосходный, вид на развалины древних Афин, но там не оказалось воды, и у них кончились деньги, и храм так и не был воздвигнут, посему им пришлось жить в отеле «Англетер», но и там вскоре появился неоплаченный счет. Когда иссякли кредиты, они повезли свой хор в Берлин, где поставили «Мольбу» на. древнегреческом. Когда ее величество увидела Айседору в просторном греческом платье-пеплуме, которая бодро шагала во главе строя греческих мальчишек в греческих туниках по Тиргартену, ее лошадь встала на дыбы и сбросила с себя кайзерину, супругу короля.
Айседора вошла в моду.
Она приехала в Санкт-Петербург в 1905 году в тот день, когда вечером хоронили жертвы расстрела демонстрации, состоявшейся перед Зимним дворцом девятого января. Это произвело на нее гнетущее впечатление. Она была американка, американка до мозга костей, как Уолт Уитмен, и правители этого мира, не останавливавшиеся перед убийством, были ей чужды, нет, это не ее люди, ее люди – это те, кто принимал участие в похоронной процессии; артисты никогда не станут на сторону тех, у кого в руках пулеметы; она была американкой в греческой тунике; она служила своему народу.
В Санкт-Петербурге, который все еще находился под сильным влиянием балета восемнадцатого века при французском дворе Короля-Солнца, власти сочли ее танцы непристойными и опасными.
В Германии она основала свою школу танца с помощью сестры Элизабет, которая улаживала все организационные дела, и там у нее родился ребенок от Гордона Грейга.
Она с триумфом возвратилась в Америку, о котором всегда мечтала, и опустошала карманы богатых филистимлян во время своего продолжительного турне; ее поклонников постоянно укоряли, притесняли за то, что они носят греческие туники; нет, в Америке она не нашла свободного искусства.
Она вернулась в Париж и теперь взлетела на самую вершину. Искусство там означало – Айседора. На похоронах князя де Полиньяка она встретилась с пришедшим из легенды миллионером (король среди производителей швейных машинок), который станет ее опорой и будет финансировать ее школу. Она отправилась в путешествие с ним на его яхте (Что бы ни делала Айседора – это, несомненно, Искусство)
чтобы станцевать в Храме Пестума
только для него одного,
но пошел дождь и все музыканты вымокли до нитки. Тогда они все напились забыв о танцах.
Искусство – это жизнь миллионеров. Все, что делала Айседора, – Искусство. Когда она танцевала во время второго своего турне по Америке, то уже под сердцем носила ребенка от миллионера, что вызывало постоянные скандалы среди старых чопорных леди женских клубов и старых дев – почитательниц искусства;
она слишком пристрастилась к спиртному и в нетрезвом виде подходила к самой рампе и начинала задирать богачей, арендующих ложи;
Айседора находилась в зените славы и скандалов, в ее руках были власть, богатство; ее школа процветала, миллионер собирался построить для нее театр в Париже, Дунканы становились жрицами нового культа (Все, что делала Айседора, – это Искусство)
возвращавшийся домой с другого конца Парижа автомобиль с ее двумя детьми внезапно заглох на мосту. Забыв поставить машину на тормоз, шофер вышел, чтобы покопаться в моторе. В эту минуту автомобиль поехал сам и, сбив шофера, упал с моста в Сену.
Дети с нянькой утонули.
Жизнь продолжалась, жизнь отчаянная
треп побуждающих к скандалу злых языков, насмешливые, недоброжелательные физиономии репортеров, угрозы судей, брань менеджеров отелей, приносящих давно не оплаченные счета.
Айседора много, слишком много пила, она не могла пропустить мимо ни одного смазливого молодого человека, она красила волосы, выбирая все более яркие красно-рыжие оттенки, она никогда не пользовалась макияжем, всегда была небрежной со своей одеждой, нисколько не заботилась о сохранении фигуры, никогда не считала своих денег
но здоровый дух
немедленно пропитывал весь зал
когда эта грушевидная фигура с красивыми длинными руками медленно выходила из глубины сцены к зрителям.
Она ничего не боялась; она была великой танцовщицей.
В родном ее городе Сан-Франциско политики запретили ей танцевать в том греческом театре, который сами и построили под ее влиянием. Где бы она ни появлялась, она поливала оскорблениями богатых филистимлян. Когда разразилась война, она танцевала «Марсельезу», это многим не нравилось, но она продолжала дразнить многих, отказываясь исполнять свои танцы под музыку Вагнера или проявлять уважительные чувства к этой чудовищной бойне и притворяться, что она абсолютно Давно ее устраивает.
Во время своего турне по Южной Америке
она повсюду ловила мужчин,
испанский художник, пара боксеров, гребец лодки, бразильский поэт,
она устраивала шумные ссоры, потасовки в танцевальных залах, где танцевали танго, орала на аргентинцев, обзывала их, подойдя к краю рампы, ниггерами, одерживала один громкий триумф за другим в Монтевидео и Бразилии; если у нее были деньги, то она не могла их безрассудно не тратить, бросала их исполнителям танго, не скупилась на подачки, устраивала после спектаклей дружеские ужины – нет-нет, все за мой счет! – делала она широкий жест. Менеджеры жульничали, обманывали ее. Она ничего не боялась, никогда не стыдилась на людях трепа побуждающих к скандалу злых языков, ее не трогали оскорбительные заголовки в дневных газетах.
Когда Октябрь погрузил во мглу старый мир, она вспоминала Санкт-Петербург, вспоминала похоронную процессию, гробы на притихших улицах, бледные лица людей, сжатые кулаки в ту памятную ночь в Санкт-Петербурге, когда она танцевала «Прощание славянки».
и танцевала, в своей красной марлевой накидке перед глазами старых почтенных леди в симфоническом зале;
но когда она поехала в Россию, надеясь организовать и там свою танцевальную школу, поработать, испытать, что такое новая, свободная жизнь, все оказалось слишком сложным, слишком трудным для нее: холод, водка, икра, вши, никаких удобств в отелях, все там, в этой стране смешалось в одну кучу, – повсюду только груды мусора, и у нее не хватило терпения, ведь ее прежнюю жизнь с этой не сравнить, слишком она была легкой;
она подцепила одного русского белобрысого поэта привезла его с собой
в Европу останавливалась с ним в шикарных отелях.
Есенин во время одной безумной пьянки разгромил целый этаж в отеле «Адлон» в Берлине, потом разорил полностью номер в парижском «Континентале».
Когда вернулся в Россию, повесился. Слишком было все сложно, слишком трудно.
Когда стало невтерпеж, когда она уже не могла находить деньги для Искусства, для угощения толп едоков и любителей выпить в гостиничных номерах, для аренды роскошных «роллс-ройсов», содержать школу и учеников,
Айседора отправилась на Ривьеру, чтобы написать там свои мемуары, чтобы содрать деньжат с американской публики, проснувшейся, наконец, после военной спячки вернувшейся к грубому материализму, грекам, скандалам и Искусству, – у них еще были лишние доллары, которые они могли потратить.
Она сняла студию в Ницце, но не могла платить за нее. Она поссорилась со своим миллионером. Ее драгоценности, знаменитый изумруд, плащ из горностая, ценные работы, подаренные ей авторами-художниками, все либо оказалось в ломбардах, либо в руках алчных владельцев отелей. Оставались лишь ее старые голубые мантии со складками, в которых она одерживала все свои великие триумфы, красная кожаная сумочка и старая шуба, лопнувшая до низу на спине.
Она не могла бросить пить, не могла не обнять за шею любого оказавшегося рядом и приглянувшегося ей молодого человека; если у нее появлялись деньги, она закатывала вечеринку или просто их раздавала.
Она попыталась утопиться, но какой-то английский морской офицер вытащил ее из Средиземного моря при лунном свете.
Однажды в маленьком ресторанчике в бухте Хуана, она подцепила смазливого итальяшку, владельца гаража, у которого был гоночный автомобиль марки «бугатти».
Она сказала ему, что собирается купить у него машину, и пригласила к себе, чтобы вместе с ним на ней покататься;
друзья ее отговаривали, говорили ей: ты посмотри на него получше, ведь он же простой механик! – но она им не внимала, настаивала на своем, так как уже пропустила несколько стаканчиков (стоило ей опрокинуть несколько рюмок, как ей становилось на все на свете наплевать, ее интересовали тогда только пригожие молодые люди);
она села рядом с ним;
намотала на шею своей быстрой длинной рукой тяжелый шарф с бахромой и
повернувшись, сказала
с сильным калифорнийским акцентом, от которого никогда так и не освободился ее французский:
– Прощайте, друзья мои, я еду навстречу славе!
«Adieu, ruyawis, je vais a le gloire!»
Механик, включив скорость, рванул вперед.
Тяжелый шарф, шлейфом волочившийся за ней, попал в спицы колеса, намотался на них. Она сильно ударилась головой о боковину дверцы. Шофер тут же затормозил. Сломаны шейные позвонки, расквашен нос. Айседора умерла.
Новости дня LVI
Пока пока черный дрозд
ТЫ САМАЯ КРАСИВАЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ ДЕВУШКА-СТЕНОГРАФИСТКА
Никто здесь не может ни любить, ни понять меня
Ах какие ужасные истории о невезении вручают они мне
АНГЛИЯ РЕШАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ОДИНОЧКУ
вы тоже можете быстро научиться танцевать дома без музыки и без партнера… достигается тот же результат что и у опытного массажиста только все гораздо скорее легче и не столь дорого. Не забывайте только что могущие вступать в брак с необычной мощной мускулатурой мужчины будут приняты для позирования в качестве Аполлонов
Постели постельку оставь свет
Я приеду поздно только чуть свет
ЖЕНЩИНА ДОМА СТРЕЛЯЕТ ПО ВЗЛОМЩИКУ
ВЕЛИКИЙ ГЕРЦОГ ПРИБЫЛ ЧТОБЫ ПОРАЗВЛЕЧЬСЯ
ЗАТМЕНИЕ ОПАЗДЫВАЕТ НА ЧЕТЫРЕ СЕКУНДЫ
НАБЛЮДАТЕЛИ В ДАУНТАУНЕ ВИДЯТ ВЕНЕЦ
на других более дорогие одежды из турецкого шелка, тяжелой парчи, крепдешина или вельвета с украшениями из страусовых перьев может
ПАНИКА ИЗ-ЗА БЕШЕНОЙ СОБАКИ НА ПЕНСИЛЬВАНСКОМ ВОКЗАЛЕ
законченная с богатыми оттенками красота как внешняя так и внутренняя может быть достигнута только с помощью тонко чувствующей руки художника работающего над воплощением своей идеи. Он находит нужную ткань, чтобы скрыть бесформенную полноту.
От его внимания не ускользает ни одна деталь жизненных потребностей человека. Может, на бумаге выглядит глупо такое выражение, но он знает, как наращивать мозги. Если вы становитесь жертвой физического заболевания, то он может устранить боль. Он может порекомендовать вам, как следует решить все супружеские проблемы, все проблемы совместной жизни. Он – большой эксперт в вопросах секса
Пока пока черный дрозд
НЕБОСКРЕБЫ МЕРЦАЮТ НА ПУСТЫННЫХ УЛИЦАХ
было очень томно, очень розово и бело в очень розовом и белом будуаре Пегги Джойс которая протягивала свою маленькую белую ручку
Марго Доулинг
Когда Маджи подросла, то обычно ходила через дорогу на вокзал, чтобы встретить Фреда. Темными зимними вечерами она несла в руке фонарь. Фред приезжал домой из города на поезде в девять четырнадцать. Маджи была для своего возраста очень маленькой, говорила Энгис, но ее красное пальтишко тонкого сукна с воротничком из овчины, щекочущей ей ушки, все равно было ей мало, и высовывающиеся из рукавов запястья с потрескавшейся кожей обычно леденели на гулявшем по перрону холодном ветру с мокрым снегом, а проволочная ручка от фонаря больно впивалась в замерзшую ладошку. Когда она шла к вокзалу, от страха у нее всегда ползали мурашки по спине, по рукам и ногам, она постоянно боялась, что Фред снова, как это бывало не раз, появится «не в себе», с красным лицом, что он опять будет шататься и спотыкаться и она не поймет, что это он бормочет. Как это ужасно! Мистер Бемис, сутулый кассир, часто шутил по этому поводу, разговаривая с большим Джо Хайнесом, путейцем, который постоянно вертелся здесь, на вокзале, в то время, когда должен был прибыть поезд, а Маджи старалась выйти на перрон из здания, чтобы не слышать их обычных подначек.
– Могу побиться об заклад, что и сегодня Фред явится в таком же разобранном виде и от него будет разить спиртным на милю!
В таком состоянии он, конечно, нуждался в помощи Маджи с ее фонарем, так как до дома приходилось идти по скользкому и узкому дощатому тротуару. Когда она была совсем маленькой, то думала, что он так смешно ходит, выйдя из вагона, потому что очень устал после этой чудовищно тяжелой работы в городе, но когда ей исполнилось то ли восемь, то ли девять, Энгис объяснила ей, что иногда мужчины напиваются, хотя делать этого не следует. Поэтому как только показывались огни поезда, идущего из Озон-парка по длинной эстакаде, всякий раз опасения будоражили ей душу.
Иногда он вообще не приезжал, и она возвращалась домой вся в слезах; но когда все было хорошо, он обычно живо соскакивал с лесенки вагона, такой большой, широкоплечий, в своем широком пальто, пахнущем трубочным табаком, и, наклонившись над ней, быстро поднимал ее и, целуя, сажал себе на плечо вместе с фонарем.
– Ну как ты тут поживаешь, маленькая миленькая папочкина дочурка?
Какой счастливой, какой гордой она чувствовала себя, ухватив его за шею, когда они проходили мимо этого гадкого старика Бемиса, и Фред говорил тому своим гортанным глубоким голосом через толстый вязаный шарф: «Спокойной ночи, командир!» Окна вагонов, освещенные желтоватым светом, медленно удалялись, красные огни состава на хвосте, как глаза гусеницы, становились все меньше и меньше, затем вообще сливались в один, а вскоре и сам поезд исчезал с эстакады и теперь мчался где-то, невидимый, по направлению к Хеммелсу. Она все время подскакивала у него на плече, когда он вдруг, убыстряя шаг, переходил на бег по узкой деревянной тропинке, и чувствовала, как напрягаются его мышцы, когда он сильнее прижимал ее к себе, чтобы она не упала. Он еще издалека кричал Эгнис: «Ну, оставили мне хоть что-нибудь поужинать?» – а Эгнис подходила к двери, широко улыбаясь и вытирая руки о фартук, и большая кастрюля с супом уже дымилась на печи, а на кухне было так тепло, чисто, так уютно, и они разрешали Маджи допоздна сидеть с ними, покуда у нее не начинали слипаться веки, словно этот дрема, песочный человек, пришел посыпать ей песочком глаза, чтобы она скорее засыпала. Ему, по-видимому, тоже хотелось послушать увлекательные рассказы Фреда о бильярде, о тотализаторе, о скачках на ипподроме и об ужасных драках в городе.
Потом Эгнис относила ее в кроватку в холодной комнате, а Фред стоял, склонившись над ней, покуривая трубочку, рассказывал ей о кораблекрушениях у Огненных островов, как он служил в береговой охране, а она его внимательно слушала, слушала, покуда яркий свет, проникавший сюда из кухни через щели в двери, не становился все более рассеянным, и Маджи, несмотря на все свои потуги не засыпать, так как ей ужасно нравилось слышать мурлычущий голос Фреда, уже ничего не могла поделать с собой, – очевидно, этот песочный человек сегодня опоздал на свой поезд и теперь стоял за спиной отца, готовый еще подсыпать песочку ей в глаза, и тогда она все же засыпала.
Она становилась старше, уже училась в начальной школе в Роквей-парк, и былое удовольствие доводилось получать все реже. Фред все чаще и чаще приезжал пьяным или вообще не приезжал. И тогда Эгнис начинала рассказывать ей занимательные истории о давних днях, о том, как тогда было весело, и тут Эгнис вдруг неожиданно обрывала свой рассказ и начинала плакать, но, поплакав и успокоившись, продолжала рассказывать Маджи, какие они были закадычные подружки с ее матерью, о том, как обе они работали продавщицами в магазине «Сигел Купер», торговали искусственными цветами, как ходили по воскресеньям на пляж в Манхэттене, который был куда лучше пляжа на Кони-Айленде, но не такой дорогой, как у «Ориент-отеля», – на тот небольшой пляжик, на котором Фред служил спасателем.
– Видела бы ты его тогда, его мускулистое загорелое тело, он был там самым красивым мужчиной изо всех…
– Но он и сейчас красивый, Эгнис, не так ли? – с тревогой в голосе спрашивала Маджи.
– Конечно, дорогая, конечно, но нужно было поглядеть на него тогда, в те далекие годы…
Потом Эгнис рассказывала ей о том, как ему всегда везло на скачках, скольких людей он спас на водах и все спасенные им, если у них были концессии, ежегодно выписывали ему премию, и у него в карманах всегда было полно денег, и он всегда так весело, так беззаботно смеялся, он такой милый парень.
– Но у него был один недостаток, который его и погубил, – объяснила Эгнис. – Он никогда не мог никому отказать, твердо сказать «нет».
Эгнис рассказывала ей о свадьбе, о флердоранже, и о свадебном пироге, и о том, как умерла ее мать при родах.
– Она отдала свою жизнь за твою, никогда не забывай об этом, – сказала Эгнис, и Маджи сразу стало не по себе, просто ужасно.
И вот однажды, когда она, Эгнис, пришла с работы домой, она увидела его – он стоял напротив ее дома на тротуаре, в котелке, в нарядном черном костюме и предложил ей выйти за него замуж, потому что она лучшая подруга Марджери Риан, и они поженились, но Фред так и не сумел пережить своего несчастья, не мог никому сказать «нет». Поэтому начал пить, потерял свою работу на Голландском пляже, и никто больше его не брал ни на одном из пляжей из-за его дурной репутации, потому что он слыл пьяницей и драчуном, и тогда они переехали в Брод-Чэннел, но зарабатывали немного на продаже наживки рыбакам, на аренде гребных лодок, на обедах, которые они время от времени устраивали прямо на берегу. Тогда он нашел себе работу в салуне с баром на Ямайке,[25]25
Один из бедных районов Нью-Йорка. (Примеч. пер.)
[Закрыть] потому что у него такой заразительный смех и он такой пригожий, и всем он так нравился. Но это еще быстрее губило его.
– Во всем мире нет лучшего человека, чем Фред Доулинг, когда он трезвый, такой, как обычно… Никогда не забывай об этом, Маджи.
И тогда они обе начинали плакать, а Эгнис все время спрашивала, любит ли она ее так же крепко, как мать, а Маджи сквозь слезы отвечала, что да, люблю, Эгнис, дорогая.
– Ты всегда должна любить меня, – продолжала Эгнис, – потому что, очевидно, Богу было угодно лишить меня своих детей.
Маджи каждый день ездила в школу в Роквей-парк на поезде. В школе она училась хорошо, ей нравились учителя, учебники, ей нравилось петь в хоре, но дети дразнили ее, так как на ней была грубая домотканая одежда, к тому же очень смешная, и еще она была ирландкой, католичкой и жила в доме на сваях. После того как однажды на Рождество она сыграла роль Золотистого лютика в школьной пьесе, отношение к ней сразу изменилось, и теперь ей было даже лучше в школе, чем дома.
Дома всегда так много работы, Эгнис приходилось все время что-то стирать, гладить, скоблить, так как теперь Фред вообще почти не приносил денег домой. Он, пошатываясь, входил в комнату, пьяный, грязный, от него разило прогорклым пивом и виски, и начинал ругаться, ворчать по поводу еды, упрекал Эгнис за то, что она не может приготовить ему на ужин хороший кусок мяса, как бывало прежде, когда он возвращался с работы из города, а Эгнис только расстраивалась и бормотала: «Ну что я могу сделать, если нет денег?» Тогда он начинал ее оскорблять, всячески ее обзывал, а Маджи убегала к себе, в свою спальню, с силой захлопывая за собой дверь и иногда даже придвигая к ней комод. Потом ложилась в постель и долго еще дрожала. Иногда, когда Эгнис, торопясь, ставила на стол завтрак для Маджи, чтобы та не опоздала на поезд в школу, у нее под глазом красовался синяк, лицо было распухшим там, где Фред проходился по нему кулаком, и вообще у нее всегда был какой-то робкий, затравленный взгляд, который Маджи просто ненавидела. Следя за банкой сгущенного молока на плите, Эгнис цедила сквозь зубы:
– Бог видит, я делаю, что могу, так стараюсь, что даже сдираю кожу с пальцев ради него… Клянусь всеми святыми, так больше продолжаться не может.
Маджи мечтала только об одном: как бы поскорее убежать из дома.
Летом они порой развлекались, но всегда были настороже, опасаясь, как бы Фред не хлебнул лишнего. В первый день весны Фред вытаскивал из эллинга шлюпки и принимался работать как заведенный: весело насвистывая, конопатил их, красил зеленой краской, а то отправлялся ни свет ни заря за съедобными моллюсками или с бреднем за морскими звездами для наживки, и тогда в доме появлялись деньги, в больших кастрюлях на печи кипела густая рыбная похлебка по рецептам Лонг-Айленда или Новой Англии, а Эгнис со счастливым видом что-то напевала, ловко и быстро готовя обеды и сэндвичи для рыбаков, а Фред учил Маджи плавать в чистой протоке под железнодорожным мостом или брал с собой на берег, и она шлепала босыми ногами по мелководью, где водились моллюски и крабы с мягкими панцирями, а отдыхающие, бравшие напрокат лодки, в красивых модных жилетках, довольно часто протягивали ей двадцатипятицентовую монетку. Как было им всем хорошо летом, когда у Фреда наступал период трезвости! Они с удовольствием вдыхали запах теплой травы, свежесть прилива, пробивавшего себе путь через узкую бухточку, чувствовали приятное пощипывание от соленой воды и загара. Но как только появлялись деньги, Фред начинал пить, и теперь глаза у Эгнис были постоянно красными, и весь их бизнес шел к чертям собачьим. Маджи ужасно не нравилось покрасневшее, подурневшее лицо Эгнис, когда та начинала плакать, и она давала себе зарок, когда станет взрослой, никогда не плакать, что бы ни случилось.
Когда наступала хорошая везучая полоса, Фред говорил, что хочет доставить своей семье удовольствие, и все они, вырядившись, уходили из дома вместе с отцом Джо Ханса. – стариком Хансом, с густыми седыми усами, прыгающим на деревянной ноге. Они ехали на поезде на пляж и потом шли по деревянному настилу до парка развлечений в Холландс.
Там всегда было полно народу, и Маджи очень боялась, как бы невзначай не запачкать чем-нибудь свое красивое платьице. Там было так жарко, вовсю сияло солнце, а загорелые мужчины и женщины с пышными прическами лежали под наваленным на них сверху горячим песком, а Фред с Эгнис бродили вокруг в своих купальных костюмах. Маджи очень боялась больших пенистых волн, разбивающихся прямо у нее над головой. Даже когда Фред крепко держал ее, она все равно боялась и не хотела, чтобы он далеко заплывал.
Потом они одевались и, чувствуя, как чешется тело от песка, возвращались домой по деревянному широкому настилу, с обеих сторон которого стояли тележки, с которых торговали арахисом и воздушной кукурузой, и запах соленой воды смешивался с запахами «хот-догов», горчицы, пива, гремел прибой и пыхтела паровая машина, разгонявшая карусель, а эта ужасная толпа толкалась, пихалась, наступала на ноги. Она была слишком мала, и ничего не могла видеть поверх голов. Лучше было, когда Фред брал ее на плечи, хотя она, конечно, уже большая девочка и ей не к лицу ездить на папиной спине. Несмотря на то, что она такая маленькая, она постоянно одергивала подол своего светло-голубенького платьица, когда он у нее вдруг поднимался ветром, натягивая его на колени.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?