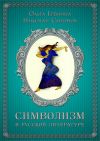Автор книги: Джонатан Стоун
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Двойной код стихов Фукс исходит не от настоящего их автора, а от неоднородной аудитории, от заложенного в них потенциала метакомментария к декадентству, основанного на внетекстовой реальности и преимущественно зависящего от читателя. Содержательность и продуктивность этих стихов – функция их рецепции, а не создания. Для лояльных читателей «Русских символистов» такая продуктивность заключается в том, что тексты эти выступают образцами декадентской эстетики. Однако вне этого контекста, в глазах широкой читающей публики, на первый план выходит их вызывающая необычность, дающая пищу для критики и принижения декадентства. Публика считала эти стихи столь же пародийными, сколь знакомые ей тексты Буренина, Соловьева и других авторов пародий на декадентство, которых становилось все больше. Но более красноречивым оказывается сравнение с «Обнаженными нервами».
Если изъять стихи Фукс из их первоначального контекста и сопоставить с рекламными преимуществами декадентства в варианте Емельянова-Коханского, то интенция этой поэзии предстанет в ином свете. Поэты раннего русского модернизма сознавали как неоднородность потенциальной аудитории, так и вероятные трудности истолкования своих стихов. Продуктивная пародия, используемая для знакомства с новым искусством абсолютно любых читателей, становилась возможной как раз благодаря несовпадению аудиторий «Русских символистов» и «Обнаженных нервов». Эта пародия рождается из концептуальной неопределенности, с которой сталкивался читатель таких стихов. Не высмеивая и не критикуя декадентство напрямую, она лишь смещает акценты, чрезмерно выпячивая крайности декадентской эстетики, ее наименее понятные и приемлемые для рядового читателя аспекты. Такая пародия служит имплицитным комментарием к присущему новой форме потенциалу непонимания и искажения. Если рассматривать стихи Фукс как часть традиции, к которой принадлежат Алексис Жасминов и Александр Емельянов-Коханский, то изолированность «Русских символистов» исчезает, а нестабильность позиции модернистов в русской литературной культуре получает подтверждение.
Стихи Фукс, рассмотренные через призму вклада Емельянова-Коханского в формировавшийся русский модернистский ландшафт 1894–1895 годов, обнаруживают целый спектр декадентской образности, а своим лирическим голосом напоминают об «Обнаженных нервах». Отсылки к европейским авторам выглядят уже не столько стилизацией или подражанием в брюсовском ключе, сколько наглядным доказательством, что декадентскую литературу можно создавать по-русски, пусть даже всего лишь в шутку. Но Емельянова-Коханского – как архидекадентского автора «Обнаженных нервов» или как призрак, преследовавший Брюсова, когда тот придумывал Фукс, – нельзя так просто оставить без внимания. Его творчество воплощает важнейшие изменения в эстетико-художественных тенденциях середины 1890‐х годов. Переклички между Фукс и Емельяновым-Коханским показывают один из способов инициирования в русской поэзии переоценки прекрасного, а также пересмотра отношений между поэтом и читателем. Стихи Фукс демонстрируют существенные черты стратегий декадентского поэтического письма как в варианте Брюсова, так и в варианте Емельянова-Коханского.
В своей попытке создания серьезной поэтической школы Брюсов делал ставку на скандальность образа декадента в глазах читающей публики. Уже в декабре 1894 года он записал в дневнике:
Таким образом, сочетание пафоса, скандальности, молодости и сумбурности с эстетикой, притязающей на изменение ценностной парадигмы, потребовало разработки многочисленных граней русского декадентства 1890‐х годов. Поэтому создаваемая пародийным кодом путаница служила продуктивным элементом представления нового искусства русскому читателю. Занимая провокационную позицию, напоминающую о крайнем декадентстве в духе Флупетта или Емельянова-Коханского, Брюсов одновременно закладывал программные основы русского модернизма, пока что находившегося в зачаточном состоянии. Он спорил с теми, кто считал модернизм шуткой, и наставлял тех, кто видел новизну и привлекательность новых форм. Это умение Брюсова одновременно выступать полемистом и ментором было очень важно для организации и продвижения его «московских декадентов». Новые читатели знакомились с символизмом не только по утонченной и выдержавшей проверку временем поэзии Брюсова, Бальмонта или Гиппиус, но и по нелепым стихам Фукс и Емельянова-Коханского. В тот ключевой момент развития русского модернизма пародия и литературная инновация дополняли друг друга. С ретроспективной научной точки зрения не приходится сомневаться в превосходстве Брюсова или Добролюбова над пародистами, к которым их приравнивали в 1890‐е годы. И все же процессы определения их ценности и взаимодействия с читателями не были такими самоочевидными, как это представляется задним числом.
Столкновения Брюсова с Емельяновым-Коханским позволили нам увидеть, как символизм и декадентство укоренялись и получали признание у русской аудитории. Однако на тот момент казалось маловероятным, что модернизм найдет в России своего читателя, а вызываемые им враждебные отклики свидетельствуют о борьбе, которую пришлось вести русским символистам. Перенос символизма на русскую почву требовал сломить сопротивление литературных критиков и концептуализировать новую художественную форму. Иллюстрацией достижения этой цели послужит обсуждение символизма на страницах двух важных толстых журналов 1890‐х годов.
История русской идеиГлавными «вырожденцами», повинными в распространении болезни, которую Макс Нордау определил просто как fin-de-siècle, были художники и писатели, нередко причисляемые к общей категории символистов и декадентов. Обозревавшему литературный ландшафт Западной Европы в 1892 году Нордау казалось, что исходившая от декадентства угроза традиционным ценностям достигла размаха эпидемии. Ответом этого врача и журналиста стал изложенный на 987 страницах диагноз «Вырождение» – «Degeneration». Мгновенно ставшая сенсацией книга Нордау много переводилась; в 1894 году вышли два русских издания. Для русских читателей его мрачная оценка нового искусства, явившаяся скорее ознакомительной, нежели ретроспективной, подчеркивала заимствованный, опосредованный и нередко сумбурный характер прихода модернизма в Россию[96]96
См.: Нордау М. Вырождение / Пер. с нем. и предисл. Р. И. Сементковского; Современные французы / Пер. с нем. А. В. Перелыгиной / Послесл. В. М. Толмачева. М.: Республика, 1995, особ. кн. I «Конец века (Fin de siècle)». О восприятии Нордау русскими модернистами см.: Matich O. Erotic Utopia: The Decadent Imaginationin Russia’s Fin de Siècle. Madison: University of Wisconsin Press, 2005. P. 13–14; Vroon R. Max Nordau and the Origins of Russian Decadence: Some Preliminary Observations // Sine Arte, Nihil: Сб. научных трудов в дар проф. Миливое Йовановичу / Сост. К. Ичин. Белград; М.: Пятая страна, 2002. P. 85–100. Вроон подробно показывает, каким всеобъемлющим было влияние Нордау в 1890‐е годы, в частности на Валерия Брюсова.
[Закрыть]. Рецензируя немецкое издание «Вырождения» в январе 1893 года, Николай Михайловский вынужден был искать подлинники цитируемых у Нордау декадентских и символистских произведений. Как литературный критик «Русского богатства» (журнала, не вполне враждебного новым литературным формам) Михайловский представлял в целом скептическое отношение к декадентству и символизму, характерное для журналов и газет 1890‐х годов. Реакция Михайловского перекликается со многими ранними читательскими отзывами о «декадент[ах], символист[ах], маг[ах] и проч.», обсуждаемых в его обзоре. Критик сетует:
Я совершенно свободно читаю по-французски, но тут мне приходилось иногда по нескольку раз перечитывать одну страницу, чтобы понять то, что на ней напечатано французскими буквами…[97]97
Михайловский Н. К. Оптимистический и пессимистический тон. Макс Нордау о вырождении: Декаденты, символисты, маги и проч (1893) // Полное собрание сочинений Н. К. Михайловского. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1909. Т. 7. С. 495.
[Закрыть]
Окольный путь его аудитории к французским декадентам (через чтение Михайловского, читающего Нордау, читающего, например, Поля Верлена) указывает на зыбкость рецепции модернизма в России. Распространение символизма и декадентства, осуществлявших крупный сдвиг не только в литературной эстетике, но и в задачах читательской интерпретации, требовало определенного руководства в самом акте чтения и понимания того, что напечатано на странице.
Статья Михайловского «Оптимистический и пессимистический тон. Макс Нордау о вырождении. Декаденты, символисты, маги и проч.» в январском номере «Русского богатства» за 1893 год приходит к обсуждению символизма и декадентства кружным путем. Непосредственным предметом разговора служит «Вырождение». Выполненные Нордау переводы французской поэзии на немецкий язык побудили Михайловского сверить их с оригиналами. В итоге даже последние оказались для Михайловского недостаточно понятными, и он признается, что «приходилось обращаться и к чужой помощи». Помогла ему в этом «Анкета о литературной эволюции» Жюля Юрэ («Enquête sur l’évolution littéraire», 1891) – сборник интервью с ведущими французскими авторами[98]98
«Анкета» сначала печаталась в виде отдельных ответов на опросник Юрэ в газете «L’Échode Paris» с 3 марта по 5 июля 1891 года. Книга состоит из ответов разных авторов, сгруппированных по принадлежности к тому или иному литературному движению в сопровождении очень сжатой вводной информации о каждой группе. Место «Анкеты» во французской литературной журналистике эпохи подробно обсуждает Памела Дженова. См.: Genova P. Symbolist Journals: A Culture of Correspondence. Burlington, Vt.: Ashgate, 2002. P. 3–22.
[Закрыть]. Такой выбор не случаен: на «Анкету» опирается в своей характеристике символизма и декадентства сам Нордау. Этот удобный для цитирования и аккуратно структурированный обзор французской литературы пользовался популярностью у иностранных критиков, пытавшихся понять символизм и декаданс. Превратившись в такой инструмент для осторожных или даже враждебных критиков символизма и декадентства, «Анкета» заметно повлияла на представление французской литературы за пределами Франции и была, соответственно, освоена (и переведена) в русских толстых журналах. Обеспечивая доступный набор определений символизма, работа Юрэ вместе с тем способствовала смешению его с декадентством, особенно в русском контексте. Такое неразличение объяснялось не только запоздалым и потому «уплотненным» развитием символизма в России. Тот факт, что символизм и декадентство попали в Россию извне, опосредованно, а также ряд публицистических текстов привели к восприятию этих терминов как взаимозаменяемых. Распространение предложенной Юрэ двойной формулы «Symbolists et Décadents» стирало различия между ними в умах русских читателей. Цитируя опросник Юрэ в нескольких заметных рецензиях, первая из которых вышла в 1893 году, Михайловский лишний раз подтвердил важность «Анкеты» для первого контакта иностранцев с символизмом и декадентством[99]99
Помимо Михайловского-рецензента книга Юрэ служила ключевым введением во французский модернизм самым разным русским авторам, от Льва Толстого (который использовал ее в своем трактате 1897 года «Что такое искусство?») до Мережковского (как будет рассмотрено ниже) и Зинаиды Венгеровой (по форме статья «Поэты-символисты во Франции» представляет собой обзор «Анкеты» Юрэ).
[Закрыть].
Рассматривая символизм и декадентство, Михайловский изначально ограничился их французскими проявлениями, однако уже в следующем месяце ему представился повод дополнить это обсуждение одним русским текстом. В своем «Русском отражении французского символизма» Михайловский отвечает на статью Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», уводя разговор от русской литературы и от понятия упадка. Обосновывая превосходство символа, Мережковский предложил довольно тонкое различение упадка и декадентства. Он подчеркнул негативные аспекты декадентства, приводя это слово в русском варианте – «упадок» – и применяя к непосредственному прошлому русской литературы по контрасту с ее исполненным смысла символистским будущим. Обратившись к символу, русская литература, по мнению Мережковского, сумела бы миновать декадентство и перейти в идеальную сферу символизма. Михайловский же оспорил такую модель литературной эволюции, вернувшись к смешанной формуле Юрэ. Реакция Михайловского на первые шаги модернизма в России – существенный элемент истории этого течения. Для знакомства русского читателя с символизмом и декадентством критик оказался так же важен, как поэт. Статьи Михайловского многое говорят о концептуальном развитии нового движения в том виде, в каком его наблюдали русские читатели.
Для Михайловского любой намек на символизм был тесно связан с термином «декадентство». Он отмел выдвинутую Мережковским пару «символизм и идеализм», бесцеремонно назвав слово, которого Мережковский тщательно избегал: «декадентство». Несмотря на пространные рассуждения о русской литературе XIX века и возведение истории символа к классической Греции, своим пониманием символизма Мережковский был явно обязан современной ему французской литературе (к которой он тоже приобщился через «Анкету» Юрэ). Распознав этот общий источник определения символизма и сведя статью Мережковского к критике подражательности, Михайловский размыл тщательно проведенные Мережковским различия. Вместо органичного развития и естественной эволюции русского символизма, предложенных Мережковским, рядовой читатель вынес отсюда впечатление его пустоты и вторичности. Михайловский отказал русскому символизму в собственной истории и наметил генеалогию, в которой термины «символизм», «декадентство» и «упадок» оказывались синонимами. Обзор Жюля Юрэ допускал такое смешение.
Михайловский считал эти идеи эквивалентными по сути, что перекликалось с различными взглядами читателей того времени на новое искусство. С точки зрения истории идей Михайловский показал, как понятие, попав на новую территорию, проникает в ее художественную и печатную культуру. Одной из движущих сил историографии идей выступает забота о создании и внедрении эстетической терминологии, разработке и распространении того или иного «изма»[100]100
Дорогу для такой методологии проложило исследование Артура Лавджоя о романтизме. См.: Lovejoy A. Essays in the History of Ideas. New York: George Braziller, 1955. P. 10; 183–206.
[Закрыть]. Михайловский продемонстрировал сумбурность и нестабильность таких определяющих моментов. Статьи Михайловского как показатель восприятия символизма в русской литературе начала 1890‐х годов подчеркивали общую читательскую склонность считать новое течение непонятным, иностранным и смешным. Отказывая символизму в какой бы то ни было русскости, Михайловский утверждал его полную новизну и чуждость русским читателям. Критик передал текучий и диалогический характер развития символизма в России. Столь специфическая институциональная рамка, как представившие символизм широкой публике толстые журналы, наложила устойчивый отпечаток на место модернизма в русском культурно-социальном контексте, особенно в вопросах взаимодействия с читателем. На фоне первых встреч движения с русской массовой печатью быстро упрочилось резкое различие между друзьями и врагами символизма, между теми, кто воспринял его с симпатией и пониманием, и теми, кто встретил его неприязнью и насмешкой. Первые появления символизма в печати отражали этот полемический режим самопрезентации и концептуализации.
Не имея сколько-нибудь продолжительной истории в контексте родной культуры, русский символизм быстро прошел через период бурного становления, приведший к шквалу основополагающих текстов в середине 1890‐х годов. Самые ранние из них – поэзия и рассказы Гиппиус, Мережковского и Сологуба – были осыпаны оскорблениями и насмешками газетных и журнальных критиков. Борис Глинский издевательски посочувствовал «бедн[ой]» «больной» Гиппиус[101]101
Глинский Б. Болезнь или реклама? // Исторический вестник LXIII. Январь, февраль и март 1896.
[Закрыть]. Те же критики, которые будут воевать с брюсовскими символистами (особенно Михайловский и Буренин), изощрялись в остроумии, комментируя творчество символистов и декадентов первой волны. Эти в целом гражданственно настроенные критики, вскормленные утилитарными традициями 1860‐х, уже распознали в новом искусстве тенденцию к искусству ради искусства. К тому моменту, когда экземпляры «Русских символистов» стали рассылать на рецензию, критический истеблишмент был уже подготовлен. Критики представляли себе общую дискурсивную рамку для обсуждения этого нового и наиболее явного русского обращения к символизму.
В этом смысле Михайловский указал отправную точку укоренения символизма в России. Его обсуждение русского «отражения» французского символизма во многом составило контрапункт неоднозначности, чувствовавшейся в тогдашнем противостоянии Брюсова и Емельянова-Коханского. Интерпретация символизма Михайловским была лишена всякого намека на ту амбивалентность, которую усматривали в «Русских символистах» и «Обнаженных нервах» наиболее благожелательные из первых читателей символизма. Критик объявил символизм абсурдным. Он документировал сопротивление и пренебрежительную враждебность, которые будут преследовать первых символистов, и создал компендиум скептических и отрицательных отзывов, вызванных новым искусством у русской аудитории, привыкшей к ангажированной прозе реализма и гражданской лирике. В выдвинутых Мережковским идеях мистицизма и идеализма Михайловский видел лишь бессмысленное нагромождение синонимов, которое он считал симптоматичным для символизма: «Читатель без труда найдет в книжке г. Мережковского другие многочисленные следы беспорядочной игры словами и понятиями»[102]102
Михайловский Н. К. Русское отражение французского символизма. С. 474.
[Закрыть]. Как и подобает поборнику реализма, Михайловский приравнивал ясность и понятность к литературным достоинствам. Он перевел пространные пассажи из «Анкеты» Юрэ – с той важной оговоркой, что решил почерпнуть цитаты не из раздела «Символисты и декаденты», а из «Парнасцев». И повторил точку зрения Леконта де Лиля на символизм и декадентство:
Представление нового искусства как бессмыслицы соответствовало точке зрения на него как на забавную диковинку, чья ценность сводится к чистой развлекательности. Сарказм Леконта де Лиля открыто намекал на никчемность символистских публикаций – этих материальных проявлений их эстетики. Повторяя мысль, будто символизм не лучше мешанины из букв на бумаге, Михайловский укрепил мнение о неуместности символизма в русской художественной и печатной культуре того времени. Таковы были основные знания о символизме, доступные русской публике на начало 1890‐х годов.
Символисты нуждались в благосклонных читателях, способных участвовать в придании ему формы. Поэтому антологии и альманахи – издания, знакомившие читателя с широким спектром нового искусства, – стали ключевыми инструментами его распространения в России. Вот как пишет о сложности представления литературы в форматах, объединяющих литературную, культурную и коммерческую ценность, Барбара Бенедикт:
Эти книги воплощают диалектическое отношение между частными читателями и профессиональной литературной культурой, во многом обусловленное исторической ситуацией. Отражая литературный выбор отдельных читателей и книготорговцев, они прививают общей культуре определенные вкусы, тем самым документируя влияние отдельных читателей на формирование литературных ценностей. Однако в то же время печатные антологии прививают культурные идеи отдельным читателям и книготорговцам, участвуя в формировании способов чтения литературы[104]104
Benedict B. Making the Modern Reader: Cultural Mediation in Early Modern Literary Anthologies. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1996. P. 4.
[Закрыть].
Обсуждаемые Бенедикт методы чтения английской литературы XVII–XVIII веков актуальны и для России XIX века. Исследовательница вкратце описывает те типы вовлеченного реципиента и сети производителей, которые окажутся идеальными для переноса символизма на русскую почву. Интерактивность символизма и усилия, которых он требовал от читателя, резко отличаются от пассивности и антипатии, с какими читает символизм Михайловский. Безусловно, утверждение модернизма потребовало нового подхода к тексту, а русские символисты столкнулись с задачей воспитать аудиторию, готовую воспринимать информацию о новом искусстве. К середине 1890‐х годов это выльется в насаждение символизма через подражание и перевод. Но корни этого восходили еще и к изменившейся концепции текста и читателя, сформулированной в одном знаковом произведении, опубликованном в «Северном вестнике» в 1892 году.
Заявление Марии Башкирцевой: «Я самая интересная книга из всех» – самая известная фраза из ее дневника. Выраженные в этой цитате солипсизм и слияние жизни с искусством оказались близки молодым художникам, воспринимавшим ее в контексте литературной культуры, которая, казалось бы, требовала внимания к «проклятым вопросам» идеологии и морали. Однако дневник Башкирцевой предлагал еще и модернистскую модель письма и чтения. Двадцатипятилетняя русская художница-эмигрантка Мария Константиновна Башкирцева (или Marie Bashkirtseff) скончалась в Париже в 1884 году. Ее дневники, опубликованные по-французски в 1887 году, а в 1889‐м – в переводе на английский, отчетливо перекликались с устремлениями многих молодых художников эпохи fin de siècle, включая Валерия Брюсова. Джоан Гроссман отмечает, что познакомился он с ними примерно тогда же, когда и со статьей Венгеровой «Поэты-символисты во Франции». Русский перевод печатался в «Северном вестнике» на протяжении 1892 года, к концу которого вышел и в виде книги. Произведение едко высмеяли именитые литературные критики (включая Михайловского в том же январском номере «Русского богатства» за 1893 год, в котором появилась его первая статья о символизме), но высокая оценка редактора «Северного вестника» Любови Гуревич сыграла важную роль в привлечении к дневникам внимания русских символистов[105]105
Grossman J. D. Valery Bryusov and the Riddle of Russian Decadence. P. 33–35. О Гуревич см.: Rabinowitz S. No Room of Her Own: The Early Life and Career of Liubov Gurevich // Russian Review. 1998. № 57/2. P. 236–243.
[Закрыть].
В знаменитом высказывании Башкирцевой подразумеваются способность текста отражать эстетические стороны жизни художника и приоритет индивидуального над социальным. Эти грани ее творчества перекликались с формировавшейся концепцией символистской книги и воплощаемым ею новым представлением о ценности[106]106
В 1897 году Стефан Малларме так высказался о всеохватности книги и примате искусства в модернистском контексте: «…зачем нужно что бы то ни было в мире, если оно не ведет к книге». Малларме С. Книга – духовный инструмент / Пер. с франц. Ю. С. Степанова // Семиотика и авангард. Антология / Под общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Академический Проект; Культура, 2006. С. 625. См. также: Arnar A. S. The Book as Instrument: Stéphane Mallarmé, The Artist’s Book, and the Transformation of Print Culture. Chicago: University of Chicago Press, 2011. P. 15–55; 141–175.
[Закрыть]. На страницах доступного широкой публике, крупнотиражного толстого журнала были представлены разные стратегии утверждения в России нового искусства. Михайловский обращался к аудитории, плохо знавшей и не склонной принимать далекую от реализма и натурализма середины XIX века французскую литературу. Он артикулировал циничное и путаное восприятие модернизма – на протяжении последующих десятилетий соответствующую точку зрения будут повторять самые непримиримые критики нового искусства. Тексты же Башкирцевой (пропущенные через фильтр эстетических предпочтений редактора «Северного вестника» Любови Гуревич и литературного критика Акима Волынского[107]107
О волынском и Гуревич см.: Rabinowitz S. No Room of Her Own; Rabinowitz S. Northern Herald: From Traditional Thick Journal to Forerunner of the Avant-Garde.
[Закрыть]) напрямую апеллировали к читателям, готовым сочувствовать молодой художнице и приобщаться к ее внутреннему миру.
Нордау особенно возмущали ошеломляющая модернистская чувственность и пагубное, тлетворное, как он полагал, влияние такой суггестивно-шизофренической литературы на умы читателей. Михайловский расширил эту трактовку Нордау, превратив ее в инструмент представления модернизма русским читателям и вместе с тем высмеивания его перед этой новой аудиторией. Поэзия Верлена и Малларме (вместе с соответствующими эстетическими идеями), попавшая в Россию в «обрамлении» рецензий Михайловского, оказалась неразрывно связана со скепсисом и недоброжелательностью критиков. Большинство русских читателей впервые узнали и осмыслили русский символизм как побочный продукт деятельности тех, кто «принимает миражи за действительность»[108]108
Михайловский Н. К. Русское отражение французского символизма. С. 474.
[Закрыть]. Публикация дневника Башкирцевой позволила иным из таких читателей увидеть эти художественные тренды в гораздо более нюансированном контексте. Читатели дневника знакомились с художественной средой Франции конца XIX века через акт сопричастности жизни и миру художницы. Безусловно, этому способствовал сам жанр дневника и авторская позиция пылкой ingénue. Но дневник Башкирцевой отличаются от других опубликованных дневников того периода и играют для культуры fin-de-siècle роль основополагающего документа благодаря авторскому умению ввести читателя в интимные художественные кружки и салоны – эти своеобразные теплицы западного модернизма. Отмечая важность салона, Михайловский не без раздражения сказал о месте читателя: «Малларме представляет собою центр некоторого кружка и имеет дело главным образом с собеседниками, а не с читателями»[109]109
Михайловский Н. К. Оптимистический и пессимистический тон. Макс Нордау о вырождении. С. 501.
[Закрыть]. Это невнимание к читателю в пользу непосредственного и эфемерного собеседника – жест потенциально отчуждающий, даже конфронтационный. Знакомясь с символизмом издалека, русские нередко проникались недоуменной неприязнью к этому новому и преднамеренно недоступному опыту.
Сочувственное же восприятие и вытекающее из него стремление подражать предполагали опыт более интерактивный и демократичный. С ним молодые русские символисты как читатели литературы и литературной критики в рамках главной русской печатной площадки 1890‐х – толстого журнала – знакомились по дневникам Башкирцевой. Ее приглашение приобщиться к европейской культурной жизни эпохи формирования модернистского сознания стало мощным толчком для русского «доморощенного» символизма[110]110
В начале 1895 года Александр Ланг (Миропольский) пишет Брюсову письмо, в котором комментирует критические отклики на символизм и упоминает внимание к «первому выпуску стихов доморощ. декадентов», то есть первому выпуску «Русских символистов» (РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 40. Л. 3).
[Закрыть]. В тексте Башкирцевой преобладают интимные моменты, показывающие культурное окружение через призму личного восприятия. Она рассказывает об обедах и частных визитах известных художников и критиков. Мы наблюдаем за созданием и рецепцией работ в свете повседневной жизни автора. Мы слышим отзывы публики о ее картинах, оттеняемые обыденностью дневниковых записей. Одна из самых запоминающихся черт этих дневников – обилие восклицаний и риторических вопросов, при помощи которых Башкирцева передает свое эмоциональное состояние. Это окно в социальную жизнь современного художника с ее эстетическими отголосками показало возможность подобного общества и в России. Читатели получили представление о том, какое место модернизм мог бы занять в их родной культуре. Русские модернисты увидели, как можно наладить сети и организовать группы, которые позволили бы перехватить контроль над механизмами публикации и воспитания своего особого круга читателей.
Одной из важнейших черт таких читателей должно было стать активное чтение вместо пассивного. Преисполненные симпатии или даже эмпатии читатели – участники интерпретации символизма были необходимы движению для завоевания надлежащей ценности в контексте русской литературы. Дневник Башкирцевой стал своего рода ориентиром, помогшим придать форму и наполнение идее, которая пребывала еще в зачаточном состоянии и казалась для России чуждой. Этот текст противостоял страхам и тревогам Нордау и его рупора – Михайловского перед лицом распространяющегося символизма, вселяя в читателей «Северного вестника» известный оптимизм и чувство определенного направления в развитии русского модернизма.
Описывая предполагаемое обращение России к символу, Мережковский пытался уйти от того смысла, который понятия символизма и декадентства успели аккумулировать на Западе. Он предложил буквальное прочтение «упадка» и отождествление символического с идеальным. По большей части эти своеобразные трактовки обречены были остаться нереализованными путями в развитии русской литературы, поскольку им тут же были противопоставлены экспликации символизма и декадентства, в которых заимствованные элементы переплетались с русским дискурсом. Доступность такого компендиума обсуждений и примеров символизма и декадентства, как «Анкета» Юрэ, привела к изначальному смешению в России этих идей. Поскольку на момент возникновения русских символизма и декадентства их западные аналоги успели уже достичь зрелости, русский читатель столкнулся с языком, который одновременно описывал и предписывал соответствующую эстетику. Опираясь на итоговый опыт обоих французских течений, при создании собственных знаковых произведений первые русские символисты и декаденты использовали перевод и заимствование.
Михайловский поднял один ключевой вопрос, который оставался в центре обсуждения символизма в России с момента его возникновения вплоть до кризиса и упадка двадцатью годами позже:
Спрашивается, что же связывает всех этих людей в одно, хотя бы расплывающееся и разношерстное целое? Или нет такой общей скобки, за которую можно бы было поставить их всех, – талантливых и бездарных, убежденных и фокусников?[111]111
Михайловский Н. К. Оптимистический и пессимистический тон. Макс Нордау о вырождении. С. 503.
[Закрыть]
Далее он говорит, что у Нордау была для них общая категория: вырождение. Хотя большинство читателей Михайловского, несомненно, охотно согласились бы с утверждением Нордау, печатная культура начала 1890‐х предлагала и альтернативный способ именования и освоения этого целого: русские символисты. Уже через год после выхода статьи Михайловского этот вызов будет принят группой поэтов, причем работы самого Михайловского способствуют этому не меньше, чем тексты Мережковского и Башкирцевой. Рядом с живым изображением нового искусства у Башкирцевой предпринятый Михайловским обзор модернизма казался чем-то вроде тупого инструмента.
Первые проявления русского символизма сопровождались впечатлением какофонической неоднозначности, характерным для первых встреч русского читателя с модернизмом. Именно в этой атмосфере институциональной неразберихи и концептуального сумбура русские символисты ассимилировали идею, уже имевшую историю непростых взаимоотношений с литературной культурой 1890‐х годов. Утопая в море пародийных и критических откликов, символисты и декаденты решали грандиозную задачу. Им предстояло утвердить концепцию своего искусства на собственных условиях и создать для него собственные пространства. Черты, приобретенные движением с подачи толстых журналов, и напряжение между благожелательной и враждебной аудиторией, сопровождавшее первые русскоязычные обсуждения, отразились в попытках русских символистов начала XX века создать символистскую книгу и воспитать символистскую аудиторию. Основы фундаментального сдвига в способах чтения и оценки литературы были заложены при столкновении символизма с критическим истеблишментом. Оценочная система, против которой боролись символисты, ярко проявляется в рецензиях и насмешках Михайловского и подобных ему критиков. Все это лишь укрепляло новых художников в стремлении учредить институты русского модернизма, в которых роли автора и читателя оказались бы переосмыслены. При этом руководствовались они историей символистской идеи, впервые представленной читателям как раз в характерном для XIX века пространстве толстого журнала. Но одним из непосредственных следствий этого явилось чувство нестабильности, вызванное в корне амбивалентной концептуализацией русского символизма середины 1890‐х годов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?