Текст книги "1984. Дни в Бирме"
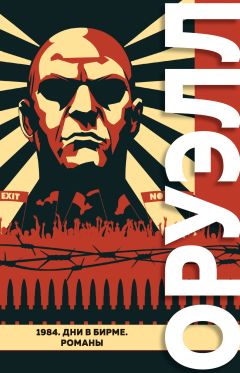
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Ему стало гораздо лучше. С каждым днем – если можно было говорить о днях – он набирал вес и силы.
Яркий свет и гудение остались, но обстановка была чуть удобней, чем в прежних камерах. Теперь на дощатой койке появились подушка и матрас, а рядом стоял табурет. Уинстона сводили в баню и довольно часто разрешали мыться в жестяной бадье. Ему даже приносили теплую воду. Ему выдали новое белье и чистый комбинезон. Варикозную язву забинтовали с болеутоляющей мазью. Оставшиеся зубы вырвали и вставили протезы.
Прошло несколько недель или даже месяцев. Теперь он мог вести счет времени, если бы это его хоть немного заботило, поскольку кормили его, кажется, через равные интервалы. Он предполагал, что еду приносят три раза в сутки; иногда он гадал, днем или ночью. Еда была на удивление хорошей, каждый третий раз давали мясо. Однажды выдали даже пачку сигарет. У него не было спичек, но молчаливый охранник, который приносил еду, давал прикурить от зажигалки. От первой затяжки его замутило, но он проявил настойчивость и надолго растянул пачку, выкуривая полсигареты после каждого приема пищи.
Ему выдали белую грифельную доску с огрызком карандаша, привязанным к углу. Первое время он ее не трогал. Даже если он не спал, им владела апатия. Часто он только и делал, что ел и лежал, почти не шевелясь, и сны сменялись мутным забытьем, в котором он не утруждался открывать глаза. Он давно привык спать с сильным светом в лицо. Спалось ему примерно так же, разве что сны стали более связными. Все это время он видел множество снов – и всегда счастливых. Он оказывался в Золотой стране или сидел среди огромных величественных руин, залитых солнцем, с матерью, Джулией, О’Брайеном – они ничего не делали, просто сидели на солнце и говорили о мирных вещах. Когда он не спал, почти все его мысли были об этих сновидениях. Он словно бы утратил способность к умственной деятельности, как только прекратилась болевая стимуляция. Он не скучал и не испытывал нужды ни в общении, ни в развлечениях. Лишь бы только оставаться одному, чтобы его не били и не допрашивали, лишь бы хватало еды и давали мыться.
Постепенно он стал меньше спать, но все равно не испытывал желания вставать. Ему хотелось только тихо лежать и чувствовать, как тело набирает силы. Он ощупывал себя в разных местах, убеждаясь, что мышцы в самом деле округляются, а кожа становится упругой. Наконец, он удостоверился, что набирает вес: бедра стали определенно толще коленей. Тогда он начал регулярно упражняться, поначалу с неохотой. Довольно скоро Уинстон уже нагуливал по три километра, меряя шагами камеру, и сутулые плечи начали распрямляться. Он попробовал упражнения посложнее и, к своему изумлению и стыду, выяснил, что почти ничего не может. Он не мог передвигаться иначе, кроме как шагом, не мог держать табуретку на вытянутой руке или стоять на одной ноге, не заваливаясь. Присев на корточки, он выяснил, что может встать без помощи только ценой дикой боли в бедрах и икрах. Он лег на живот и попытался отжаться. Безнадежно, он не смог оторваться от пола ни на сантиметр. Но всего через несколько дней – через несколько кормежек – он справился и с этим. Пришло время, когда он смог отжаться шесть раз подряд. Он начал даже гордиться своим телом, и его стала посещать надежда, что и лицо постепенно возвращается к норме. Но всякий раз, как он касался лысой головы, в памяти всплывало лицо, смотревшее на него из зеркала, – измятое и безжизненное.
Разум его постепенно пробуждался. Уинстон садился на койку спиной к стене, укладывал грифельную доску на колени и сознательно занимался перевоспитанием.
Он признал поражение, ясное дело. В действительности – теперь он это понимал – он был готов признать поражение задолго до того, как все произошло. Едва оказавшись в Министерстве любви – да что там, с той минуты, как они с Джулией беспомощно стояли, слушая команды железного голоса из телеэкрана, – он постиг всю вздорность и легковесность своих попыток противостоять Партии. Теперь он понимал, что Мыслеполиция уже семь лет наблюдала за ним, точно за жуком в лупу. Ни одно его действие, ни одно сказанное слово не осталось для них незамеченным, ни одно умозаключение – неразгаданным. Даже белесую пылинку на обложке его дневника они аккуратно снимали и возвращали обратно. Они включали ему аудиозаписи, показывали фотографии. В том числе фотографии их с Джулией. Да, даже те, где они… Он больше не мог бороться с Партией. К тому же Партия была права. Должна быть права; разве может ошибаться бессмертный коллективный мозг? Каким внешним критерием можно проверить его суждения? Здравомыслие – это статистика. Вопрос состоял лишь в том, чтобы научиться думать, как они. Только!..
Карандаш в пальцах показался толстым и неудобным. Уинстон начал записывать мысли, приходившие ему в голову. Прежде всего он написал большими неровными буквами:
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
И почти сразу под этим:
ДВАЖДЫ ДВА – ЧЕТЫРЕ
Затем произошла какая-то заминка. Разум его, словно пасуя перед чем-то, казалось, не мог сосредоточиться. Он понимал, что следует дальше, но никак не мог вспомнить. А когда вспомнил, это случилось не само собой, а только путем логических рассуждений. Он написал:
БОГ – ЭТО ВЛАСТЬ
Он принял все. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не меняется. Океания воюет с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией. Джонс, Аронсон и Рузерфорд виновны в преступлениях, в которых их обвиняли. Он никогда не видел фотографии, доказывавшей их невиновность. Ее никогда не существовало, он ее выдумал. Он знал, что помнил другое, но то были ложные воспоминания, следствие самообмана. Как все просто! Только сдайся, и все последует само собой. Это как плыть против течения, которое отбрасывает тебя назад, как бы ты ни старался, а затем вдруг развернуться и поплыть по течению без всяких усилий. Ничто не менялось, кроме твоего отношения: чему быть, того не миновать. Он с трудом понимал, с чего вообще бунтовал. Все было просто, кроме!..
Что угодно может быть правдой. Так называемые законы природы – это чушь. Закон тяготения – чушь.
«Если бы я захотел, – сказал О’Брайен, – я бы взмыл сейчас в воздух, как мыльный пузырь». Уинстон обосновал это. «Если он думает, что взмывает с пола, и если я одновременно думаю, что вижу это, значит, так и есть».
Внезапно, как обломок кораблекрушения, всплывший из-под воды, в сознание ворвалась мысль: «А вот и нет. Мы это воображаем. Это галлюцинация, самовнушение». Он тут же затолкал эту мысль поглубже. Ошибочность ее была очевидна. Она предполагала, что где-то вне тебя существует «реальный» мир, где случаются «реальные» вещи. Но откуда взяться такому миру? Разве можем мы познать что-то иначе, чем нашим умом? Все случается в уме. Что случается во всех умах, случается на самом деле.
Он разделался со своей ошибкой без труда, она ему больше не грозила. Тем не менее он сознавал, что она никогда не должна возникать у него. Всякий раз, как появится опасная мысль, разум должен включать слепое пятно. Нужно делать это автоматически, инстинктивно. На новоязе это называется самостоп.
Он принялся упражняться в самостопе. Он предлагал себе утверждения – «Партия говорит, что Земля плоская», «Партия говорит, что лед тяжелее воды» – и тренировался не видеть или не понимать доводов, им противоречивших. Непростое занятие. Требовалась большая сила убеждения и изобретательность. К примеру, арифметические задачи, такие как «дважды два – четыре», выходили за пределы его умственных способностей. С ними, кроме прочего, требовалась определенная гибкость ума, способность в один момент проводить тончайшие логические заключения, а в другой – не сознавать грубейших логических ошибок. Не меньше интеллекта требовалась тупость, и достичь ее было не так-то легко.
Между тем его продолжал занимать вопрос, когда же его расстреляют. «Все зависит от тебя», – сказал О’Брайен; но Уинстон знал, что нет такого сознательного действия, которое могло бы приблизить его к этому. Возможно, ему осталось жить десять минут; возможно – десять лет. Его могли держать годами в одиночном заключении, могли отправить в трудовой лагерь, могли ненадолго выпустить, как иногда делали. Вполне возможно, что перед расстрелом с ним заново разыграют драму с арестом и допросом. Одно он знал доподлинно: смерть не приходит тогда, когда ее ждешь. Традиция – негласная, ты знал ее каким-то образом, хотя никогда не слышал о ней, – была такова, что стреляли сзади; всегда в затылок, без предупреждения, пока ты идешь по коридору из одной камеры в другую.
В один прекрасный день – хотя «день» стал понятием условным; с неменьшей вероятностью была глубокая ночь; словом, однажды – он впал в странное, блаженное забытье. Он шел по коридору, ожидая выстрела. Он знал, что это вот-вот случится. Все было улажено, заглажено, согласовано. Не осталось никаких сомнений, доводов, не осталось боли, страха. Тело его стало здоровым и крепким. Он шел легко, радуясь движению и чувствуя солнечный свет. Он шагал уже не по узкому коридору Министерства любви, а по огромной, залитой солнцем галерее в километр шириной, как с ним бывало в наркотическом бреду. Он был в Золотой стране и шел по тропе через старое пастбище, выщипанное кроликами. Под ногами пружинил дерн, пригревало ласковое солнце. По краю луга тянулись вязы, слегка покачиваясь, а где-то неподалеку журчал ручей, и в зеленых заводях под ивами плескалась плотва.
Он вздрогнул и в ужасе очнулся. Пот прошиб его вдоль хребта. Он услышал свой крик:
– Джулия! Джулия! Джулия, любимая! Джулия!
На миг его охватила уверенность, что она здесь. Казалось, она не просто с ним, а внутри его. Словно проникла ему под кожу. В тот миг он любил ее сильнее, чем на свободе, когда они были вместе. А еще он понял, что она жива, неведомо где и нуждается в его помощи.
Уинстон лежал на спине и пытался собраться с мыслями. Что он наделал? На сколько лет затянул свое рабство из-за этого момента слабости?
Сейчас он услышит топот сапог за дверью. Такой срыв не останется безнаказанным. Теперь они поймут, если не поняли раньше, что он нарушает условия заключенного с ними соглашения. Он подчинился Партии, но все еще ненавидел ее. В прежние дни он скрывал свое инакомыслие под личиной конформизма. Теперь он отступил еще на шаг: умом он сдался, но надеялся сберечь душу. Он знал, что неправ, но эта неправота была дорога ему. Они догадаются – О’Брайен догадается. Один глупый крик выдал его с потрохами.
Ему придется начать все сначала. На это могут уйти годы. Он провел рукой по лицу, пытаясь свыкнуться со своим новым обликом. Глубокие морщины на щеках, заострившиеся скулы, приплюснутый нос. Кроме того, с тех пор как он видел себя в зеркале, ему поставили зубные протезы. Нелегко сохранять непроницаемый вид, когда не знаешь, как выглядит твое лицо. В любом случае одного выражения лица недостаточно. Он впервые осознал, что, если хочешь сохранить секрет, надо прятать его даже от себя самого. Следует всегда помнить о тайне, но не давать ей без лишней необходимости возникать в сознании в узнаваемом виде. Отныне он должен не только правильно думать – он должен правильно чувствовать и видеть правильные сны. Должен всегда держать ненависть глубоко внутри, как некий ком, неотделимый от тела и вместе с тем чужеродный ему, вроде какой-нибудь кисты.
Когда-нибудь они решат расстрелять его. Нельзя сказать, когда это случится, но наверняка можно почувствовать за несколько секунд. Стреляют всегда сзади, когда идешь по коридору. Десяти секунд должно хватить. За это время мир внутри его может перевернуться. И тогда внезапно, без единого слова, не сбившись с шага, не изменившись в лице, он резко скинет камуфляж и – бабах! – грохнут батареи его ненависти. Ненависть взметнется в нем, точно ревущее пламя. И почти в тот же миг – бабах! – ударит пуля, слишком поздно или слишком рано. Они вышибут ему мозги, не успев навести в них порядок. Еретическая мысль избежит наказания, умрет без покаяния – ускользнет от них навсегда. Они продырявят собственное совершенство. Умереть с ненавистью к ним – вот она, свобода.
Он закрыл глаза. Это потруднее, чем усвоить умственную дисциплину. Тут требуется самоунижение, саморазложение. Нужно окунуться в мерзейшую мерзость. Что самое ужасное, самое отвратное из всего? Он подумал о Большом Брате. В сознании невольно всплыло огромное лицо (он так часто видел его на плакатах, что представлял не иначе, как в метр шириной) с густыми черными усами и глазами, неотступно следившими за ним. Что он на самом деле испытывал к Большому Брату?
Из коридора послышался тяжелый топот сапог. Стальная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О’Брайен. За ним стояли офицер с восковым лицом и охрана в черной форме.
– Вставай, – велел О’Брайен. – Подойди.
Уинстон встал напротив него. О’Брайен взял Уинстона за плечи своими сильными руками и внимательно посмотрел на него.
– Ты думал обмануть меня, – сказал он. – Это было глупо. Встань ровнее. Смотри мне в лицо.
Он помолчал и продолжил, смягчив тон:
– Ты идешь на поправку. В умственном плане ты почти в полном порядке. А вот в плане чувств прогресса не наблюдается. Скажи, Уинстон, – и помни, врать нельзя: ты знаешь, я всегда сумею распознать ложь, – скажи, что ты на самом деле чувствуешь к Большому Брату?
– Я ненавижу его.
– Ты ненавидишь его. Хорошо. Тогда пришло время сделать последний шаг. Ты должен полюбить Большого Брата. Подчиниться ему недостаточно – нужно полюбить его.
Он отпустил Уинстона, слегка подтолкнув его к охране.
– В сто первую, – приказал он.
VНа каждом этапе своего заключения Уинстон знал, или так ему казалось, в какой части безоконного здания он находится. Возможно, сказывались легкие перепады в атмосферном давлении. Камеры, где его избивала охрана, были под землей. Комната, где его допрашивал О’Брайен, находилась под самой крышей. А сейчас он оказался на предельной глубине, глубже некуда.
Камера оказалась самой просторной из всех, где ему приходилось бывать. Из обстановки он заметил только два столика, покрытых зеленым сукном. Один стоял в паре метров от него, а другой подальше, у двери. Его привязали к креслу так туго, что он не мог пошевелить даже головой. Затылок был схвачен зажимом, и Уинстону приходилось смотреть прямо перед собой.
Вскоре открылась дверь и вошел О’Брайен.
– Ты как-то спросил меня, – сказал О’Брайен, – что в сто первой комнате. Я сказал, что ты уже знаешь ответ. Все его знают. В сто первой комнате – самое страшное на свете.
Дверь снова открылась. Вошел охранник, держа в руках что-то решетчатое, какую-то коробку или корзину. Он поставил ее на дальний столик. О’Брайен загораживал вид, и Уинстон не мог разглядеть, что внутри.
– Самое страшное на свете, – продолжил О’Брайен, – у каждого свое. Иногда это погребение заживо или сожжение, утопление или сажание на кол, и еще полсотни смертей. А бывает, что это какие-то тривиальные вещи, даже не смертельные.
Он шагнул в сторону, чтобы Уинстон смог лучше разглядеть, что на столе. Там стояла вытянутая металлическая клетка с ручкой сверху для переноски. На передней стенке крепилось нечто наподобие фехтовальной маски, причем вогнутой стороной наружу. И хотя до клетки было три-четыре метра, Уинстон рассмотрел, что она разделена на две продольные части. В каждой что-то шевелилось. Это были крысы.
– В твоем случае, – сказал О’Брайен, – самое страшное на свете – это крысы.
Едва увидев клетку, Уинстон ощутил непонятную дрожь предчувствия, безотчетный страх перед неведомым. Но только сейчас он вдруг понял назначение странной маски, приделанной спереди. Его внутренности словно растворились.
– Вы не сделаете этого! – выкрикнул он надтреснутым фальцетом. – Вы не станете, не станете! Это невозможно!
– Помнишь, – сказал О’Брайен, – тот момент паники в твоих снах? Ты на пороге тьмы, в ушах стоит рев. По другую сторону тьмы что-то ужасное. Ты понимал, что там, но не смел себе признаться. Там были крысы.
– О’Брайен! – сказал Уинстон, стараясь контролировать голос. – Вы знаете, в этом нет необходимости. Что вы хотите, чтобы я сделал?
О’Брайен не дал прямого ответа. Он заговорил в манере школьного учителя, как делал иногда. Взгляд его устремился вдаль, словно он обращался к аудитории за спиной Уинстона.
– Одной боли, – сказал он, – не всегда достаточно. Бывают случаи, когда человек выдержит любую боль, даже вплоть до смерти. Но у каждого есть что-то непереносимое – что-то, чего он не может видеть. Храбрость и трусость тут ни при чем. Если ты падаешь с высоты, хвататься за веревку – не трусость. Если ты вынырнул с большой глубины, жадно глотать воздух – не трусость. Это лишь инстинкт, который не искоренишь. Точно так же с крысами. Для тебя они непереносимы. Давление, которого тебе не вынести при всем желании. Ты сделаешь, что от тебя требуется.
– Но что это, что? Как я могу сделать то, чего не знаю?
О’Брайен взял клетку и перенес на столик поближе. Он аккуратно поставил ее на сукно. Уинстон слышал, как кровь гудит в ушах. Он чувствовал себя бесконечно одиноким. Он находился посреди бескрайней равнины, плоской пустоши, залитой солнцем, и все звуки доносились до него из далекой дали. А в паре метров от него стояла клетка с крысами. Крысы были огромными, в том возрасте, когда морда становится плоской и свирепой, а шерсть из серой делается бурой.
– Крыса, – сказал О’Брайен, все так же обращаясь к невидимой аудитории, – хоть и грызун, но плотоядный. Тебе это известно. Ты слышал, что бывает в бедных кварталах города. Есть улицы, где женщина не может оставить ребенка в доме даже на пять минут. Крысы тут же нападут. Им немного нужно времени, чтобы обглодать ребенка до костей. Они также атакуют больных и умирающих. У них поразительное чутье на беспомощных людей.
Крысы пронзительно завизжали. Уинстону показалось, что звуки доносятся издалека. Крысы злобно кидались на перегородку, пытаясь добраться друг до друга. Уинстон услышал глубокий стон отчаяния, который тоже, казалось, донесся издали.
О’Брайен поднял клетку и что-то на ней нажал. Раздался резкий щелчок. Уинстон безумным рывком попытался вскочить с кресла. Бесполезно; он был намертво привязан, включая голову. О’Брайен с клеткой приближался. До лица Уинстона оставалось меньше метра.
– Я нажал первый рычажок, – пояснил О’Брайен. – Устройство клетки тебе понятно. Маска обхватит тебе голову, не оставив выхода. Когда я нажму другой рычажок, дверца клетки поднимется. Эти голодные хищники вылетят, как пули. Ты видел, как прыгает крыса? Они наскочат тебе на лицо и сразу вцепятся в него. Иногда они первым делом выгрызают глаза. Иногда прорывают щеки и сжирают язык.
Клетка приближалась, надвигалась на него. Уинстон услышал прерывистый визг, доносившийся словно откуда-то сверху. Но он отчаянно боролся с паникой. Думать, думать, даже в последнюю долю секунды вся надежда – на мысль. Вдруг в нос ударил гнусный звериный запах. Рвотный спазм сдавил горло, и Уинстон едва не отключился. Все окуталось чернотой. На миг он обезумел, издав животный крик. Но он вынырнул из черноты, ухватившись за идею. Был один-единственный способ спастись. Надо поставить между собой и крысами другого человека, другое человеческое тело.
Окружность маски уже заслоняла все вокруг. Решетчатая дверца была в двух пядях от его лица. Крысы знали, что их ждет. Одна из них скакала на месте, другая – шелудивый старожил сточных канав – привстала, держась розовыми лапками за прутья и потягивая носом воздух. Уинстон видел усы и желтые зубы. Снова его захлестнула черная паника. Он был слеп, беспомощен, безумен.
– Такая казнь широко применялась в Императорском Китае, – сказал О’Брайен в своей наставительной манере.
Маска легла Уинстону на лицо. Проволока царапала щеки. Как вдруг – нет, это не было решением, лишь надеждой, слабым проблеском надежды. Пожалуй, уже поздно, слишком поздно. Но он внезапно понял, что во всем мире есть только один человек, на которого он мог переложить наказание, одно тело, которое он мог впихнуть между собой и крысами. И он неистово закричал, повторяя на все лады:
– Возьмите Джулию! Возьмите Джулию! Не меня! Джулию! Мне все равно, что вы с ней сделаете. Оторвите ей лицо, обдерите до костей. Не меня! Джулию! Не меня!
Он падал спиной в бездонные глубины, удаляясь от крыс. Он был по-прежнему привязан к креслу, но проваливался сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в космическое пространство, в межзвездные бездны – все дальше, дальше, дальше от крыс. Между ними стояли световые годы, но О’Брайен все так же находился рядом с ним. А щека все так же ощущала холодное прикосновение проволоки. Через тьму, которая его окутала, он услышал еще один металлический щелчок и понял, что дверца клетки не открылась, а закрылась.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































