Текст книги "Да будем мы прощены"
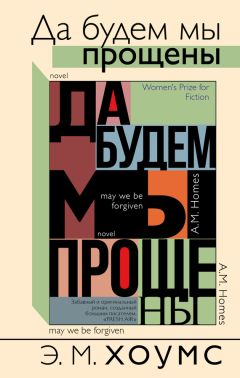
Автор книги: Э. М. Хоумс
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Я пожимаю плечами, открываю дверь. На полу записка: «Ты гад. Ты еще заплатишь».
Я показываю полисмену инсталляцию «Моя жизнь» из белых картонных коробок. Провожу для него экскурсию по дому, в спальню наверху, объясняю, почему нет ламп при кровати. Указываю в сторону кабинета Джорджа, где много семейных фотографий из «старых добрых времен», что бы это ни значило.
– Похоже, вы на своем месте, – говорит коп, уходя. – Берегите себя.
Это происходит чуть позже, когда я чищу зубы. Будто вода ворвалась потоком, будто я тону. Я чищу зубы, полощу рот, смотрю на себя в зеркало. У меня болит голова, болит глаз, и вдруг вижу, что мое лицо раскалывается и половина его опадает, будто перед плачем. Просто опадает. Я хочу состроить гримасу, хочу осклабиться – едва улыбается половина рта. Как будто я сам над собой издеваюсь, будто мне вкололи новокаин. Ручкой зубной щетки я трогаю лицо, чуть не протыкаю щеку – ничего не чувствую. И понимаю, что как-то оползаю, как поврежденная марионетка. Работаю только одной рукой. Хромаю, выходя из ванной. Ощущение, будто голову завернули в пластик: не то чтобы боль, а размягчение, будто я плавлюсь и стекаю по собственной шее. А лицо в зеркале продолжает опадать, совсем провисает – я сразу старею на сотню лет. Хочу поменять выражение лица – и не могу.
Я говорю себе, что это пройдет. Просто мне попало что-то в глаз – мыло, скажем, – и вымоется слезами.
Выхожу из ванной, одеваюсь, – кажется, часы уходят. Я измотан. Я даже не знаю, лечь или все-таки двигаться. Соображаю, что мне нужна помощь. Собака на меня смотрит странно.
– Что-то случилось? – спрашиваю я. – Не могу понять, что говорю. А ты?
Правая нога – как резиновая лента, пружинит, выскальзывает из-под меня. Я хочу позвонить своему доктору, но не только номера его не помню, а вообще с телефоном не управляюсь. Ладно, думаю, сам себя в больницу отвезу.
Выбираюсь как-то из дому и влезаю в машину. Ставлю рычаг на задний ход и тут соображаю, что ключа у меня нет и мотор не работает. Тогда снимаю ногу с тормоза и выхожу.
Машина катится по дорожке.
Меня рвет там, где стою. Машина выкатывается на улицу, под колеса едущей по дороге. Столкновение.
Почему-то я еще стою на дорожке, рядом с лужей рвотных масс.
Прибывший коп – тот самый, что помнит меня по парку.
– Как можно так с утра напиваться? – спрашивает он.
Я не могу ответить.
– Его не было в машине, – говорит женщина из соседнего дома. – Он просто так тут стоял.
Я пытаюсь сказать: «Больница», – не получается. Пробую произнести «Скорая» – слово расползается.
– ДЕБИЛ! – говорю я вдруг совершенно четко.
Показываю жестом, чтобы мне дали перо и бумагу. Тем же жестом, которым в ресторане прошу счет, пожалуйста. Показываю: написать. Мне кто-то дает бумагу и ручку.
– Заболел, – пишу я большими дрожащими буквами. Это усилие меня добивает, я падаю на землю.
– Может, воды ему, – говорит кто-то. Я удивляюсь: полить? Как растение?
«Скорая». Очень громко. Все слишком, все обидно, все оскорбительно. Слишком быстро, слишком медленно. До тошноты. Никогда так не тошнило. Может, меня отравили, думаю. Может, в этом дело, в этом спрее, а может, в пещере из коробок в гостиной, может, она источает ядовитые пары, потому что прежняя моя жизнь гниет в этих ящиках и испускает миазмы. От этих мыслей я начинаю беспокоиться, что у меня логика расшаталась.
Нарушение кровотока, тромб, инсульт, утечка в голове. Рентген, МРТ, какой-то анализ крови, тканевый активатор профибринолизина, аритмия, эндоскопия артерий, церебральная ангиопластика, эндартерэктомия сонной артерии. Стент.
А все Джордж виноват. Джордж со своим письменным столом, со своим скоростным Интернетом. Во всем он виноват: в том, что я слишком много часов посвящал той деятельности, которую открыл для себя недавно – тут и физическое истощение от избыточного, – ох, чересчур избыточного! – секса, и напряжение, травма. Во всем виноват Джордж и его аптечка. Джордж, «работник новостной программы», считал, что должен знать все обо всем. Вот и аптечка у него была набита всякими виаграми и прочей дрянью. Комбинация его компьютера, его аптечки и событий последних недель – конкретно, я про Джейн, – вызвали у меня что-то вроде мании, сексуальное безумие, резко оборвавшееся вот здесь, на каталке в отделении «Скорой помощи».
Это что было – всерьез, оно, – или легкая дрожь, предупреждение? Мне становится лучше? Ощущение снящегося под водой сна уходит?
Над моей каталкой стоит сестра.
– Мистер Сильвер, проблема с вашей страховкой. Похоже, она отменена. У вас есть с собой действующая страховочная карта?
– Тесси.
Я пытаюсь объяснить, что некому покормить Тесси и погулять с ней. Но всем наплевать, никто внимания не обращает, пока я не выдергиваю иглу капельницы.
– Кто-то, чтобы погулял с этой проклятой псиной.
Меня стараются уложить обратно, спрашивают, есть ли собака на самом деле, и сообщают, что есть волонтерская программа ухода за животными.
– Позвонить моему адвокату, – говорю я.
Мне приносят телефон.
Не знаю, почему номер Ларри выделяется как определившийся на моем телефоне. «Трейн и Трауб», 212-677-3575.
– Ларри, – говорю я. – Скажи Клер, что у меня инсульт.
Сам слышу, как получается: «Гарью жуй эклер меня несут».
– Как? – переспрашивает Ларри.
Я стараюсь отчетливее:
– Ты не мог бы сказать Клер, что у меня инсульт?
– Это ты, что ли?
– Кто ж еще?
– Ты решил доставать меня звонками?
– Нет.
Слышу свой голос. Звучит так, будто я носок жую.
– Не стану я ей говорить, – отвечает он. – Это манипуляция. И откуда вообще я знаю, что у тебя инсульт, а не спьяну мордой грохнулся?
– Я в приемном отделении, Ларри. Меня тут спрашивают про страховку, я им только отвечаю «не волнуйтесь, есть у меня страховка».
– Нет у тебя страховки. Тебя Клер исключила. Я исключил по ее просьбе.
Я снова блюю, размазывая рвоту по проводам электрокардиографа.
– Поскольку вы официально продолжаете состоять в браке, у тебя кое-какие возможности есть. Ты можешь оспорить это решение.
– Ничего не могу оспорить. Едва могу говорить.
– В больнице может найтись адвокат.
– Ларри, пожалуйста, попроси Клер прислать мне по факсу копию страховочной карты, – прошу я, и сестра забирает у меня телефон из руки.
– Мистера Сильвера нельзя волновать – у него мозговые явления. Волнение при этом диагнозе никак не показано.
Ларри что-то ей говорит, и она отдает мне трубку.
– Ваш друг хочет сказать последнее слово в разговоре.
– Ладно, – говорит мне Ларри. – Я все сделаю, улажу вопрос. Считай это одолжением с моей стороны. Последним, которое я тебе делаю.
Интересно, Никсону тоже пришлось разбираться с такой фигней или он просто залег на дно с тарелкой консервированных спагеттиос?
У него был флебит, у Никсона. В шестьдесят пятом, когда он ездил в Японию, впервые проявился – в левой ноге? Я вспоминаю семьдесят четвертый, осень, сразу после отставки, когда левая у него снова распухла, а в правом легком оказался тромб. Была операция в октябре, потом кровотечение, и Никсон оставался в больнице до середины ноября, так что когда судья Джон Сирика вызвал бывшего президента в суд, тот не смог дать показания по состоянию здоровья.
Пока мы ждем очереди на КТ (которая мне кажется чем-то вроде детектора лжи для мозга), я все сильнее укрепляюсь в мысли, что между тромбами Никсона и Уотергейтом есть связь. Нет, я к себе не примеряю, но уверен, что случай с Джорджем и последовавшая смерть Джейн взорвали мне мозг.
Пока мне делают КТ, я для самоуспокоения пересматриваю список врагов Никсона.
1. Арнольд М. Пикер
2. Александр Е. Баркан
3. Эд Гутман
4. Максвелл Дейн
5. Чарлз Дайсон
6. Говард Штайн
7. Аллард Левенштейн
8. Мортон Гальперин
9. Леонард Вудкок
10. С. Стерлинг-Манро-младший
11. Бернард Т. Фелд
12. Сидни Давидофф
13. Джон Коньерс
14. Сэмюэл М. Ламберт
15. Стюарт Роулингс Мотт
16. Рональд Деллумс
17. Дэниел Шорр
18. С. Гаррисон Доголь
19. Пол Ньюман
20. Мэри Макгрори
Меня поместили в двухместную палату на наблюдаемом этаже. Мне приходит мысль позвонить своему «обычному» доктору. Каждое слово дается тяжелым трудом. Я объясняю положение как могу. Секретарша мне отвечает, что все в руках Божиих. Кроме того, доктор не практикует вне города, а еще, что более существенно, он сейчас в отпуске. Еще она спросила, хочу ли я перевода в «Смерть Израиля», когда доктор вернется.
– «Смерть Израиля» – это что?
– Это больница, с которой аффилирован доктор, – отвечает секретарша.
– Антисемитски звучит, – говорит мой сосед, который все слышит.
– Надеюсь к тому времени оказаться дома, – отвечаю я, и моя речь мне уже кажется более связной и знакомой.
– Если передумаете, дайте нам знать.
– Ничего нет хуже, чем когда врач нужен на самом деле, – говорит мой сосед.
– А вы с чем сюда попали? – спрашиваю я, хотя звучит это скорее как «Вы щипали?».
– Спектакль окончен, – отвечает он. – Завод вышел в часах. Вы заметили, что я не двигаюсь? Я стукнутый – и все это еще происходит в моем мозгу или в том, что от него осталось. Кстати, это вы расплываетесь или у меня в глазах?
Я не успеваю ответить – входит собачий волонтер.
– Я консультант из фирмы «Ваши пушистые друзья». – Женщина подтягивает стул и вытаскивает пакет с какими-то документами и бланками. – У вас собака или кошка?
– И собака, и кошка.
– Если дверь откроет чужой человек, они нападут? Где их корм и сколько они его получают? Собака ночью спокойна или нужен компаньон, который будет ночевать? У нас студенты и школьники такими ночевками подрабатывают.
– Сколько я здесь пробуду? – спрашиваю я.
– Вопрос к вашему доктору. Кстати, есть вариант приемной семьи.
– Меня в приемную семью?
– В новую семью ваших зверей – если, скажем, вы не станете возвращаться домой.
– А куда же я пойду?
– Ну, например, в интернат с хорошим уходом или куда-нибудь еще…
– На кладбище, она хочет сказать, – поясняет человек с соседней кровати. – Они таких слов говорить не любят, а мне можно, потому что – как вам уже сообщил – сам там скоро буду.
– Вы с виду совсем не так больны, – говорю я ему. – Вполне связно выражаетесь.
Я вытираю с губ нити слюны.
– Оттого-то все так сурово, – отвечает он. – В полном своем уме, все осознаю, но уже ненадолго.
– А вы не думали про хоспис? – спрашивает моего соседа консультант-пушистые-друзья.
– А в чем разница? Картины на стенах? Что тут, что там, всюду дерьмом воняет. – Он подносит руку к лицу. – Это я или кто-то другой? Рука моя или ваша?
– Ваша, – говорю я.
– Ага, – замечает он.
– Не хотела бы прерывать, – перебивает пушистая волонтерка, – но вы за целый день еще успеете наговориться, а у меня работа есть.
– То ли целый, то ли нет, – отвечает ей умирающий.
– Давайте о ваших любимцах. Клички, возраст? У вас ключ от дома с собой?
– Собака – Тесси, возраста не знаю, Маффин – кошка. Запасной ключ под фальшивым камнем слева от двери. Фальшивый ключ и десять баксов.
Умирающий жужжит, чтобы заглушить наш разговор.
– Слишком много информации, – говорит он. – Больше, чем мне следует знать.
– Ага, будто вы прямо сейчас встанете и обокрадете мой дом?
– Можете записать под мою диктовку? – спрашивает умирающий.
– Могу попытаться.
Давлю на кнопку и прошу бумагу и карандаш.
– Это не сразу, – предупреждает сестра.
– Тут умирающий, который хочет исповедаться.
– Всем нам что-то нужно, – отвечает она.
Я дремлю. Во сне слышатся выстрелы. Просыпаюсь с мыслью, что мой брат хочет меня убить.
– Это не ты, – говорит сосед по палате. – Это в телевизоре. Пока ты спал, приходил коп. Сказал, что придет еще.
Я молчу.
– Можно тебе вопрос задать? Ты тот, который жену убил?
– Что заставляет так думать?
– Услышал тут разговор про человека, который жену убил.
Я пожимаю плечами:
– Моя жена подала на развод. И аннулировала мою медстраховку.
Человек с порога спрашивает:
– Кто тут просил священника?
– Мы просили бумагу.
– А!
Он выходит, возвращается с большим блокнотом и ручкой.
– С чего начать? – спрашивает умирающий. – Определенно существуют вопросы, на которые надлежит дать ответы. Трудность в том, что не на все ответы есть. Есть такие вещи, которые знать невозможно.
Он начинает разворачивать рассказ – сложное повествование о женщине. Как они сошлись и как расходились.
История красивая, затейливая, сэлинджеровская. Они не говорили на одном языке, у нее был яркий красный шарф, она забеременела.
Я пытаюсь записывать. Глядя на то, что выходит из-под пера, вижу, что получается бессмыслица. Это и текстом-то назвать нельзя. Оставленные на бумаге следы вряд ли кто-нибудь смог бы прочесть. Я сосредотачиваюсь на ключевых фразах, рисую картинки, пытаюсь начертить карту – на всю страницу, – надеясь, что потом разберусь. А он говорит и говорит, и как раз когда я уже жду, что вот сейчас будет конец, развязка, он вдруг резко садится на кровати.
– Дышать не могу! – говорит он.
Я давлю на кнопку вызова.
– Он не дышит! – кричу я. – Был бледный, а сейчас побагровел весь, даже лиловым стал!
Палата быстро наполняется людьми.
– Мы разговаривали, он как раз хотел сказать заключительную реплику и тут вдруг резко сел и говорит: «Дышать не могу».
Он отплевывается, задыхается, он в беде, а люди все подходят и подходят, как публика на спектакль. И все стоят и на него смотрят.
– Вы так и будете стоять и глазеть или будете что-то делать? – спрашиваю я.
– Сделать мы ничего не можем, – отвечают мне сестры.
– Как так не можете?
– Он – НР. «Не реанимировать».
Хотел умереть достойной смертью. Но посмотреть на него – дергается, будто его душат.
– Кто ведает, когда и как призовут его, – говорит одна из них и задергивает занавеску между койками.
– Так не годится, – говорю я, вытаскиваю свою многострадальную тушу из проклятой койки и отодвигаю занавеску.
Он бьется в судорогах, его подкидывает, он будто просит кого-то что-то сделать. Забыв о проводах кардиомонитора и шлангах капельниц, я придвигаюсь к нему ближе, голой задницей отодвигая с дороги сестер. Мысленно я слышу, как он просит меня двинуть его как следует, и я так и делаю. Чертовски сильный апперкот, в живот, изо всех оставшихся сил.
У него распахивается пасть, и из нее вылетают зубы. Больной ловит ртом воздух.
– Эти гребаные челюсти чуть меня не угробили, – выдыхает он.
– Вы сказали, что не хотите быть реанимированным, – говорит сестра возмущенно.
– Но я же не говорил, что хочу подавиться собственными зубами!
– Я думала, это эмболия. Вы ведь тоже так думали? – спрашивает одна сестра у другой.
– Сделайте одолжение, отправьте меня домой. Там я хотя бы застрелиться смогу, когда буду готов.
– Вы хотите, чтобы я позвала вам кого-нибудь?
– В смысле?
– Представителя больницы? Специалиста по разбору дел, адвоката пациентов? Доктора? Скажите только.
– Начните с первого и до самого конца списка. И немедленно измените у меня в документах. У вас просто никто не понимает, что такое НР.
Через полчаса приходит женщина с бланками отзыва распоряжения НР.
– Пока все изменения зарегистрируются в системе, пройдет время, так что я объявление напишу на вашей двери.
– Делайте, что считаете нужным, – говорит мой сосед.
«ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА СПАСАТЬ!» – пишет она на привинченной к двери грифельной доске, где уже наши фамилии, а также факт, что мы «СКЛОННЫ К ПАДЕНИЮ/ДЕЙСТВОВАТЬ ОСТОРОЖНО».
В середине дня возвращается девушка из «Пушистых друзей», приносит фотографии Тесси и кошки, сидящих на диване Джорджа и Джейн рядом с симпатичным парнем.
– Все уладилось, – радостно сообщает она.
* * *
Приходит тот коп из парка – он в форме и тащит здоровенный подарочный букет: цветы и плюшевый медведь, цепляющийся за вазу сбоку.
– Слушайте, я пришел извиниться. Я с вами был груб, хотя вы совершенно этого не заслуживали.
– Ничего страшного, – отвечаю я.
Коп садится на край койки, и мы мило болтаем, а когда уже действительно нечего сказать, он мне говорит, что зайдет еще.
– Просто смотреть было больно, – говорит мой сосед после его ухода. – В программе небось участвует.
– В какой программе?
– Типа «Двенадцать шагов». «Анонимные те», «Анонимные эти». Шаг номер девять – загладь вред, который ты причинил.
– Занятно, – говорю я.
Меня подмывает рассказать, как я чуть не сорвал собрание «Анонимных алкоголиков», но, учитывая, как он хорошо разбирается в этих шагах, лучше промолчать.
Приносят ужин. Ему – ничего.
– То есть как это – ничего?!
– Вы у меня ни на одно кормление не записаны, но могу вам принести напитки на выбор, – говорит разносчица.
Я открываю крышку на своей тарелке и не могу понять, что там за блюдо.
– Что это? – спрашиваю я.
Женщина заглядывает.
– Это у нас курица в соусе «Марсала».
– Я умираю, – подает голос мой сосед. – И не хочу свою последнюю еду пить, если только это не очень хороший скотч.
– Вот несколько меню с сестринского поста. Они всегда себе заказывают доставку.
– Вот это был бы класс!
Он обрадован, более того – вдохновлен.
Я закрываю тарелку крышкой, чтобы не чуять ароматы, и жду, что будет дальше.
– Вы что хотите на ужин? – спрашивает он, проглядывая меню.
– Что угодно, лишь бы не китайское.
Он оживляется, вытаскивает телефон откуда-то из-под подушки или одеяла, начинает набирать. Возможности движения у него ограничены, но его ведет цель. Первым делом он звонит в бургерную и заказывает два чизбургера делюкс с картофельными чипсами и огурчиками. Потом в пиццерию и просит среднюю пиццу-пеперони, звонит в кафе и заказывает рисовый пудинг и крем-соду. Я прошу его добавить парочку батончиков «херши» с миндалем. А потом приемщик заказов из магазина говорит, что за доставку двадцать долларов, и мой сосед говорит тогда, что даст курьеру еще пятьдесят на чай, если тот заедет в винный магазин за вполне определенной бутылкой виски. Приемщик говорит, что сам доставит.
– И если я заказал больше, чем могу съесть, что с того? Я умираю, и об остатках мне нечего беспокоиться. Могу я вам заказать что-нибудь особое, что-то такое, за что вы умереть готовы, простите за каламбур?
Когда-то я любил икру, свежие сырные блинчики, шоколадные эклеры, и были лет этак сорок назад пончики, которых мне никогда не забыть. Апельсиновое печенье-хворост в холодное утро возле магазина на президентских выборах семьдесят второго года было так близко к совершенству, как может быть близка к нему любая еда. Но дело в том, что сейчас я лежу в больнице и ни к каким вообще кулинарным изыскам меня не тянет.
– Спасибо, – говорю я. – На ваш вкус что-нибудь.
Мы ждем. Интересно, они вспомнят про кетчуп и горчицу? Не надо ли им позвонить напомнить про майонез? У нас, как выясняется, общая любовь к майонезу, и сосед меня спрашивает, случалось ли мне хоть раз есть картошку по-бельгийски, зажаренную до хруста, посоленную, жуть до чего горячую, макая в соус? Ага, говорю я, и описание очень хорошее.
Ждать приходится дольше, чем можно было бы подумать. Надо проехать по больнице, объясняться внизу с охраной (там заставят открывать чизбургеры?), потом лифты, коридоры.
– Не могли бы вы мне достать штаны из шкафа? – спрашивает сосед. Я медленно встаю и начинаю двигаться к шкафу, волоча за собой штатив капельницы, провода и левую ногу, которая не хочет работать в полном объеме. – Посмотрите у меня в кармане.
Карманы у него набиты наличкой – пачки двадцаток и бумажник с дорожными чеками, евро и английскими фунтами.
– Да, кажется, вы совсем разорены, – говорю я, пытаясь пошутить.
– Последнее время я, выходя из дома, не забывал подойти к банкомату. Никогда не знаешь, что может случиться, и если что, то нет ничего хуже, чем оказаться без денег. Живем мы в экономическом обществе и умираем в нем же: куда бы ты ни шел, а подмазывать надо. Смысла нет катиться вниз и получать при этом паршивый сервис. Я свои похороны оплатил еще много лет назад. Хотите евро? Возьмите их себе.
– Я никуда не собираюсь ехать, – отвечаю я, возвращая иностранную валюту ему в карман.
Мы держим пари, сколько времени займет дорога у каждого курьера. Я выигрываю с результатом тридцать восемь минут, и когда привозят чизбургеры, сосед мне вручает сто баксов «как премию». Пицца появляется почти сразу за ними.
– Никогда еще не возил пиццу пациентам, это клево, – говорит курьер. – В смысле, только если вы не заразны.
Последним прибывает курьер из кафешки.
– Простите, что так долго, – говорит он. – Надо было найти кого-нибудь, кто меня пропустит, – говорит он.
И передает пакет с товаром, а также бутылку виски. Сосед отделяет от пачки еще сотню для уплаты долга и предлагает парню выпить.
– Я пас, – отвечает курьер. – Мне обратно на работу надо. Но любопытно мне, что же у вас за болезнь такая, если вы прямо на больничной койке рисовый пудинг и скотч заказываете.
– А я умираю, – отвечает мой сосед. – И знаешь, что поразительно? Вот сегодня я чуть не умер на самом деле, здешние уже смирились, и это было очень интересное чувство – когда я выжил. Не то что будто я буду жить вечно, а что помирать – это нормально. – Он замолкает, повторяет снова: – Я умираю. И сегодня повторяю это чаще, чем раньше, и вдруг это оказалось просто фактом, вот чем-то таким, что есть. Как ожидаемая кульминация в кино.
– Так все мы умираем, – говорит курьер. – В смысле, рано или поздно все там будем.
Разносчица больничной еды приходит забрать поднос. Задерживается на секунду ради ломтя пиццы и нескольких чипсов.
Я с удовольствием ем чизбургер. Он как раз нужной степени резиновости и хрусткости, прорезанной солеными чипсами и кисловатой остротой огурчиков. И уже далеко за чертой сытости беру себе кусок рисового пудинга и наполняю две синие больничные чашки виски.
– Лед тебе нужен? – спрашиваю я.
– Соломинку. Соломинку бы – это было бы здорово, да.
Мы приподнимаем изголовье его кровати и с удовольствием засасываем виски.
– А вот я бы не против кусочка шоколада, – говорит он.
Я ему протягиваю целый батончик:
– Ни в чем себе не отказывай.
С набитым брюхом, отрыгивая жареной картошкой и огурцами, таща за собой штатив капельницы, я выношу мусор в коридор и засовываю в урну на другом конце этажа. Сестры радуются, глядя, как я здорово приспособился, волоча парализованную ногу и щеголяя одним халатом, надетым спереди, другим сзади, – шикарный способ прикрыть задницу.
Мы смотрим какую-то полицейскую передачу по телевизору, и где-то между десятью и одиннадцатью моему соседу становится нехорошо, и он звонит сестре, чтобы принесла маалокс. Ему отвечают, что у него в карте такого назначения нет. Он спрашивает, обновили ли вообще его карту.
– Да, – отвечает она.
– Отлично, – говорит он. И напоминает мне: – Если я до сих пор жив, это не значит, что прямо сейчас не умираю.
Где-то после полуночи меня будит жуткий звук. Сосед сидит на кровати, глаза вытаращены, будто он во власти жуткого кошмара. Я звоню сестре.
– Быстрее, – только и могу сказать.
Они еще не добежали, а он уже рухнул на спину и лежит, как тряпка.
Вбегает сестра, за ней еще и еще – их набивается полная палата. Суета, крики, треск ампул, уколы того и сего – шумно, страшно, грубо, и в какой-то момент ясно уже, что, как бы ни старались они, лучше ему не станет. После двух ударов дефибриллятора, когда тело буквально спрыгивает с кровати, а они все так же теснятся над ним стервятниками, я выхожу из палаты. Расхаживаю, волоча ослабевшую ногу, туда и сюда по коридору, потом обратно в палату и стою, оттесненный в угол, когда они наконец «регистрируют время» в ноль часов сорок восемь минут. Его накрывают чистой простыней и выходят, увозя с собой свою магическую тележку. Всюду валяются осколки ампул, части шприцов, кусочки пластика, марлевые салфетки. А он лежит под простыней. Я подхожу ближе. Никогда не видел тела, которое не дышит. Над ним изогнулись складки свежевыглаженной простыни. Я беру его за руку, касаюсь лица, трогаю ногу. Тело еще теплое, человеческое, но уже пустое. Мышцы словно отвалились от костей, никакого напряжения в них не осталось. Нас оставили одних. Примерно через час за ним приходят два охранника с каталкой и увозят. Что-то в этом во всем – вот был и нету – до невозможности странное.
В палате еще пахнет жареной картошкой.
Мне нужно с кем-нибудь поговорить. Если позвонить в дом Джорджа, что будет? Включится автоответчик с голосом Джейн? Если я буду говорить, умолять, уговаривать достаточно долго, может снять трубку человек, пришедший опекать зверей. А если залаять, Тесси может гавкнуть в ответ. Я хочу позвонить Тесси. Тесси и Джейн.
Уже совсем собрался набирать номер, как появляется сестра с таблеткой снотворного.
– Нелегко это, – говорит она.
Я беру таблетку. Сестра наливает мне воду в чашку, не зная, что разбавляет виски. И тоже ничего не говорю и проглатываю все залпом – снотворное и скотч.
Сестра стоит и ждет, пока я засну.
Утром соседняя кровать стоит раздетая, пол вымыт, осколки выметены.
Ни слова о вчерашнем.
Ближе к полудню приходит кто-то из больничного персонала с пластиковым мешком и освобождает шкаф соседа, его тумбочку, потом спрашивает меня:
– Тут еще что-нибудь есть?
– В смысле?
– А то не знаете? В смысле, вы всю ночь тут были при его барахле. Может, взяли чего?
– Есть бутылка виски, если хотите. Берите, она ваша. Но если вы вот так, наобум обвиняете меня в воровстве, потому что я был на соседней койке, – это уже слишком.
– Могло у него тут быть еще что-нибудь? Часы, кольцо?
– Понятия не имею, что у него было и чего не было.
Этот тип смотрит на меня так, будто он местный вышибала, зондеркоманда, которую посылают приводить в чувство зарвавшихся пациентов.
– Этого я терпеть не обязан.
Я поднимаю телефон, набираю девятку для выхода на город, потом «911».
Этот тип выдирает у меня телефон.
– Не балуйся, – говорит он, вырывает у меня телефон и выключает его тычком.
Через минуту, пока он еще здесь, телефон звонит, я отвечаю. Это «911», мне перезвонил оператор. Я объясняю ситуацию. Она мне говорит, что, так как я повесил трубку, они должны послать людей проверить, что меня тут не взяли в заложники и не заставляют говорить против воли. Зондеркоманда на меня смотрит, глазам своим не веря.
– Сука, – говорит он.
– Что вы теперь будете делать? Избивать меня?
Он снова на меня смотрит, качая головой.
– Чувства юмора у тебя нет, – говорит он и уходит.
Копы приезжают через час – слава богу, настоящей срочности не было.
– Как вы, нормально?
– Насколько это возможно в данных обстоятельствах.
Один из них дает мне визитку – на случай, если у меня будут продолжаться неприятности.
– Вы не поверите, – говорит он, – сколько к нам приходит вызовов из больниц, домов престарелых, от пожилых людей, запертых в домах собственных детей. Жестокое обращение с пожилыми – это проблема.
Никогда не думал о себе как о пожилом. Еще минуту назад я был человек в расцвете сил. И вдруг – пожилой.
Сегодня у меня учебный день. До меня это доходит, когда входит сестра и отрывает две страницы календаря.
– Иногда мы опаздываем, – говорит она мне.
Я звоню в университет и говорю, чтобы отменили занятия в связи с моими семейными обстоятельствами. Умер близкий родственник.
Наступает большое облегчение, когда за мной приходит волонтер из отделения лечебной физкультуры и уводит меня к себе.
Там мне выдают ходунок – в личное пользование, – с зелеными теннисными шариками, чтобы легче скользил. Врач-инструктор мне говорит, что ее работа – подготовить меня к выписке.
– Обычно после таких случаев, как у вас, человеку нужна реабилитация в течение недели. Но с вашей непонятной страховкой вас никто держать столько не будет, так что придется вам заниматься дома самому. Хорошая сторона в том, что, в общем, при таких явлениях вам повезло: у вас нарушения несущественные.
– Мне они кажутся очень даже существенными.
– По десятибалльной шкале ваш случай оценивается балла на два, – говорит она. – Поверьте мне, вы легко отделались.
Она пытается вовлечь меня в игру с пуговицами и молниями, что мне сначала кажется идиотизмом, но когда я пытаюсь, оказывается, что пальцы меня не слушаются. Я снова пытаюсь расстегнуть пуговицы, и наконец она мне приносит другой набор, побольше, и у меня получается.
– Класс, – говорю я. – Так мне что теперь, отдать все рубашки пуговицы перепришивать?
– Тоже метод, – говорит врач.
– У меня теперь лучше не будет? – спрашиваю я. – Всегда вот так?
Кто мог бы подумать, что одеться и пройти четыре ступени вверх бывает так трудно.
– Не паникуйте, – говорит она. – Просто нужно время.
После часа лечебной физкультуры я выжат как лимон и возвращаюсь в палату, чувствуя себя очень одиноким. Мне предложили прийти снова через пару часов, если я пожелаю повторить попытку.
Ленч уже ждет. Томатно-рисовый суп, все тот же томатно-рисовый суп, который я ел в кафетерии, когда ожидал известий о Джейн. Не могу отделаться от мысли, что если съем его, то никогда отсюда не вырвусь, так и останусь в этом порочном круге томатного супа и больниц, и потому я его просто оставляю в тарелке.
В палату входит молодая женщина:
– Папа?
– Вы ошиблись палатой.
– Не ошиблась, – говорит она. – Я ждала. Была здесь, а вас не было. Я пришла к больному на койке «А», а на койке «А» никого нет.
– Мне очень жаль.
– Он ушел домой?
Я замечаю, что на ней красный шарф.
– Откуда у вас такой шарф?
– Подарок от матери. А что?
Ну почему это должен делать именно я?
– Он умер, – говорю я.
– Когда?
– Сегодня ночью.
– Можете мне о нем рассказать? Я его так и не увидела.
– Я тут записал кое-что; ваш отец меня просил это вам рассказать.
Я достаю записки и пытаюсь их расшифровать, заполняя пропуски фрагментами, которые я запомнил, но не успел записать.
– Два года назад умерла моя мать. У нее в бумагах я нашла его письма. Я писала ему и ответа никогда не получала – вплоть до самого последнего времени.
– Прекрасный был человек, – говорю я. – Необычайно, дьявольски интересный. Сложный и очень человечный – во всех смыслах. Наверняка он жалел о том, что случилось. И наверняка был еще более сложным, чем мы знаем или узнаем когда-нибудь.
В палату входит священник.
– Меня вызвали. Сказали, что есть желающий получить отпущение грехов.
– Он умер, – отвечаю я. – А раввин у вас тут есть?
Он вытаскивает из кармана ермолку и натягивает на голову.
Меня это как-то смущает – ермолка при сутане.
Тут еще и доктор входит.
– Ну, как мы себя чувствуем, мистер… – он смотрит в карту, – Сильвер?
– Мы знакомы? – спрашиваю я.
– Нет.
Женщина встает и говорит, что не хочет мешать.
– Это несколько минут, – объясняю я. – Доктора надолго не засиживаются.
– Я кофе выпью и вернусь, – говорит она.
– Я тут сейчас один остался, – сообщаю я доктору. – Другой умер.
– Бывает, что ничего сделать не можем, – отвечает он. – Зато у вас все в порядке. Скоро домой пойдете. Какие-нибудь ко мне вопросы?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































