Текст книги "Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам"
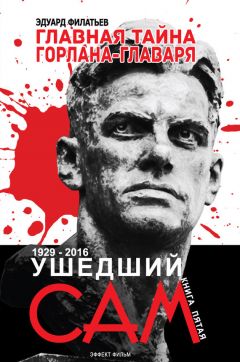
Автор книги: Эдуард Филатьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Борис Бажанов:
«…английскому послу в Москве было поручено обратиться к Чичерину за подтверждением. Чичерин, конечно, ответил, что ему ни о переговорах, ни о займе ничего не известно, и он сейчас же запросит высшие инстанции (то есть Политбюро). На Политбюро он пришёл с горькой жалобой – вы меня ставите в дурацкое положение: вы ведёте переговоры с английским правительством и даже не считаете нужным меня, министра иностранных дел, об этом известить. Политбюро его успокоило: ни о каких переговорах никто и не думал».
Здесь Бажанов вновь не совсем точен. Нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин 4 сентября 1928 года (то есть за четыре дня до начала англо-советских переговоров в Париже) выехал из Ленинграда в Германию на лечение и вернулся в Москву лишь 6 января 1930 года. Всё это время его замещал Максим Максимович Литвинов (Макс Моисеевич Валлах). Так что прийти в политбюро «с горькой жалобой» Чичерин никак не мог. А его заместитель Литвинов, по словам того же Бориса Бажанова, вёл себя с членами политбюро как с равными ему членами партии (запросто).
В книге Владимира Гениса «Неверные слуги режима. Первые советские невозвращенцы (1920–1933)» сказано о том, как относились к Беседовскому в Народном комиссариате по иностранным делам и в Центральном комитете партии:
«Замнаркоминдел Максим Литвинов отзывался о Беседовском как об “очень способном и хорошем работнике с большим кругозором, инициативой и знаниями”, который “выдержан и тактичен”. В ЦКВКП(б) Беседовского характеризовали “крепким и хорошим работником, умницей”».
С запросом английского посла кремлёвские вожди вскоре разобрались. И 27 декабря 1928 года члены политбюро, выслушав выступление Сталина, внесённое в повестку дня под названием «О тов. Беседовском», постановили:
«1) Признать, что т. Беседовский в своей беседе с Ремнантом неправильно осветил положение дел, дав англичанам повод думать, что мы можем, будто бы, пойти на “руководящую роль Англии в деле возрождения СССР”, и что не английские финансовые круги просят разрешения приехать в СССР, а советское правительство приглашает их приехать.
2) Указать тт. Довгалевскому и Беседовскому, что впредь до особого распоряжения из Москвы по вопросу английской делегации их беседа с англичанами должна ограничиваться вопросами выдачи виз».
В белоэмигрантские газеты попали сведения о том, что во время обсуждения этого вопроса члены политбюро называли Беседовского «потенциальным предателем», устраивающим «заговоры за спиной Политбюро». Не удивительно, что ему был вынесен выговор, и он был отстранён от дальнейшего ведения переговоров. По распоряжению Москвы резидент ОГПУ в Париже (тогда им был Яков Серебрянский) установил за первым советником полпредства негласный надзор.
Но в марте 1929 года британская делегация (вместе с Багговутом-Коломийцевым) всё же приехала в Москву. Её ждали. И 25 марта политбюро постановило:
«Советская сторона должна выдвинуть программу заказов и покупок продуктов английской промышленности для нужд СССР».
Однако завершалось это постановление категоричным утверждением, что активное экономическое сотрудничество между странами…
«…возможно только при возобновлении нормальных экономических отношений».
Для переговоров с англичанами была создана комиссия во главе с Георгием Леонидовичем Пятаковым, председателем правления Государственного банка СССР (он был назначен на этот пост вместо не пожелавшего возвращаться в СССР Арона Львовича Шейнмана). И всё-таки 6 июня политбюро вновь вынесло категоричное решение:
«Не вступать ни в какие переговоры с Англией о долгах, кредитах и пропаганде до фактического восстановления нормальных дипломатических отношений».
4 июля политбюро приняло новое довольно резкое постановление:
«Так называемые предварительные переговоры с агентами английского правительства и зондаж по этой линии отвергнуть».
Тем временем глава Иностранного отдела НКВД Меер Трилиссер начал получать от парижского резидента донесения о том, что замещавший полпреда первый советник советского полпредства Григорий Беседовский…
«…всё чаще и чаще, сам управляя автомобилем, уезжает по окончании работы из полпредства и возвращается обычно сильно навеселе…
Он проводит время в кутежах с парижскими кокотками, тратя на них большие деньги, морально разлагаясь с каждым днём».
Копии этих донесений отправлялись Сталину, и тот (где-то в самом начале сентября 1929 года) распорядился отменить все планировавшиеся ранее поездки гепеушников во Францию и вызвать резидента ОГПУ во Франции в Москву.
Как видим, кашу, которую заварили Владимир Багговут-Коломийцев и Григорий Беседовский, принялись расхлёбывать первые лица страны Советов. Вот почему все командировки своих сотрудников Трилиссер тотчас же отменил. Резидент ОГПУ во Франции Захар Ильич Волович, работавший в Париже под псевдонимом Владимир Борисович Янович, тоже был вызван в Москву.
Валентин Скорятин:
«Зоря Волович, как известно, был вхож к Брикам, когда те жили ещё на Водопьяном».
Стоит ли удивляться, что Захар Ильич тут же наведался к Брикам и Маяковскому, жившим уже в Гендриковом переулке.
Итак, Маяковский узнал, что его октябрьская поездка в Париж отменяется. Он рассказал об этом Брикам, конечно, не раскрывая истинных причин отмены. И Лили Юрьевна 8 сентября записала в дневнике, что «Володя не хочет в этом году за границу». Но при этом она решила, что так на него подействовали аргументы её и Осипа, и приписала: «Это влияние нашего с ним жестокого разговора».
На то, что настроение Маяковского в тот момент резко изменилось, обратила внимание и Вероника Полонская:
«Он был чем-то очень озабочен, много молчал. На мои вопросы о причинах такого настроения он отшучивался».
Ближневосточный резидентЗахар Волович был не единственным работником зарубежной резидентуры ОГПУ, которого руководство вызвало на родину. В самом начале августа 1929 года получил приказ приехать в Москву и резидент ОГПУ на Ближнем Востоке Яков Блюмкин, который о своём отъезде в советскую Россию тут же сообщил Льву Седову, сыну Троцкого. Тот вручил Блюмкину письмо отца, адресованное его родным, и две книги, где между строк химическим раствором было вписано обращение Троцкого к его сторонникам в СССР.
14 августа Блюмкин прибыл в Москву. Передавать письмо Троцкого адресатам он не торопился, решив сначала отчитаться перед руководством ОГПУ. Отчитавшись, Блюмкин отправился в ЦК ВКП(б), где подробно рассказал о политической ситуации на Ближнем Востоке. Его с интересом слушали Вячеслав Михайлович Молотов (секретарь ЦК и глава его Оргбюро) и Дмитрий Захарович Мануильский (член политкомиссии Политсекретариата Коминтерна).
Блюмкин сообщил и о скандалах на европейских аукционах, где он продавал изъятые чекистами еврейские священные книги. Неприятности возникали из-за того, что на отдельных раритетах сохранились отметки о том, какой синагоге, библиотеке или какому музею России они когда-то принадлежали. Блюмкин поделился своими соображениями о том, как этих скандалов можно было бы избежать.
Был сделан ещё один «доклад». Он касался гепеушной акции по уничтожению сбежавшего из СССР бывшего секретаря Сталина Бориса Бажанова, который потом написал:
«Когда сам Блюмкин вернулся из Парижа в Москву и доложил, что организованное им на меня покушение удалось (на самом деле, кажется, чекисты выбросили из поезда на ходу вместо меня по ошибке кого-то другого), Сталин широко распустил слух, что меня ликвидировали. Сделал это он из целей педагогических, чтобы другим было неповадно бежать: мы никогда никого не забываем, рука у нас длинная, и рано или поздно бежавшего она настигнет».
Иными словами, приезд Блюмкина оказался триумфальным. Глава ОГПУ Вячеслав Менжинский в знак особого расположения пригласил его даже к себе домой и накормил обедом.
Надо полагать, на этом обеде, зашёл разговор и о том, что Блюмкин может очень помочь партии большевиков, если войдёт в доверие к высланному из страны Троцкому. На это предложение ближневосточный резидент ответил согласием.
Однако не все руководители ОГПУ отнесились к Блюмкину положительно. Генрих Ягода (один из заместителей Менжинского) уже давно, как мы помним, считал Бориса Бажанова контрреволюционером и сигнализировал об этом самому Сталину. И первым, кому Ягода поручил следить за Бажановым, был Блюмкин. Но он от этого тягостного для него дела через месяц отказался и пристроил в соглядатаи к Бажанову своего двоюродного брата Аркадия Максимова (Айзека Биргера). О каждом шаге своего подопечного Максимов составлял «доклады», которые передавал на Лубянку. Но Бажанов сумел обвести вокруг пальца этого гепеушного «докладчика» и вместе с ним сбежал за границу.
Сообщение Блюмкина о том, что организованная им акция привела к уничтожению беглеца Бажанова, Сталина, конечно же, обрадовало. Но Ягоду насторожило. Возможно, он получил из Франции донесение о том, что Бажанов жив и здоров. Или же просто не доверял Блюмкину и решил его ещё раз основательно проверить.
Биографы Генриха Ягоды пишут о том, что он вызвал двадцатидевятилетнюю сотрудницу Иностранного отдела ОГПУ Елизавету Горскую (Лизу Иоэльевну Розенцвейг), которая занимала должность уполномоченного закордонной части ИНО ОГПУ, и поручил ей следить за Блюмкиным. Летом 1929 года она уже вела наблюдение за ним в Константинополе. Теперь ей было дано не менее важное задание: вновь сблизиться с Блюмкиным и выведать его контрреволюционные настроения (если таковые у него есть).
Это «задание» было точно таким же, какие получала время от времени Лили Брик (сначала – «раскрутить» на загул директора Промбанка Краснощёкова, затем – «проверить» на лояльность кинорежиссёра Кулешова, потом – «выявить» истинное лицо председателя киргизского Совнаркома Абдрахманова). Подобные «задания» выполняли тогда и многие другие сотрудницы Лубянки.
Лиза Горская тотчас же приступила к выполнению полученного распоряжения.
Насчёт того, как события развивались дальше, мнения биографов расходятся.
Борис Бажанов пишет:
«Из Москвы Блюмкин поехал в Турцию…
… он вошёл в контакт с троцкистской оппозицией и согласился отвезти Троцкому (который был в это время в Турции на Принцевых островах) какие-то секретные материалы».
Другие биографы говорят, что точных сведений о том, где Яков Блюмкин находился в сентябре 1929 года, нет. То ли он на самом деле поехал в Турцию, то ли проводил время где-то в Советском Союзе.
Зато точно известно, что 19 сентября 1929 года члены политбюро, вызвав Максима Литвинова и находившегося в Москве Валериана Довгалевского, рассматривали вопрос о замене первого советника полпредства во Франции кем-то другим. И постановили:
«Вопрос о т. Беседовском отложить. Вызвать т. Беседовского в Москву».
И наркомат по иностранным делам Беседовского в Москву вызвал. Но тот не приехал.
Борис Бажанов:
«Через некоторое время Наркоминдел сделал вид, что созывает совещание послов в странах Западной Европы, специально, чтобы заполучить Беседовского. Он опять отказался приехать».
Тогда Сталин приказал доставить взбунтовавшегося дипломата в СССР живым или мёртвым.
Меер Трилиссер тут же сообщил своим сотрудникам, что, как только Беседовский приедет в Москву, все отменённые командировки во Францию будут восстановлены.
Маяковский, видимо, тут же сообщил об этом Лили Юрьевне, и 19 сентября в её дневнике появилась запись о том, что Владимир Владимирович…
«…уже не говорит о 3-х месяцах по Союзу, а собирается весной в Бразилию (т. е. в Париж)».
Не будем забывать, что весь сентябрь 1929 года Маяковский усиленно работал над завершением пьесы «Баня».
Первая «читка»Вероника Полонская:
«В последний период работы Владимир Владимирович ежедневно прочитывал мне „Баню“ по кусочкам. Он сдавал мне уроки, которые просил меня ему задавать. Он прочитывал мне две-три страницы из своей книжечки, иногда и больше, тогда он очень гордился, что перевыполнил задание. Иной раз приходил ко мне с виноватыми глазами, смущённый, как школьник перед строгой учительницей, и робко протягивал книжечку с чистыми отмеченными страницами.
Я была горда и счастлива и была настолько наивна, что считала, что очень помогаю Маяковскому в работе».
Примерно в тот же день, когда в дневнике Лили Брик появилась запись о том, что Маяковский, возможно, всё-таки поедет во Францию, Владимир Владимирович объявил, что новую пьесу для Мейерхольда он закончил и готов к её публичному представлению.
Так как в тот момент у Маяковского всё чаще возникали нелады с горлом, врачи посоветовали ему бросить курить.
Вероника Полонская:
«Владимир Владимирович очень много курил, не мог легко бросить курить, так как курил, не затягиваясь. Обычно он закуривал папиросу от папиросы, а когда нервничал, то жевал мундштук».
И вот Маяковский написал стихотворение, которое назвал «Я счастлив». В начале октября оно было отдано в редакцию газеты «Вечерняя Москва», где 14 декабря его напечатали.
«Граждане, / у меня / огромная радость.
Разулыбьте / сочувственные лица.
Мне / обязательно / поделиться надо,
стихами / хотя бы / поделиться».
Описав в семи четверостишиях своё счастливое состояние, Владимир Владимирович назвал его причину:
«Я / порозовел / и пополнел в лице,
забыл / и гриппы / и кровать.
Граждане, / вас / интересует рецепт?
Открывать? / или… / не открывать?
Граждане, / вы / утомились от жданья,
готовы / корить и крыть.
Не волнуйтесь, / сообщаю: / граждане – / я
сегодня – / бросил курить!»
Жаль, что нет свидетельств о том, курил или не курил Маяковский 22 сентября, потому что именно в этот день состоялась первая публичная читка «Бани».
Утром того же дня «Комсомольская правда» опубликовала ещё одно стихотворение Маяковского. Оно шло под рубрикой: «Превратим союз воинственных безбожников в многомиллионную, боевую организацию трудящихся. Религия-тормоз пятилетки». Стих продолжал тему, начатую стихотворением «Два опиума», но на этот раз громилось только зло на букву «б»:
«У хитрого бога
лазеек – / много.
Нахально / и прямо
гнусавит из храма».
Погром религии заканчивался четверостишием:
«Райской бредней, / загробным чаяньем
ловят / в молитвы / душевных уродцев.
Бога / нельзя / обходить молчанием —
с богом пронырливым / надо / бороться!»
Стихотворение так и называлось – «Надо бороться».
А вечером 22 сентября 1929 года Маяковский приступил к борьбе, к которой призывал «рабочую общественность», поэтому были созваны слушатели, чтобы ознакомиться с только что написанной «Баней». Квартиру в Гендриковом переулке заполнили друзья драматурга.
Павел Лавут:
«До сбора гостей оставались минуты, и он использовал их, внося поправки, дополнения».
Наталья Брюханенко:
«Читал он в столовой, народу было столько, что сидели на стульях, диванчиках, на спинке дивана, стояли в дверях. В такой маленькой квартире было человек 40».
Софья Шамардина (она пришла с мужем, Иосифом Адамовичем, председателем Совнаркома Белоруссии):
«Помню чтение “Бани”… Мы немножечко опоздали с Иосифом. В передней, как полагается, приветливо встречает Булька. Тихонечко входим в маленькую столовую, до отказа заселённую друзьями Маяковского».
Павел Лавут:
«Коротенькое вступление – перечень действующих лиц. Слушали напряжённо, внимательно. Однако внешняя реакция давала себя знать: то и дело раздавался смех.
Маяковский не раз прерывал чтение, рассказывая об источниках, послуживших материалом для комедии, о происхождении отдельных фраз и т. д. Так, прототипом бюрократа он взял одного из ответственных служащих всем известного литературного учреждения».
В другом месте своих воспоминаний Павел Лавут назвал фамилию этого «ответственного служащего» – Л. Осипов. Ему, возглавлявшему Федерацию советских писателей, и предстояло стать «прототипом бюрократа Оптимистенко в "Бане"».
Софья Шамардина:
«Любил Маяковский свою „Баню“, с таким удовольствием читал её».
Вероника Полонская:
«Помню, что был Яншин. Пьеса имела большой успех на этой читке. Мнения были единодушные и восторженные… Владимир Владимирович, который и всегда очень талантливо читал, а в этот вечер читал лучше, чем всегда».
Наталья Брюханенко:
«Читал Маяковский часа полтора, и всё это время мы смеялись – так всё было похоже и остроумно. Я, например, хохотала до слёз».
Павел Лавут:
«Читать пьесу без перерыва даже такому опытному оратору и чтецу, каким был поэт-драматург, – не под силу. Да ещё в присутствии искушённых слушателей, среди которых Мейерхольд и его жена, артистка Зинаида Райх.
В перерыве, во время чаепития, звучали восторженные возгласы. И только, как ни странно, сдержанно вёл себя Всеволод Эмильевич Мейерхольд. А его слова ждали в первую очередь, ведь ему ставить, и в значительной мере в его руках судьба пьесы».
Но вот, наконец, чтение завершилось.
Павел Лавут:
«Когда автор перевернул последнюю страницу, наступила пауза. Все взгляды обратились на Мейерхольда. Однако вместо ожидаемой речи Всеволод Эмильевич, глубоко вздохнув и по привычке погладив свою „шевелюру“, произнёс лишь одно слово: „Мольер!“ Это прозвучало очень серьёзно и взволнованно…
Гости не расходились ещё час-другой: делились впечатлениями, пели дифирамбы».
Вероника Полонская:
«После читки и обсуждения Владимир Владимирович отозвал меня почему-то в кухню и спросил:
– Ну, как?
Я впервые слышала пьесу целиком. Владимир Владимирович так интересовался моим мнением, потому что был уверен в моей предельной искренности и правдивости в отношении него. Я восторженно отозвалась о пьесе. Владимир Владимирович был, казалось, доволен, но всё что-то задумывался».
Другая «читка»Итак, первым слушателям «Баня» понравилась.
Вероника Полонская:
«Яншин был в восторге от пьесы. На другой день говорил в театре о новом событии, которое создал Маяковский „Баней“, убеждал, что пьесу нужно ставить в Художественном театре. Была назначена читка, которая почему-то не состоялась».
На следующий день, 23 сентября, Маяковский выступил на утреннем заседании пленума правления РАППа, сказав:
«Мы принимаем РАПП, поскольку он является чётким проводником партийной и советской линии, поскольку он должен являться таким».
Затем Владимир Владимирович вновь обрушился на Бориса Пильняка, опубликовавшего за рубежом повесть «Красное дерево» (советские критики встретили её в штыки). Досталось и конструктивистам. Особенно поэту и писателю Борису Николаевичу Агапову, который был одним из тех, кто создавал ЛЦК (Литературный центр конструктивистов):
«Маяковский. – Я не хотел касаться вопроса взаимоотношений с группой конструктивистов, если бы здесь не было выступления товарища Агапова. Оно изумило меня по своей беспомощности. Он совершенно серьёзно говорит, что у них нет понятия о классовой ненависти и борьбе.
Агапов. – Я говорил о прошлом.
Маяковский. – Это самое главное, что было в прошлом.
Агапов. – А у вас что?
Маяковский. – Я могу очиститься перед любой организацией, я очистился в Реф.
Агапов. – А у нас не смогли бы.
Маяковский. – Ваше счастье, что я не буду держать экзамен».
Вечером того же дня состоялась вторая читка «Бани» на заседании Художественно-политического совета театра Всеволода Мейерхольда. Пришли послушать пьесу также театральные актёры и некоторые писатели: Валентин Катаев, Юрий Олеша, Михаил Зощенко, Семён Кирсанов.
Перед тем как начать читать, Маяковский предупредил собравшихся, что «Баня» оказалась «длиннее» предыдущей пьесы («Клопа»):
«Там было 60 страниц, здесь – 90. Текстом дополнено то, что там занимала музыка: это сделано мною с устремления удешевить спектакль и из ненависти к музыке».
И поэт начал читать.
Валентин Катаев (в «Траве забвения») вспоминал:
«Сняв по своему обыкновению пиджак и повесив его на спинку стула, Маяковский развернул свою рукопись – как Мейерхольд любил говорить: манускрипт, – хлопнул по ней ладонью и, не теряя золотого времени на предисловие, торжествующе прорычал:
– «Баня», драма в шести действиях! – причём метнул взгляд в нашу сторону, в сторону писателей; кажется, он при этом даже задорно подмигнул».
Актриса Мария Суханова:
«Маяковский читал сидя и даже не так громко, как обычно, перекинув ногу на ногу, жест был не очень широк, только иногда – правой рукой, в левой – экземпляр пьесы».
Валентин Катаев:
«Он читал отлично, удивив всех тонким знанием украинского языка, изображая Оптимистенко, причём сам с трудом удерживался от смеха, с усилием переводя его в однобокую улыбку толстой, подковообразной морщиной, огибающей край его крупного рта с окурком толстой папиросы "Госбанк "».
Как видим, Маяковский ещё курил (если, конечно, Катаев не запамятовал – ведь книга «Трава забвения» писалась десятилетия спустя после той «читки»),
Михаил Зощенко:
«Это было триумфальное чтение.
Актёры и писатели хохотали и аплодировали поэту. Каждая фраза принималась абсолютно. Такую положительную реакцию мне редко приходилось видеть».
Мария Суханова:
«Почему мы так смеялись до слёз? Был большой дар актёрский у Маяковского! Ведь каждая роль была им подана в чтении так выразительно, все взаимоотношения вычерчены до точки, выпукло. Он говорил актёрам: „Мои пьесы нужно читать, а не играть“. Если бы актёры овладели таким чтением, каким обладал сам Маяковский! Он читал – и всё рисовалось воображению».
Валентин Катаев:
«После чтения, как водится, начались дебаты, которые, с чьей-то лёгкой руки, свелись, в общем, к тому, что, слава богу, среди нас наконец появился новый Мольер».
Эта «лёгкая рука» обнаружилась всё у того же Всеволода Мейерхольда, который сказал примерно то же самое, что говорил накануне:
«Такая лёгкость, с которой написана эта пьеса была доступна в истории прошлого театра единственному драматургу – Мольеру…
Если бы меня спросили: что эта пьеса – событие или не событие? – я бы сказал, подчёркивая: это крупнейшее событие в истории русского театра, это величайшее событие, и нужно прежде всего приветствовать поэта Маяковского, который ухитрился дать нам образец прозы, сделанной с таким же мастерством, как стихи…
В этой вещи ничего переделать нельзя, настолько органично она сделана».
И всё же обстоятельного обсуждения пьесы, которого так ждал Маяковский, не произошло, так как до её читки собравшиеся выслушали два доклада, посвящённых текущей жизни театра и обсудили их. Народ устал. Выступил только один из членов Худполитсовета – М.Е.Зельманов, которому появление в пьесе Фосфорической коммунистки показалось чересчур фантасмагоричным, неестественным. Он высказал также сомнения в необходимости третьего акта пьесы («среднего действия»), в котором Победоносиков, Мезальянсова и другие начинают обсуждать (и осуждать) происходившее на сцене.
Насчёт «явления Фосфорической коммунистки»
Маяковский ответил так:
«Надо сказать, что я сначала сделал это явление подстроенным комсомольцами. Но я думаю, что некоторую театральную условность феерического порядка нельзя переносить из театра в жизнь! Всё-таки это театр!»
Однако черновиков, в которых был бы запечатлён именно такой вариант появления Фосфорической коммунистки (переделанной позднее в Фосфорическую женщину), не сохранилось. И как бы развивались события, если бы в роли посланницы двадцать первого века выступила комсомолка века двадцатого, мы не знаем. Можно только предположить, что пьеса от такого неожиданного поворота только выиграла бы. Ведь в финале Победоносиков и другие бюрократы в коммунизм не попадают. Поэтому вариант, в котором над канцелярским чинушей стали бы потешаться комсомольцы, мог получиться неожиданней, смешнее и, пожалуй, театральнее.
Маяковский, видимо, просто не смог придумать достойного завершения этой бесшабашной, но невероятно увлекательной коллизии. А по поводу третьего акта, где витийствуют Победоносиков и ему подобные, Владимир Владимирович сказал:
«Что касается „среднего действия“, то оно для меня очень важно, чтобы показать, что театр – не отобразительная вещь, что он врывается в жизнь».
Ответ, прямо скажем, весьма туманный – из него ясно только то, что «среднее действие» для самого автора «очень важно». А чем оно «важно», не очень понятно.
Кто-то из присутствующих спросил:
– Товарищ Маяковский, почему пьеса называется «Баней»?
Поэт ответил:
«– Потому, что это единственное, что там не попадается!»
Ответ, конечно же, шутливый, но опять же весьма уклончивый. Ведь в русском языке оставалось ещё много слов, которые в этой пьесе не использовались. Почему же не они взяты в качестве названия, а именно «баня»?
Затем председательствовавший на собрании член коллегии наркомата путей сообщения и писатель Дмитрий Фёдорович Сверчков объявил, что «Баню» «конечно, нужно приветствовать». Но при этом сказал, что, по его мнению…
«…в пьесе слишком назойливо разъясняется, кто является положительным героем, а кто нет, кто делает нужные стране дела, а кто совершает преступные деяния».
Маяковский ответил так:
«Что касается прямого указания, кто преступник, а кто нет, – у меня такой агитационный уклон, я не люблю, чтобы этого не понимали. Я люблю сказать до конца, кто сволочь».
Как видим, и здесь (как и при обсуждении «Клопа») Маяковский без раздумий назвал отрицательных героев своей пьесы «сволочами». И потом поэт не раз именовал этих персонажей тем же весьма нелестным словом. Выступая 25 марта 1930 года в Доме комсомола на Красной Пресне, он прямо заявил:
«Вот также часто говорят, что я употребляю слово „сволочь“. Я никак не могу амнистировать „сволочь“ из соображений эстетического порядка, так полным словом и называю».
Своё выступление на заседании Художественно-политического совета ГосТИМа, Маяковский завершил так, как завершались многие выступления на партийных собраниях тех лет:
«– Я буду очень рад, если товарищи признают нужным эту пьесу взять за основу».
В зале раздался смех, зазвучали аплодисменты, и Художественно-политический совет единогласно принял резолюцию о ценности пьесы и о желательности её постановки.
Валентин Катаев:
«Как говорится, читка прошла „на ура“, и по дороге домой Маяковский был в прекрасном настроении..»
В тот же день (23 сентября) в Париж прилетела шифровка, в которой был официальный вызов Григорию Беседовскому: ехать в Москву «для проведения своего отпуска в пределах СССР». Но и на этот раз Беседовский на родину не поехал, заявив, что «намерен провести отпуск во Франции, в связи с чем покинет здание полпредства 2 октября».









































