Текст книги "Торжество метафизики"
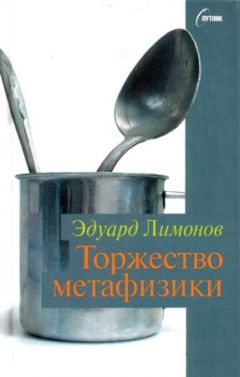
Автор книги: Эдуард Лимонов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
XXVII
В другой раз я был дежурным по отряду вместе с Акопяном. Хотя я подозревал его в том, что он настучал на меня еще в первые дни моего пребывания в 13-м отряде и что это он виновен в моем переводе в 16-й отряд, я все же не был уверен в его виновности. Да если бы и был, что, я мог отказаться дежурить с ним? Не мог. В определенном смысле он вполне неплохой парень. Он рассказывает о себе, что был боевиком в конфликте в Нагорном Карабахе. Сидит он, однако, по статье 162-й за разбой. И досиживает свои восемь лет. Неизвестно, был ли он боевиком и был ли именно в Карабахе, но он точно «весьма», как любят говорить русские, «весьма» осведомлен в различных видах и стрелкового, и легкого полевого вооружения. Разбирается в видах гранатометов и минометов. Об оружии он охотно болтает, но, будучи уже ученым, я его разговоры не поддерживаю. Неразумно поддерживать его такие разговоры мне, человеку, осужденному по статье 222-й, как раз за покупку автоматов и взрывчатых веществ.
Выглядит он мятым и выгоревшим, как будто его только что сняли с крыши поезда, идущего с Юга. Кепи на нем выгорело до охровой коричневости, как слабообожженный древний кирпич от солнца, и махрится по краям. Такого же цвета сильно побывавшего в употреблении кирпича его куртка и штаны. Бомж – можно охарактеризовать его. Среднего роста, сутулые плечи, армянские глаза-черносливы и щетина, неумолимо продирающая его щеки уже к середине дня, – вот Акопян. Он стоит справа от меня во второй шеренге крайним правым. Довольно часто он ходит работать на промку, и тогда его нет на послеобеденной проверке. Когда он есть, он не вертится, не сучит ногами, как Вася Оглы, но стоит себе покорно, потея под кепи лбом. Если не подозревать его в стукачестве, то следует согласиться, что он все-таки выдающийся, отличающийся от других зэков тип. В нем присутствуют и усталая надломленность армянского древнего народа, и вздорность, и авантюризм. И он нисколько не похож на известный русским тип хитрого армянина-торговца.
– Ты мне говори завтра, чего делать, – договорился я с ним накануне. – А то я первый раз дежурю по отряду.
– Да чего там делать, – отвечает он рассеянно. – Утром возьмем повязки, наденем их и сядем у входа. Главное – вскочить, когда офицер появится. И козлов замечать, чтоб предупредить пацанов. Чего там больше делать…
– А вызовы по радио надо слушать? В карантине мы слушали.
– Надо, – говорит он с отвращением. – Ну там еще туалет нужно вымыть и умывальники, мусор вынести…
Получилось, что много обязанностей.
Утром мы надели повязки и пошли к зданию оперативных дежурных на развод. Строевым шагом, как в балете, на ходу импровизируя. Там уже стояли по два дежурных от каждого отряда в две шеренги. Акопян встал в первой шеренге, я – во второй. Вышел офицер и протараторил речь, из которой я ничего не услышал, так как стояли мы далеко на правом фланге, а офицер вышел к левому. Затем мы повернулись кругом и пошли своим ходом почему-то без сопровождающих по нашей главной улице, по Via Dolorosa. Поравнявшись со своим отрядом, каждая пара дежурных отделялась от нас и уходила в калитку. И мы вернулись к себе. Пошли взяли две железные урны с водой для окурков с курительной территории и отнесли их в дальний угол локалки, туда, где проходит наша граница с 9-м отрядом. Там стоит наш большой ржавый ящик для мусора. Перевернули мы в ящик наши урны, отнесли их на место (курящие уже там суетились со своими крошечными бычками, у зэков они крошечные, с ноготь) и потом взяли ящик и пошли с ним по Via Dolorosa по направлению к бане. Прошли даже мимо бани. Там Акопян нашел мусорный контейнер нашего отряда, и мы, подняв наш ящик, вывалили его содержимое в контейнер. Так вот что интересно: наш мусор 13-го отряда даже не вонял особенно. Ну, вонял разве что горелыми корешками сигарет. А так никакой вони, стерильные отходы несчастных преступников. Чем они могут вонять? Даже и столовские отходы, эти каши и хлеб, никак не могли бы вонять, я думаю. Чему там вонять: печеные и вареные злаки. Мы шли обратно, побалтывая ящиком, и Акопян что-то наговаривал о том, что выйдет и, может быть, его опять потянет на старое, а я воспитательно и лживо говорил ему, что нельзя за старое браться (а сам думал: ну, конечно, конечно, продолжать то, что делали, нам не стать мирными коровами, армянин, не стать!).
Потом я сел на стуле в первой комнате нашего отряда, в той, в которую попадаешь, взойдя по ступенькам крыльца. Я сел у открытой двери рядом со столиком где хранились наши отрядные журналы записей, а над столом этим висело радио, хриплая, плохо узнаваемая музыка прерывалась командами по лагерю. Команды можно было лишь угадывать привычным ухом, а услышать было совсем нельзя.
Пришел наш отрядник майор. Я встал и сказал ему, что у нас числятся 94 человека списочного состава, из них на промке 16 человек, в клубе 22 человека, один на долгосрочном свидании, двое в ШИЗО, все остальные заняты работами в отряде и в локалке. Майор всего этого не дослушал, он уже был в своем кабинете, а я еще выговаривал все эти сведения. Акопян в это время курил. Он сел вместо меня, а я пошел «покурить», но так как я не курю, то я пошел на солнце погреться. Встал у стенки и начал согреваться. Поскольку там, у репродуктора, очень дуло бешеным сквозняком, а все время ходящие туда-сюда зэки не закрывали двери со стеклянными рамами.
Потом мы с Акопяном стали мыть туалет и умывальную комнату. Надо сказать, что так как все в отряде мылось и вытиралось по нескольку раз в день, то не такая уж была это и работа великая. Повозили тряпками. Меня удивило, что дежурные обязаны были вымыть и раковину обиженных, и их туалет. Оказывается, это не считалось зазорным или заразным, так же как пользоваться с ними одними спортивными снарядами, а вот сесть за их стол или пользоваться их ножом нельзя. Акопян мыл как привычный к труду крестьянин. При этом он говорил совсем не крестьянские речи. Довольно толково перечислил преимущества гранатомета многоразового действия РПГ-7, остановился на «выстрелах» к гранатомету, на бронебойно-камулятивных и других и даже на цене их, назвал цифру 25 долларов за выстрел. Я механически слушал армянина и тер квадраты пола в туалете. И думал, как он там бегал в пыльных карабахских горах, возил на ослах оружие. И я тер эти квадраты. Тер, думая об ослах и Карабахе.
– ЕвроГулаг у нас тут, да, Эдик? – хитро вдруг улыбнулся армянин. – У тебя дома был такой ухоженный белый туалет, Эдик? У меня ни хера.
– И у меня такого не было, – признался я. – Новое насилие это называется. Евроремонт, Евро-Гулаг… белые вылизанные раковины туалетов…
– А пиздят так же больно, – закончил он мою мысль. – И срока дают, не порадуешься…
Потом он стал говорить о 120-миллиметровых минометах. О таблицах, по которым совершают наводку. Я не сказал ему, что стрелял из 120-миллиметровых в Сербии. И что стрелял и из 80-миллиметровых. Я молчал как партизан. Всякому человеку хочется сказать, что и он сведущ, а тем паче мужчину хлебом не корми, дай обнаружить свои знания оружия и войны. Но я молчал о своих войнах. Я даже Юрке Карлашу о них ничего не говорю. Да я даже и не писал о войнах толком. Так, урывками. И не стану писать. Опасно. Пришьют какую-нибудь задним числом вину, обвинят в чем-нибудь. Нет уж.
Под монотонные военные и разбойные воспоминания армянина мы вымыли туалет. Далее день покатился в ритме радиоприказов. Вызвали заготовщиков нашего отряда. Затем вызвали отряд в столовую. Мы с отрядом тоже проследовали в столовую, а в помещении оставался только ночной дежурный Барс, он спал в одеяле в большой спалке у самой комнаты завхоза. Когда мы вернулись из столовой и зэки только было расположились в курилке и пищёвке и забегали с банками и кипятильниками, как половину отряда под кодовым названием «Спорт-экспресс» вызвали в клуб смотреть спортупражнения по большому телевизору. Изощренное издевательство это специально придумано, чтоб не оставлять зэкам ни глотка свободного времени. Они ушли унылые, тяжелая каша оттягивает их желудки и будет клонить их ко сну там, в клубе. Они будут спать с открытыми глазами, а те, кто не может так спать, попадут на карандаш к козлам, крадущимся по проходам легкой оленьей походкой подлых чингачгуков. Мы с Акопяном, как дежурные, остались в отряде. После ужина мы опять вымыли туалет и затем сдали свои повязки Варавкину и Мамедову. Уже смеркалось.
XXVIII
Однажды, вместо того чтобы читать старую газету, обыкновенно это были «Аргументы и факты», саратовский выпуск, дядя Вася принес из клуба аккордеон и сел у окна спиной к нему. Рядом с ним сели Антон и Юрка Карлаш. За окном шел дождь.
– Будем петь, – объявил Антон безапелляционно. И было ясно, что надо петь. – Ты, Юрок, наблюдай.
– Мне нужно человек десять-пятнадцать, – заметил Карлаш. – Запоминайте слова, – сказал он нам, – а еще лучше запишите. У нас три песни. «Легко на сердце от песни веселой», потом
«Раз, два, три, калина,
Чернявая дивчина
В саду ягоды рвала»
и песня из мультфильма «Бременские музыканты» —
«Нам дворцов заманчивые своды
Не заменят никогда свободы».
– Давай, Василий, – скомандовал Антон.
Дядя Вася развел аккордеон, чем издал звук долгий и смешанный, пробежал по клавишам, и Юрка запел:
«Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда,
И любят песню деревни и села,
И любят песню большие города».
А мы должны были петь припев. Вот какой:
«Нам песня строить и жить помогает,
Она как (тут я мычал, потому что не знал, как что зовет) и зовет, и ведет,
И тот кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет».
Я старательно разевал рот. Оглядывая в то же время своих сотоварищей по несчастью. Форменное стадо бритых обезьян сидело на клубных стульях и вопило. Кто громко, кто тихо. Кто выпучил глаза, а иные их прикрыли. Али-Паша пел беззвучно. И то верно, негоже такому большому азербайджанскому турку, осужденному на пятнашку, широко разевать рот. Несерьезно. Несолидно. Ансор – наш начальник пищёвки, молодой, иссиня-черный и блестящий, как черный кот, с розовым лицом еле открывал рот. По-видимому, стеснялся. Вообще за исключением грузин, кавказцы, по-моему, поют неохотно, считая, по-видимому, что не мужское это дело. Чечены, исполняя свои суфийские хороводы, свой «зикр», не поют, а выкрикивают.
Итак, обезьянами мы пели. Крайне идиотские, нужно сказать, тексты. «Любят песню деревни и села и большие города», нужно было еще поселки городского типа и отдельные северные чумы перечислить. И какое различие между деревней и селом? – задумался я. Село больше деревни. Деревня, наверное, означало, по корням слова судя, скопление деревянных домов, а село – это поселение. И может быть, не только деревянных домов.
«Нам дворцов заманчивые своды
Не заменят никогда свободы».
Загрохотал гром. Явились из локалки четверо обиженных во главе с Купченко и присоединились к хоровому пению.
Далее Юрка стал записывать тех, кто, по его мнению, годился для участия в КВН и будет петь это попурри из трех песен на конкурсе КВН колонии.
– Запиши Савенко, – сказал Антон.
– Не умею, у меня ни слуха, ни голоса. Отец у меня пел. Жена покойная была певицей, а я никакой в пении… – попытался я избежать позора.
– Ничего, ничего, – строго сказал Антон. – Я за тобой наблюдал, ты пел старательно.
– Да, – сказал Юрка, – на подпевке будешь, Эдуард. У нас есть кому запевать: я и Зайцев, а вы припев на себя, ребята, возьмете.
Так я попал в хор 13-го отряда. Я утешил себя тем, что я не вор в законе и что вместе со мной в хор попали два наших краснобирочника – молодой Сафронов и Горшков, а также наркоман Кириллов и вообще большая часть вполне уважаемых зэков. Вася Оглы не попал, да его никто и не долбал, чтобы шел; когда человек отсидел почти двенадцать лет из пятнадцати, все понимают, что нужно иметь совесть и не доёбывать человека.
Репетиция у нас была одна. Несмотря на то что планировали провести несколько. Но если зэк, даже такой, как Антон, вместе с Юркой Карлашем предполагает, то лагерная администрация осуществляет, потому все время находились официальные мероприятия, которые следовало проводить в ущерб репетициям хора. На единственной репетиции нас сосредоточили за кулисами, потом вывели. Карлаш расположил нас в два ряда. В центре у самых микрофонов встали Юрка Карлаш и Зайцев. Зайцев на воле готовился стать певцом, а повысил свою квалификацию уже на зоне. Выжатый как лимон из чая человек небольшого роста, лет тридцати пяти или чуть больше, Зайцев, как говорил Карлаш, после того как получил несколько грамот от министерства культуры Саратовской области и призы на конкурсах поющих бедолаг ГУИНа, стал страдать манией величия и воображать для себя блистательную карьеру оперного певца. По мнению Юрки, он вполне обычный талант, достойный провинциальной самодеятельности. Но как бы там ни было, петь Зайцев умел лучше всех нас, может, не лучше Юрки, но пел как профессионал, разевая глотку, но не горлом, а внутренностями. Мы же все неправильно пели ртом. Зайцев и Юрка запевали: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер», – допевали куплет, а мы заводили припев:
Нам песня строить и жить помогает,
Она как (мычание) и зовет, и ведет.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!
Мы репетировали часа полтора. Зал был огромный и пустой, высокий, пах паркетной мазью, или чем там он пах, кисловато, но в любом случае испускал запахи обильного зэковского, ничем не ограниченного труда. Время от времени в зал входил тот или иной офицер, останавливался, разглядывал нас и уходил. Клуб тоже построили сами зэка, как и столовую, построили с расчетом, что лагерное население никогда не иссякнет. Что тысячи наказанных преступников будут здесь ронять на грудь отупевшие от лагерного искусства бритые бошки. Лагерная демография в отличие от демографии воли здорова и сильна. Упругие кривые роста мощно тянутся вверх, как бамбук на Дальнем Востоке, преступников в России рождают все больше и больше, поскольку наглый Закон насилует свободы, и от этой насильной любви родились мы – бритоголовые ребята российских зон.
На КВН мы выглядели браво. Мужской хор имени маркиза де Сада.
«Нам дворцов заманчивые своды
Не заменят никогда свободы…»
– выводили мы. И имели в виду то, что пели. Эти ваши обманные розы, ну их на хер, хотели бы мы спеть. Нас снял на видеокамеру видеолетописец колонии ВИЧ-инфицированный Хмелев. Впоследствии видеозапись попала в руки телеканала НТВ. И они показали фрагмент ее по своему телеканалу однажды вечером. Добавив к тем съемкам, которые они сделали в нашей колонии сами. Не знаю, поняли ли они, какой у нас чудный лагерёк, этот их приезд – предмет для отдельного разговора. Но вот себя, поющего ртом, неумело, но энтузиастски (а я все делаю с энтузиазмом), я увидел. Меня взяли в такой светлый круг, как в нимб вписали, чтобы телезрители не перепутали, что это я. Вид у меня тёртого мужичищи, обретающегося по ту сторону добра и зла. Лицо бесстрастное, только голос энтузиастский. Хотите знать, что я думал, когда пел? Я повторял ту же фразу, которую впервые произнес 10 апреля 2001 года, на второй день своего заключения в тюрьме Лефортово: «Выйти и поднять восстание! Выйти и поднять восстание! Выйти и поднять восстание!» Певец Эдуард Вениаминович Савенко. Одно замечание об отчестве. Как туловище змея после его быстрой молниеносной головы тянется за змеем, так это отчество за мной.
XXIX
Одно из самых важных действий дня в колонии – это проверка. Или поверка? Я так и не смог выяснить для себя правильное написание и произнесение этого слова. По-армейски надо бы «поверка». На самом деле ни зэки, ни наши офицеры-надзиратели часто не знают, как следует твердо писать самые употребительные слова. В тюрьме, я помню, пытался выяснить, как писать «дальняк». Через «а» как производное от дальнего места или же через «о», где зэк раскорячился, и его задница разошлась на доли. Так и не выяснил.
Проверок на красной зоне №13 три. Утром, около полудня и вечерняя. Все отряды выстраиваются в локалке, то есть во двориках отрядов, вся колония. Не выстраиваются только больные, спящие с ночи и те, кто находится на таких работах, откуда невозможно явиться в отряд, и еще, разумеется, те, кто находится в карцере, они стоят у себя в карцере. «Отрядам построиться на поверку…», – гундит радио. И зэки кряхтя строятся в обычном порядке: бригада за бригадой, по пять осужденных в шеренге, шеренгами. И замирают, разглядывая затылки, шеи и плечи впереди стоящих осужденных. Пыль на плечах, плеши, спавшие волосы или перхоть, угри и прыщи, если таковые есть, обтрепанное или даже новое кепи. Стоим остолопами под палящим солнцем, и ноги наши затекают от тяжести наших тел. Каждая проверка длится от тридцати минут до часу. В среднем минут сорок пять. Но бывает, что у наших ментовских офицеров не сходится баланс зэкопоголовья, и тогда они пересчитывают нас отряд за отрядом, злобно матерясь, а зэки стоят, изнемогают от жары и удушья, злобно матерясь, но молча, внутри себя.
Я не матерюсь. Я стою, сдвинув кепи на затылок так далеко, как позволяет лагерное приличие, и солнце жжет мою некогда белую, по прибытии в лагерь она была белая, а ныне уже темную физиономию. Я обожатель Солнца, Ра и Гелиоса, и через лицо моя башка омывается горячим светом Вселенной. Подваренная всмятку моя башка. На большей части проверок я ими наслаждаюсь. Наслаждаюсь отупением этих тяжелых минут, аскетической уединенностью от других. Ибо на проверке зэки замерли, не галдят о пустом, вынужденно замерли и исчезли. В то время как зэки пытаются встать как можно правее – там падает тень наших отрадных деревьев, там устроился Али-Паша, туда же норовит присоседиться Акопян, я стою на левом фланге с самыми отпетыми, безразличными к стуже и зною. Левее меня в моей шеренге немец Штирнер, перед ним в предстоящей нашей шеренге невозмутимый стоик и отщепенец Варавкин, а прямо передо мной затылок и купол черепа Васи Оглы. Этим людям наплевать, солнце ли, тень ли. Варавкин стоит в туфлях на размера три больше его ступни. Это видно сзади, поскольку стоящим за ним видно, что задники его туфель пустые. И туда можно засунуть добрый кулак. Штирнер, с облупленным носом аккуратный молодой человек, наш отрядный журналист, осужденный за убийство, показывает мне на задники туфель Варавкина и прыскает смехом. Беззвучно, разумеется. Варавкин стоит гориллой, руки уронены вдоль бедер, рукава куртки длиннейшие, почти закрывают руки. Кепи надвинуто глубоко на глаза. Варавкин – одинокий тип. У него нет хлебников. В пищёвке он пьет чай и ест из баночек один. Он ни с кем не разговаривает. Он единственный, кроме меня в отряде, кто не курит. Мать Варавкина, говорят, торговка. Физиономия его, испещренная шрамами от прыщей и фурункулов, бесстрастна. Он таки настоящий стоик. И когда его избили на промзоне, он бесстрастно заболел и лежал страдая под одеялом, укрывшись с головой. Он обратился ко мне лишь несколько раз: «Савенко, можно взять твою ручку?» Я разрешил ему. Потом я отдал ему ручку, дело в том, что у меня с собой был десяток ручек в моем бауле. Варавкин стоит монстром, под козырьком непонятные глаза, и, глядя на него сзади сбоку, видно, что он едва заметно улыбается. Чему? Ему смешон мир, в который он попал? Ему смешны мы, осужденные, смешна наша локалка, синие ограды, колючая проволока, beau garçons, ребята и козлы, ему смешна Via Dolorosa, по которой он шагает на промку и возвращается избитый?
Я уже упоминал, что Варавкин мой сосед по спалке, если я ложусь на спину, то шконка Варавкина от меня справа. Как долго вместе с Христом содержался разбойник Варавва? Штирнер, носящий имя германского философа, персонаж сварливый и воинственный. В чем-то он походит на Варавкина, думаю, своенравием своим. У него тоже нет хлебника, однако с зэками он общается, предпочитая общаться с активистами, которые могут ему быть полезны. Он председатель секции СК, то есть собственных корреспондентов, и усиленно пишет для газеты зэков Саратовской области «Зона». Пишет он на заданные темы, темы ему дает Богачев – глава секции собственных корреспондентов колонии. Когда я короткое время принадлежал к 16-му отряду, я общался пару-тройку раз с этим Богачевым. Однако отношения эти сводились к двум-трем кратким разговорам. Такое впечатление, что Богачев опасался, что я стану претендовать на руководство секцией. Я дал ему понять, что опасаться не следует. Я сообщил ему, что у меня не только нет амбиций становиться председателем секции, но что я вообще не хотел бы писать в тюремную газету. «Видите ли, – объяснял я ему, – я занимаюсь политикой, и я не хотел бы ставить себя в такое положение, чтобы после тюрьмы меня могли бы упрекнуть в сотрудничестве с тюремной администрацией». Богачев посмотрел на меня с большим сочувствием, по-видимому, подумав: вот принципиальный идиот, но отношения наши сделались с тех пор приятными. Впоследствии он увидел мой текст: предложения, высказанные мной психиатру-капитану Евстафьеву, и очень высоко оценил его. Штирнер, когда мы познакомились, сообщил, что Богачев высоко отозвался об этом тексте: «Не наш уровень, человек высокого полета», – якобы сообщил он Штирнеру уничижительно…
В первой же шеренге нашей 51-й бригады стоит Купченко. Обиженные стоят со всеми, отдельной бригады у них нет. Серые брюки общелкивают поджарую задницу. Серые не потому, что сделаны из серого цвета материи, но потому, что выгорели до такой степени. Тощий торс легкоатлета, журавлиная шея, кадык. Купченко также не страдает от солнца. Он неистовый и стожильный. Так что мы – левофланговая группа 51-й бригады – те еще ребята. Готовы на все всякую минуту. На фронт? Сейчас готовы на фронт. В Чечню? Зубами порвем всех там в Чечне. Страшные мы ребята, по сути дела. Потому мы и не на свободе. Потому что нас, волков, отгородили от мирных граждан – овец…
Вот появляется пара: офицер с нашими карточками в руке и дежурный козел с деревянной лыжей, похожей на деревянную прялку наших предков. На прялке записывается, сколько зэкоголов присутствует в локалке, сколько спит в спалке, сколько в ШИЗО или на свидании. Иногда бывает, что приходят два офицера и один козел или два офицера и два козла. По понедельникам и пятницам козлов приходит несколько. Мы уже стоим для проверки, но козлы приходят освидетельствовать наш внешний вид. Смотрят туфли, брюки, кепи, стрижку, побрит ли. Осмотрят шеренгу – шеренга шагает вперед несколько шагов, и козлы смотрят нас сзади. Особенно есть ли скобочка на шее или зарос осужденный, как плохая баба под мышками. Осмотры эти не мешают зэкам носить ветхую, вылинявшую одежду, какая есть, но должна быть в порядке. Однажды, впрочем, пришел отряд козлов, а с ними два майора из штаба областного ГУИНа, и тогда они содрали с зэков несколько ветхих штанов и рубашек. Но так было один раз.
У нас в отряде три бригады: 49-я, 50-я, 51-я. 49-я, в ней состоят мои хлебники Карлаш и Ярош, стоит у самой ограды локалки, выходящей на Via Dolorosa. Их выкликают первыми. Офицер достает карточки из такого как бы портмоне и монотонно выкликает осужденных. Назвали твою фамилию: «Иванов!», ты говоришь: «Иван Иванович» и делаешь несколько шагов вперед и становишься в произвольном порядке в шеренгу по пять человек. Когда вся бригада названа, офицер достает карточки другой бригады и передвигается к ней, выкликают их. Если осужденный дежурил ночью и спит, бригадир или завхоз сообщает офицеру. Козел с прялкой делает на ней записи. Когда проверка отряда заканчивается, либо завхоз, а чаще Али-Паша или Солдатов объявляет: «Отряду сделать четыре шага назад!» Бригады сдвигаются, занимают изначальную позицию и замирают. Пока не обойдут проверяющие всю колонию и пока у них не сойдется цифра человекопоголовья, все мы стоим. Более всего у зэков загорают уши. Верхняя часть ушей выглядит копченой. У нас копченые уши, вот что. У кого еще копченые уши? У пастухов заволжских степей, может быть. А три проверки – это три большие изнурительные молитвы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































