Текст книги "Последние дни Помпеи"
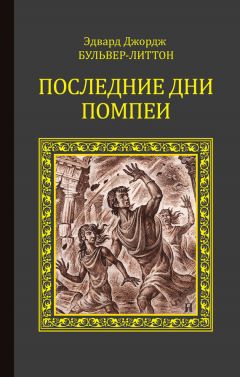
Автор книги: Эдвард Бульвер-Литтон
Жанр: Европейская старинная литература, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Арбак решил употребить все свое искусство, чтобы овладеть этим сокровищем, которого так горячо жаждал. Победа над ее братом наполняла его радостной гордостью. С той минуты, когда Апекидес отдался сладострастному волшебству на описанном нами пиру, египтянин почувствовал, что его власть над молодым жрецом прочно обеспечена. Он знал, что нет ничего легче, чем овладеть пылким юношей, в котором впервые пробудилась чувственность.
Правда, когда Апекидес очнулся на рассвете от глубокого сна, овладевшего им после упоительного празднества, он не помнил себя от ужаса и стыда. В ушах его звучали произнесенные им клятвенные обеты целомудрия и безбрачия, а жажда святости – неужели она была утолена из такого нечистого источника? Но Арбак знал, какими средствами укрепить свою победу. Дав ему отведать прелести наслаждений, он сразу перенес молодого жреца к ухищрениям своей науки. Он открыл его изумленным глазам глубокие тайны мрачной философии Нила, показал ему искусство читать будущее по звездам, посвятил в ту странную химию, которая в те времена, когда самый разум был лишь созданием воображения, могла сойти за дивную волшебную науку. В глазах Апекидеса египтянин являлся каким-то высшим существом, одаренным сверхъестественными способностями. Молодой жрец, уже с детства горячо жаждавший познаний в области высшей, не от мира сего, был ослеплен, поражен новыми откровениями до того, что его рассудок помутился. Он всей душой предался культу, потакавшему двум главным страстям человека – наслаждению и знанию.
Ему было противно думать, чтобы такой мудрец мог заблуждаться, что существо, столь возвышенное, унизилось до обмана. Запутавшись в паутине метафизической морали, он находил оправдание в софистических рассуждениях египтянина, возводившего порок в добродетель. Самолюбие его было польщено тем, что Арбак удостоил поставить его на одну доску с собою, сделать его участником и в своих мистических занятиях, и в своих волшебных наслаждениях. Чистое, суровое учение той веры, в которую старался обратить его Олинтий, испарилось из его памяти под наплывом новых страстей. А египтянин, посвященный в догматы этой истинной веры, узнав, какое впечатление она произвела на его ученика, искусно старался уничтожить, изгладить это впечатление, обсуждая ее полусаркастическим, полусерьезным тоном.
– Эта вера, – говорил он, – не более как заимствование одной из аллегорий, придуманных нашими жрецами в древности. Заметь, – продолжал он, указывая на свиток с иероглифическими письменами, – заметь, в этих старинных фигурах заключается зачаток учения о христианской Троице. Здесь тоже три божества: Бог, Дух и Сын. Заметь, что эпитет Сына – также Спаситель, а символ его человечества – крест. Обрати внимание на мистическую историю Осириса, на то, как он умер, как лежал в гробе и как восстал из мертвых! В этих историях мы имели в виду изобразить лишь аллегорию обновления природы и вечности небес. Но аллегория была оставлена в стороне, а самые типы доставили народам материал для различных верований. Точно так же и галилейская секта бессознательно повторяет предрассудки с берегов Нила!..
Этот последний аргумент окончательно убедил жреца. Как и все люди, он чувствовал потребность во что-нибудь веровать и наконец всецело, добровольно отдался той вере, которую проповедовал Арбак, – вере, благоприятствовавшей страстям и наслаждениям и льстившей самолюбию.
Одержав эту легкую победу, египтянин мог теперь отдаться другой цели, гораздо более дорогой и милой его сердцу. Ему удалось завлечь юношу, и он считал это счастливым предзнаменованием, сулившим победу и над его сестрой.
Он виделся с Ионой на другой день после описанного нами пира. Это был тот самый день, когда ему удалось восстановить ее против своего соперника. В следующие за тем дни он тоже посещал ее и каждый раз действовал с необыкновенным искусством – отчасти, чтобы укрепить в ней дурное настроение против Главка, отчасти, чтобы подготовить ее к новым впечатлениям, как он желал внушить ей. Гордая Иона старалась скрыть свое огорчение. А в этом отношении женщина способна так лицемерить, что может обмануть самых проницательных, самых хитрых людей. Однако Арбак был слишком осторожен, чтобы касаться щекотливого предмета, напротив, он считал политичным придавать ему как можно меньше значения. Он знал, что чересчур много говорить о проступке соперника – значит только возвышать его в глазах возлюбленной. Поэтому самое благоразумное – не выражать вслух своей ненависти и не осуждать его, а стараться унизить его, относясь к нему равнодушно, как будто и не подозревая, чтобы он мог быть любимым. Такова была и будет во все времена политика человека, изучившего женскую натуру, – этой же политики придерживался и египтянин.
Итак, он больше не обвинял Главка в дерзкой самонадеянности, и хотя упоминал его имя, но не так часто, как имя Лепида или Клавдия. Он делал вид, будто ставит их на одну доску, как людей ничтожных, низшего сорта, похожих на мотыльков, с той только разницей, что им недостает невинности и грации. Между прочим, он слегка упоминал о каком-нибудь выдуманном им кутеже приятелей, а иногда, к слову, выставлял их как людей, противоположных тем возвышенным, благородным натурам, к которым принадлежала Иона. Сбитый с толку гордостью Ионы, а быть может и своей собственной, он и не подозревал, что она уже полюбила Главка. Он только боялся, что она чувствует к нему легкое, мимолетное увлечение, которое часто ведет к любви. Втайне он скрежетал зубами от гнева и ревности, вспоминая о молодости, привлекательности и блестящих качествах своего опасного соперника.
Однажды, – это было на четвертый день после событий, закончивших первую часть этой книги, – Арбак и Иона сидели вместе.
– Зачем ты носишь покрывало дома, – сказал египтянин, – это не любезно для тех, кому ты даришь свою дружбу.
Действительно, Иона опустила вуаль на лицо, чтобы скрыть свои глаза, покрасневшие от слез.
– Но для Арбака, – отвечала она, – только душа имеет значение, не все ли ему равно, что лицо закрыто?
– Это правда, я смотрю только на душу, – отвечал египтянин, – поэтому покажи мне свое лицо, – на нем я вижу отражение твоей души!
– Ты научился говорить любезности в Помпее, – проговорила Иона с притворной веселостью.
– Неужели ты думаешь, прекрасная Иона, что только в Помпее я научился ценить тебя?
Голос египтянина задрожал.
– Есть любовь, прелестная гречанка, – продолжал он, помолчав немного, – не та любовь, что свойственна только людям молодым и легкомысленным, а иная любовь, высшая, она не глазами видит и не ушами слышит: это родство душ. О такой любви мечтал соотечественник твоих предков Платон. Его последователи старались подражать ему. Но эта любовь недоступна толпе, она есть удел одних только благородных, возвышенных натур. Она не имеет ничего общего с узами и симпатиями грубой привязанности. Морщины не смущают ее, некрасивые черты лица не препятствуют ей. Она требует молодости – это правда, но только из-за свежести ее впечатлений, она требует красоты – но красоты души, помыслов. Такова эта любовь, о Иона, – достойное тебя приношение со стороны холодного, сурового человека. Ведь ты считаешь меня холодным и суровым? Такова любовь, которую я осмеливаюсь предложить тебе, ты можешь принять ее, не краснея.
– Имя ей – дружба! – отвечала Иона. Ответ ее был прост, а между тем звучал упреком, как будто она сознавала намерение говорившего.
– Дружба! – воскликнул Арбак с горячностью. – Нет, это слово слишком часто профанируется, чтобы можно было применить его к такому святому чувству. Дружба – это узы, соединяющие глупцов и кутил. Дружба! Это связь между легкомысленными сердцами какого-нибудь Главка и какого-нибудь Клавдия! Дружба – нет, это земная привязанность, это общность пошлых привычек и низменных вкусов. Чувство, о котором я говорю, заимствовано у звезд[15]15
Платон.
[Закрыть], оно похоже на несказанное, мистическое волнение, овладевающее нами, когда мы созерцаем звезды. Оно жжет, но очищает – это лампа в алебастровой вазе, – пламя распространяет дивный аромат, но светит только сквозь чистейшие, тончайшие сосуды. Нет, не любовь и не дружбу чувствует Арбак к Ионе. Не давай названия этому чувству, – на земле нет для него имени, так как оно не от мира сего, – к чему же унижать его земными эпитетами, земными сравнениями?
Никогда еще Арбак не осмеливался заходить так далеко. Однако он осторожно ощупывал почву под ногами. В наше время аффектированного платонизма эти речи, может быть, звучали бы естественно в ушах красавицы, но в то время они казались странными, непонятными и не могли вызвать никакого определенного объяснения. Он знал, что после таких речей он всегда может незаметно или пойти дальше, или отступить, смотря по тому, улыбнется ли ему надежда, или он встретит отпор. Иона задрожала, сама не зная почему. Вуаль скрывала ее черты и выражение лица, которое сразу охладило бы египтянина и привело бы его в ярость, если б только он мог его видеть. В сущности никогда еще он не был так неприятен ей. Даже гармонические переливы его голоса резали ее ухо. Душа ее была все еще переполнена образом Главка, и нежные слова из уст другого только возмущали и пугали ее. Однако она не подозревала, что более пылкая страсть таится под этим платонизмом, о котором говорил Арбак. Она вообразила, что он, в самом деле, подразумевает привязанность и симпатию душ. Но ведь именно эта привязанность, эта симпатия входили в состав ее чувства к Главку. Неужели же кто-нибудь другой приблизится к святилищу ее сердца?
Желая поскорее переменить разговор, она отвечала холодным, равнодушным тоном:
– Если Арбак удостаивает кого-либо своим уважением, то весьма понятно, что его великая мудрость придает этому чувству особую окраску. Понятно также, что дружба его чище и возвышеннее, нежели у других смертных, заблуждений и недостатков которых он не разделяет. Но скажи мне, Арбак, давно ли видал ты моего брата? Вот уже несколько дней, как он не посещал меня. В последний раз, когда мы виделись, его вид и настроение смутили и встревожили меня. Боюсь, что он поторопился, выбрав такую суровую профессию, и что он раскаивается в своем непоправимом шаге.
– Успокойся, Иона, – отвечал египтянин. – Это правда, еще недавно он был смущен и грустен, его мучили сомнения и колебания, свойственные пылкому темпераменту. Но он пришел ко мне, Иона, он доверил мне свои тревоги и огорчения. Он обратился к человеку, который жалеет и любит его. Я успокоил его душу, я устранил его сомнения, я ввел его в самое святилище мудрости, и перед величием богини мятежный дух его смирился. Не бойся, он больше не будет раскаиваться: кто доверится Арбаку, тот недолго будет раскаиваться.
– Ты радуешь меня, – сказала Иона. – Милый брат! – если он доволен, то и я счастлива!
Разговор перешел на более легкие темы. Египтянин старался нравиться и даже снизошел до того, что занимал Иону беседой. Разнообразие и обширность его познаний давали ему возможность делать интересным всякий предмет, чего бы он ни коснулся, и Иона, забыв неприятное впечатление, произведенное на нее предыдущими речами, увлеклась, несмотря на свою грусть, волшебной прелестью его ума. Обращение ее стало непринужденным, речь потекла свободно, и Арбак, только и ждавший удобного случая, поспешил воспользоваться им.
– Ты еще ни разу не видела внутреннего устройства моего дома, – начал он, – может быть, это развлечет тебя. В нем есть комнаты, которые дадут тебе понятие об египетских жилищах. Разумеется, жалкие, миниатюрные размеры римской архитектуры не могут сравниться с массивностью, величавой громадой и исполинским великолепием фивских и мемфисских дворцов. Но все-таки ты увидишь кое-что, напоминающее ту древнюю цивилизацию, которая просветила мир. Подари же старому другу твоей юности один из этих ясных летних вечеров и дай мне похвастаться, что мое мрачное жилище удостоено посещением очаровательной Ионы.
Иона согласилась с готовностью, не подозревая, какой разврат гнездится в этом доме, не подозревая ожидавшей ее опасности. Посещение было назначено на завтрашний вечер, и египтянин удалился с веселым лицом Сердце его учащенно билось необузданной, нечистой радостью. Едва успел он уйти, как доложили о новом посетителе. Но вернемся к Главку.
V. Бедная черепаха. – Новая перемена в участи Нидии
Утреннее солнце ярко освещало маленький, благоухающий садик, заключенный в перистиле дома афинянина. Главк полулежал, грустный и задумчивый, на мягкой траве виридариума, легкий навес защищал его голову от палящих лучей летнего солнца.
При раскопках Помпеи в саду этого очаровательного жилища была найдена броня черепахи. Это странное создание, которому природа как будто отказала во всех радостях жизни, осудив его на пассивное, полусонное существование, обитало в этом доме задолго до того, как Главк приобрел его. Дом строили и перестраивали, владельцы его менялись несколько раз, целые поколения появлялись и исчезали, а черепаха все продолжала влачить свое безрадостное, смиренное существование. Во время землетрясения, за шестнадцать лет до описываемой нами эпохи, дом, занимаемый теперь Главком, страшно пострадал. Тогдашние владельцы покинули его на много лет. Вернувшись, наконец, они расчистили развалины, обрушившиеся на виридариум, и нашли черепаху невредимой, равнодушной к окружающему разрушению. Она вела как будто заколдованную жизнь, ленивую и застывшую, а между тем она вовсе не была так неподвижна, как казалось. Она неустанно совершала свой правильный, однообразный путь: дюйм за дюймом она двигалась по маленькой орбите своих владений. Целые месяцы требовались ей для прохождения всего пути. Неутомимой путешественницей была эта черепаха! Терпеливо, с усилием, совершала она свои добровольные странствия, не обращая внимания ни на что окружающее, – как философ, сосредоточенный в самом себе. Было что-то величественное в ее замкнутом эгоизме! Единственной ее неизменной отрадой было солнце, которое грело ее, вода, которая ежедневно лилась на нее, воздух, который она незаметно вдыхала. Нечувствительные перемены времен года в этом чудном климате не оказывали на нее действия. Она уходила в свою броню, как святой в свое благочестие, как мудрец в науку, как влюбленный в свою надежду.
Она была нечувствительна ни к каким потрясениям и переменам времени – она казалась эмблемой самого времени: такая медленная, постоянная, равнодушная к страстям, бушующим вокруг, и к треволнениям человечества. Бедная черепаха! Ничто, кроме разве извержения вулканов или переворотов мира, не могло замедлить ее ленивого хода! Неумолимая смерть, не щадящая ни величия, ни красоты, проносится мимо, как бы не замечая этого существа, для которого жизнь и смерть почти безразличны.
Живой, подвижный грек чувствовал к этому животному какое-то влечение в силу контраста. Он мог проводить целые часы, наблюдая, как она ползает, и размышлять над ее устройством. В счастье он презирал ее, а в горе – завидовал ей.
Так и теперь, лежа на траве, он наблюдал, как медленно ползла ее темная масса, хотя на вид казалась неподвижной, и тихо говорил про себя:
– Орел выронил из когтей своих камень, рассчитывая пробить твою броню, но, вместо того, камень размозжил голову поэту. Вот аллегория судьбы! Печальное создание! И у тебя были родители. Давно, может быть, век тому назад, была у тебя подруга. Любили ли тебя родители, и любила ли ты их? Обращалась ли твоя кровь быстрее, когда ты ползла рядом со своей подругой? Была ли ты способна к привязанности? Могло ли огорчить тебя ее отсутствие? Дорого бы я дал, чтобы узнать, что таится в твоей груди, окованной броней, заглянуть в твои желания, определить, какое расстояние отделяет у тебя горе от радости! Однако мне кажется, ты все-таки могла бы чувствовать присутствие Ионы – ее приближение было бы и для тебя отрадно, как яркое солнце, как дуновение ветерка. Теперь я завидую тебе – ведь ты не знаешь, что она отсутствует, – о, как я желал бы походить на тебя в промежутках между нашими свиданиями! Какие-то сомнения, тяжелые предчувствия закрались в мою душу. Отчего она не принимает меня? Сколько дней прошло с тех пор, как я в последний раз слышал ее голос. Впервые жизнь кажется мне пустой и скучной. Я чувствую себя, как человек, оставшийся один на банкете, когда свечи потухли и цветы завяли. О Иона, если бы ты только знала, как я боготворю тебя!
Влюбленные мечтания Главка были прерваны приходом Нидии. Легкими, осторожными шагами она прошла через мраморный таблиниум, вошла в портик и остановилась перед цветами, окаймляющими сад. В руках у нее был кувшин с водой, и она поливала истомленные растения, которые как будто ожили от ее приближения. Она нагибалась над ними, вдыхая их аромат, она прикасалась к ним робкой, ласковой рукой. Она ощупывала их стебельки, – нет ли на них засохшего листика или зловредного насекомого. Глядя на ее молодую фигуру, грациозно переходившую от цветка к цветку, трудно было бы представить себе более подходящую прислужницу для богини садов.
– Нидия, дитя мое! – позвал Главк.
При звуке этого голоса она вдруг вся замерла, прислушиваясь, краснея и затаив дыхание. С полуоткрытыми устами, подняв кверху лицо, она старалась уловить направление звука. Затем она поставила лейку и поспешила к нему. Удивительно было видеть, как ловко она пробиралась между цветов и нашла кратчайший путь к тому месту, где был ее новый господин.
– Нидия, – сказал Главк, нежно откидывая назад ее прекрасные, длинные волосы, – вот уже три дня, как ты живешь под покровительством моих домашних богов. Счастлива ты?
– О! Как счастлива! – вздохнула раба.
– А теперь, – продолжал Главк, – когда ты немного оправилась от ненавистных воспоминаний о прежней жизни, теперь, когда тебя одели (он дотронулся до ее вышитой туники) в платье, более приличное твоей грациозной фигуре, – теперь, дитя, когда ты привыкла к счастью – (молю богов, чтобы оно было вечно) я буду просить у тебя одной услуги.
– О, говори, что я могу сделать для тебя? – отвечала Нидия.
– Слушай, – молвил Главк, – как ты ни молода, ты будешь моей поверенной. Слыхала ли ты когда-нибудь имя Ионы?
Слепая с трудом перевела дыхание и, побледнев, как одна из статуй, украшавших перисталь, вымолвила с усилием, после короткого молчания:
– Да, я слышала, что она из Неаполиса и прекрасна собой.
– Прекрасна!.. Красота ее ослепительна, как божий день! Из Неаполиса, да, но она родом гречанка. Только Греция может дать такое совершенство форм. Нидия, я люблю ее!
– Так я и думала, – отвечала Нидия спокойно.
– Я люблю ее, и ты передашь ей это. Я хочу послать тебя к ней. Счастливица! Ты войдешь в ее комнату, будешь упиваться музыкой ее голоса, дышать воздухом, окружающим ее.
– Как! Ты хочешь удалить меня?
– Ты будешь у Ионы, – отвечал Главк таким тоном, как будто хотел сказать: «Чего же тебе еще остается желать?»
Нидия залилась слезами.
Главк, приподнявшись, привлек ее к себе с братской лаской.
– Дитя мое, милая моя Нидия, ты плачешь потому, что не знаешь, какое счастье ожидает тебя. Она кротка, добра, мягка, как весенний ветерок. Она будет сестрой тебе, она оценит твои чарующие таланты. Более чем кто-либо она способна полюбить твою скромную грацию, потому что она сама такова же… Ты все еще плачешь, милая моя дурочка? Я не стану принуждать тебя, дорогая. Но разве ты не хочешь доставить мне удовольствие?
– Хорошо, если я могу услужить тебе – приказывай. Видишь, я перестала плакать, я спокойна…
– Я узнаю мою Нидию, – продолжал Главк, целуя ее руку. – Иди же к ней: если ты не найдешь в ней той доброты, о которой я говорил, если окажется, что я обманул тебя, – можешь вернуться, когда захочешь. Я не дарю тебя, а только отдаю на время. Дом мой всегда будет твоим убежищем, дорогая! Ах, отчего он не может укрыть всех несчастных, бесприютных! Но если верно предчувствие моего сердца, то ты скоро вернешься ко мне, дитя мое. Мой дом будет домом Ионы, и ты будешь жить с нами обоими.
Слепая девушка вздрогнула всем телом, но она уже не плакала: она покорилась судьбе.
– Ступай же, Нидия, в дом Ионы. Тебе покажут дорогу. Снеси ей лучшие цветы, какие только можешь сорвать. Я дам тебе для них вазу: извинись за меня, что она так недостойна Ионы. Возьми с собой лютню, которую я вчера подарил тебе и на которой ты так очаровательно играешь. Передай ей также это письмо. После многих стараний я изложил в нем хоть малую долю моих мыслей. Прислушивайся хорошенько к малейшей интонации ее голоса и скажи мне, когда мы снова увидимся, звучал ли он благоприятно для меня, или же я должен отказаться от всякой надежды. Вот уже несколько дней, Нидия, как Иона не принимает меня. Тут кроется что-то таинственное. Меня терзают страх и сомнения. Выведай, пожалуйста, – ведь ты ловка и твоя привязанность удвоит твою смышленость, – выведай причину такой немилости. Говори обо мне как можно чаще, пусть имя мое будет постоянно на твоих устах. Намекни ей, хотя и не высказывай открыто, как сильно я люблю ее. Наблюдай, вздыхает ли она, слушая тебя, заметь ее ответы. Будет ли она осуждать меня, а если будет, то в каких выражениях? Будь мне другом, замолви за меня слово. О! Так ты отплатишь мне сторицей за то немногое, что я сделал для тебя! Понимаешь меня, Нидия? Но ты еще ребенок, быть может, я сказал более, чем ты можешь понять?
– Нет.
– И ты окажешь мне эту услугу?
– Да.
– Приходи ко мне, когда нарвешь цветов, и я дам тебе вазу, о которой говорил. Я буду в комнате Леды. Ну что, прелесть моя, перестала грустить?
– Главк, я раба, – имею ли я право грустить или радоваться?
– Не говори так, Нидия. Я дарю тебе свободу, пользуйся ею, как хочешь, и прости меня, если я рассчитывал на твое желание услужить мне.
– Ты обижен! О, за все блага свободы я не хотела бы оскорбить тебя, Главк. Мой покровитель, мой благодетель, прости бедную слепую! Я не буду даже печалиться при разлуке с тобой, если это может содействовать твоему счастью.
– Да благословят боги твое благородное сердце! – молвил Главк, глубоко тронутый и не подозревая пылких чувств, которые возбуждает. Он несколько раз поцеловал ее в лоб.
– Итак, ты прощаешь меня, не будешь больше говорить о свободе. Все мое счастье в том, чтобы быть твоей рабыней. Ты дал слово, что не подаришь меня никому?
– Я обещал.
– А теперь я пойду нарвать цветов.
Молча Нидия приняла из рук Главка драгоценную, осыпанную каменьями вазу и поставила в нее цветы, – одни других прелестнее и душистее. Не пролив ни единой слезы, она выслушала его прощальные наставления. Когда голос его замолк, она постояла перед ним молча, не надеясь на свои силы, чтобы отвечать, затем ощупью отыскала его руку, прижала ее к губам и, опустив покрывало на лицо, быстро удалилась. Дойдя до порога, она опять остановилась, протянула руки к дому и тихо прошептала.
– Три счастливых дня. Три дня невыразимого счастья миновали с той минуты, как я переступила тебя, о благословенный порог! Да будет мир над этим домом в мое отсутствие! Сердце мое разрывается от разлуки с тобой. Одно мне остается – умереть!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































