Текст книги "Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова"
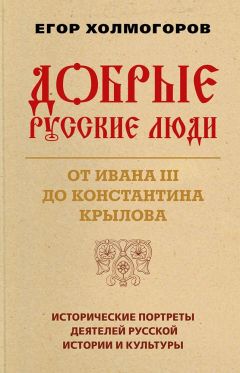
Автор книги: Егор Холмогоров
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Честь «русского людоеда»
Главный фронт Михаила Муравьёва был не в Вильне и не в Гродно, а в Санкт-Петербурге. Среди имперской бюрократии было чрезвычайно много, не меньше чем сегодня, «многонационалов» – они не скрывали своих симпатий к полякам, говорили, что Муравьёв поступает слишком жестоко, что он «красный», так как предпочитает русского мужика ясновельможному польскому аристократу, что он душегуб и людоед, подрывающий своими действиями престиж Империи, а надо с поляками полюбовно договориться.
Михаил Николаевич так комментировал это в своих мемуарах: «Известно, что большая часть русской аристократии, воспитанная в идеях европейских, без чувства уважения к своей религии и своему отечеству, всегда действовала без убеждений, согласно господствующему направлению на Западе. Для них России и православной религии нет, они космополиты, бесцветные и бесчувственные для пользы государства, и первое место у них занимают их собственные выгоды и своя личность… Таково было увлечение высшей петербургской сферы, что они, подстрекаемые польскою партиею, хватались за все самые нелепые идеи, чтоб только обвинить и обессилить принятые мною необходимые меры к укрощению мятежа».
Иногда следовали открытые демарши. Петербургский губернатор Александр Аркадьевич Суворов, внук великого полководца, благоволивший к полякам, отказался подписать приветственное послание в честь Михаила Муравьёва, и публично назвал того «людоедом». И второй раз вошел в русскую литературу.
Первым разом было упоминание в заключительной строчке пушкинской Бородинской годовщины, так как именно А. А. Суворова в 1831 году отправили с донесением к императору о взятии Варшавы. Второе столкновение с русской поэзией было для Александра Аркадьевича не столь приятным – поэтическую отповедь ему написал сам Фёдор Тютчев:
Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы «людоеда»,
Мы, русские, Европы не спросясь!..
Как извинить пред вами эту смелость?
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя призванью своему?
Кто всю ответственность, весь труд и бремя
Взял на себя в отчаянной борьбе —
И бедное, замученное племя,
Воздвигнув к жизни, вынес на себе?..
Кто, избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим —
Назло врагам – их лжи и озлобленью,
Назло – увы – и пошлостям родным.
Так будь и нам позорною уликой
Письмо к нему от нас, его друзей!
Но нам сдаётся, князь, ваш дед великий
Его скрепил бы подписью своей.
Интересно, что приключения Суворова-внука в русской литературе на этом не закончились – снова он стал её фигурантом в очерках Николая Семеновича Лескова «Иродова работа», начинавшихся с рассказа о том, как А. А. Суворов, будучи губернатором Прибалтийского края, потакал немцам и гнобил русских.
Разумеется, у Михаила Муравьёва были не только враги. Друзей было гораздо больше. Это были патриоты России, уверенные в том, что будущее империи состоит не в том, чтобы стать лоскутным многонациональным государством вроде Австрийской Империи, а, напротив, в том, чтобы она была объединена русским народом и русской культурой.
Огромную поддержку Муравьёву оказывал выдающийся русский публицист, издатель «Московских Ведомостей» Михаил Никифорович Катков. Вот что он писал в статье «Заслуга графа Муравьёва»: «Теперь посреди русского общества никто не осмелится сказать открыто, что Русское государство не должно быть русским в той или другой части своей территории, что русская политика внутри или вне не должна быть национальною; теперь даже злоумышленники и негодяи стараются подделываться под патриотический тон.
Отстаивать единство, целость и национальность Русского государства казалось делом безумным, отчаянным и невозможным; молвить слово против измены и мятежа, грозившего раздроблением России, значило вооружить против себя все стихии.
Всё русское было поражено бессилием и унынием, всё враждебное России заранее торжествовало победу, и Европа ожидала с часу на час, что Россия исчезнет с горизонта, как марево. Минута была критическая!
Граф Муравьёв принял на себя всю ненависть, всю злобу как внутренних, так и заграничных врагов единства и целости России. Деятельность его было проникнута неизменным сознанием, что Литва и Белоруссия могут быть только русским краем.
При нем впервые после долгого времени почувствовалось там присутствие русской силы: загнанное русское племя встрепенулось и приободрилось; всё русское, бывшее доселе в уничтожении, вошло в почет; сами поляки начали, по-видимому, сознавать необходимость отречься от несбыточных мечтаний и обратиться в граждан земли русской…
Мы, русские, не можем не чествовать в нём человека, положившего начало возрождению русской народности, до того времени забитой и загнанной в западном крае России».
Правда, Каткову всё равно приходилось восклицать: «Странная участь русской народности! Русская народность считается у нас господствующею народностью, Православная церковь – господствующею церковью; но малейший признак жизни в русском обществе, малейшая попытка русских людей сгруппироваться для совокупного действия даже против организованной измены и революции, даже для поддержания православия и русской народности против организованной пропаганды, – это кажется нам чем-то странным, чем-то неудобным, даже опасным».
В 1866 году, утомленный трудами, Михаил Николаевич Муравьёв ушел из жизни победителем. Он ещё успел провести расследование покушения на Александра II, совершенного нигилистом Д. Каракозовым, и вопреки общим ожиданиям пришел к выводу, что тут не польский заговор, а болезнь самого отравленного нигилизмом и космополитизмом русского общества.
Испуганный предполагавшимся закрытием своего подрывного журнала «Современник», Н. Некрасов ещё попытался прочесть Муравьёву свою лицемерную оду, на которую тот среагировал с отменным презрением. Вот как описывает эту картину барон Андрей Дельвиг.
«После обеда, когда Муравьёв сидел со мной и другими членами в галерее при входе в столовую залу, к нему подошел издатель журнала “Современник”, известный поэт Некрасов, об убеждениях которого правительство имело очень дурное мнение. Некрасов сказал Муравьёву, что он написал к нему послание в стихах и просил позволения его прочитать. По прочтении он просил Муравьёва о позволении напечатать это стихотворение. Муравьёв отвечал, что, по его мнению, напечатание стихотворения было бы бесполезно, но так как оно составляет собственность Некрасова, то последний может располагать им по своему усмотрению. Эта крайне неловкая и неуместная выходка Некрасова очень не понравилась большей части клуба».
Реванш за подлые «Размышления у парадного подъезда», как видим, был полный.
Михаил Николаевич мирно скончался во сне после освящения устроенной им в своём имении церкви. И даже могила его на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры каким-то чудесным образом дошла до наших дней не разрушенная большевиками.
Ставка на русских
Михаил Николаевич Муравьёв своей политикой сумел показать, что сплочение русского государства и общества во имя общего русского дела возможно, что проведение чистой прорусской политики с опорой на русские кадры дает изумительные плоды, что это самая эффективная для России политика из возможных. «Ставь на русских и не ошибешься», – как бы говорили дела Муравьёва всем и каждому. Имели значение не только его действия, но и сама история успеха.
Одним из последователей Муравьёва был Петр Аркадьевич Столыпин. Его отец был видным соратником М. Муравьёва и И. Корнилова в деле преобразования школ и музеев в Западном крае. П. Столыпин, как и М. Муравьёв, был гродненским губернатором и всю жизнь вполне осознанно старался походить на своего предшественника: и в решительности подавления крамолы; и в умении сочетать наведение порядка с глубокими реформами в интересах русского крестьянина; и в последовательной ставке на величие русской нации.
Не так давно некоторые наши начальники попытались через своих подручных продвинуть идею восстановления памятника Ф. Дзержинскому на Лубянской площади. Их не смутило то, что это памятник кровавому русофобу-террористу до революции, а после революции – организатору красного террора, уничтожившему сотни тысяч и миллионы русских православных людей. В Дзержинском они хотели увидеть символ эффективного и беспощадного государства, власти, которая заставляет с собой считаться.
Но, конечно, если выбирать символ такой беспощадной и эффективной власти, но при этом русской и православной власти, служащей России и русскому народу, а не Польше и не мировой революции, то этим символом должен быть именно Михаил Николаевич Муравьёв. Именно ему следует ставить памятники и на Лубянке и много где ещё, вешать его портреты в чиновничьих кабинетах и проходить в учебниках истории. Надеюсь, доживем и до этого.
Что читать о Михаиле Муравьёве:
1) Бендин, А. Ю. Граф Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский – усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи: монография. – М.: Книжный мир, 2017;
2) Воспоминания современников о Михаиле Муравьёве, графе Виленском. – М.: Институт русской цивилизации, 2014;
3) Муравьёв-Виленский, М.Н. «Готов собою жертвовать…» – М.: Пашков дом, 2009;
4) Федосов, П. А. Жизнь М. Н. Муравьёва (1796–1866). Факты, гипотезы, мифы. – СПб: Нестор-История, 2021;
5) Федосова, Э. П. Граф М. Н. Муравьёв-Виленский (1796–1866): жизнь на службе империи. – М: Издательский центр Ин-та российской истории РАН, 2015.
Михаил Катков
Философ на газетном троне

Михаил Никифорович Катков (1818–1887) – самая значительная фигура за всю историю русской публицистики. Он сделал свою газету «Московские ведомости» второй после царской (а порой, по совести сказать, и первой) властью в России в 1860–1880‐е гг.: редакция на Страстном бульваре превратилась в настоящий «департамент Каткова», откуда ждали указаний министры, сенаторы, губернаторы, порой даже жандармы.
Слово публициста приобрело политический вес. Причем не при посредстве «общественного мнения», а благодаря собственной убедительности, благодаря тому, что Каткову удалось внести смысл, целостность видения и ясность направления в деятельность государственной машины эпохи Александра II и первой половины царствования его сына. Облеченная в блестящую литературную форму, страстная и, в то же время, строго логичная публицистика Каткова подкреплялась его личным влиянием на множество государственных деятелей – и это позволяло Михаилу Никифоровичу требовать изменения принципов национальной политики, останавливать и хоронить проекты конституции, вводить новую систему гимназического образования, изменять университетский устав и законодательство о судах.
Он представлял себя, свои печатные издания и свою неформальную политическую «партию» как охранную систему, обязанную реагировать на любые угрозы, возникающие с любой страны для государства. В конце жизни, оправдываясь перед Александром III, разгневанным попыткой Каткова диктовать внешнюю политику (Михаил Никифорович требовал заменить пронемецкого «министра иностранных дел в России» Н. Гирса и подталкивал страну к тесному союзу с Францией, каковой и был реализован после его смерти), публицист попросил передать государю: «Я повинуюсь инстинкту сторожевого пса, который не может быть спокоен, чуя недоброе для дома и для его хозяина».
М. Катков в итоге вычеркнул из письма к императору это сравнение, так как осознал, что профессиональный охотник поймет его несколько иначе, нежели понимает он сам – профессиональный философ. Образ «сторожевых псов» постоянно встречается в «Государстве» и других диалогах великого Платона. С ними великий афинянин ассоциирует сословие стражей, которое, руководимое пастухами-философами, должно охранять мир, целостность и могущество государства. «Ведь в нашем государстве мы поручили его защитникам служить как сторожевым псам, а правителям – как пастухам».
Метафизика центростремительного движения
Мы не поймем ничего в идеях Каткова, его политической мысли и политической практике, если забудем о том, что Михаил Никифорович был одним из компетентнейших русских философов первой половины XIX века, последователем одного из величайших представителей немецкой классической философии – Фридриха Шеллинга, в доме которого часто бывал в период, когда обучался в Германии.
«История есть эпическая поэма, составленная в уме Бога. Две главные её части таковы: в первой изображается уход человечества от своего центра к самым дальним пределам, а вторая изображает возвращение. Первая часть – “Илиада”, вторая – “Одиссея” истории. В первой было центробежное движение, во второй – центростремительное», – в такой поэтичной формуле Шеллинг выразил саму суть своей философии.
Родился Михаил Никифорович в Москве, 1 (13) февраля 1818 года, в семье мелкого чиновника, причём, кажется, ещё дед его не был дворянином. Мать была кастеляншей, то есть заведовала бельем, в Бутырской тюрьме. Жили в нищете, но несмотря на это Катков получил блестящее гимназическое, а затем университетское образование. Когда он сдавал экзамены в Московском университете, инспектор С. Нахимов, брат адмирала П. Нахимова, посылал студентов послушать ответы Каткова, чтобы понять, как надо учиться.
По натуре Михаил Никифорович был типичным «пассионарием» в совершенно «гумилёвском» значении этого слова. Он сочетал фантастическое упорство, волю к знаниям, огромный талант и внутреннюю силу с каким-то кипучим фанатизмом и готовностью крушить всё и вся на пути к цели и не щадить никого и ничего. В. Белинскому, дружившему с ним в молодости, Катков казался диким, необузданным, самолюбивым ребенком, таящим в себе невероятные силы, которые сотрясут все вокруг.
Университет М. Катков закончил в 1838 году, став блестящим филологом. Он начинает сотрудничать в «Отечественных Записках» и «Московском наблюдателе» как переводчик и литературный критик. Помогает В. Белинскому изучать Г. Гегеля. Активно участвует в московских кружках Н. Станкевича, Т. Грановского и А. Герцена – Н. Огарева. Наряду с будущими западниками и революционерами, активно общается и с тяготевшими к шеллингианству славянофилами.
Вопреки постоянно встречающимся в нашей литературе утверждениям, М. Катков никогда не «переходил от Гегеля к Шеллингу». Первые же его статьи проникнуты полноценным шеллингианским мировоззрением. Первая же крупная программная статья молодого автора, – рецензия на «Песни русского народа», изданные И. Сахаровым, опубликованная в «Отечественных Записках» в 1839 году, была выполнена в традициях русского шеллингианства. «Уже из первых вступительных строк виден в авторе ученик профессора Павлова, в пансионе которого он обучался», – вспоминал А. Д. Галахов. Профессор и содержатель пансиона М. Г. Павлов, бывший одним из виднейших тогдашних русских шеллингианцев, заявлял: «Последователи сего Философа теорию его проводят чрез все царства природы с разительным успехом; по сему теория Шеллинга имеет право на преимущество пред всеми доселе известными».
Уже в первом произведении, едва перешагнувший порог двадцатилетия мыслитель предлагают построенную на шеллингианских принципах оригинальную философию русской истории, основных тезисов которой будет придерживаться всю жизнь.
Народ М. Катков рассматривает как единство шеллингианского типа, то есть холистическое, органическое единство, таинственно проявляющееся в индивидуальном и многом: «Народ есть органическое, живое существо, но чисто духовное, а не чувственное. В каждом отдельном предмете части, составляющие его, и единство этих частей, связующее их в одно целое, пребывающее на известной точке пространства, – сопроникаются взаимно и взаимно друг друга условливают. Отнять от предмета это единство – значит рассыпать его на части, значит умертвить его… В народе целость частей существует не явно, как в отдельном предмете: она незрима, она таинственно связует члены народа, по-видимому разрозненные, по-видимому не имеющие никакой внутренней, живой связи. Части народа сами по себе, в их разрозненности, доступны для эмпирического воззрения; но видеть органическое существо в народе, видеть живую связь его частей может только тот, у кого открылись духовные очи».
Начало истории русского народа, следуя принципу шеллингианской космогонии, Катков усматривает в центробежном движении, которым характеризовалась удельная Русь, Russia divisa, как назвал её Шлецер. Это этап творческого превращения тождества во множество (и его распространения, кладущего начало универсуму) и рисует величественную картину центробежного движения русской истории: от первоначального недолгого единства при первых Рюриковичах до предельной раздробленности, в которой русский народ предстает как первотворец и первожертва, рассекающий себя на части.
«Различные коренные элементы, из которых после организовалось государственное тело России, в мгновенном соединении ознакомились друг с другом, вгляделись друг другу в лицо, чтобы после узнать друг друга, и разошлись, не утратив, однако, чувства своего единства, заключавшегося для них в общем центре. Как ни дробились, как далеко ни находились они, этот общий центр никогда совершенно не терял своей притягательной силы. Великое княжество или непосредственно, как высшая сила, или косвенно, как цель стремлений, как игрушка честолюбия удельных князей, было этим центром… Всё назначение сил Руси в продолжение этого смутного периода, по-видимому, состояло только в том, чтобы без всякой определенной цели взаимно гнать друг друга и разбегаться по пространству, чем дальше, тем лучше; все назначение народа заключалось в ужасной необходимости разрывать себя на части и разбрасывать свои члены во все стороны, чем дальше, тем лучше…
Когда же наконец народ свершил по этому направлению всё нужное, когда он занял огромную часть того пространства, которое зовется теперь Европейскою Россиею, когда клуб сил народа размотался до истощения, тогда это разбежное движение должно было прекратиться и смениться новым направлением… Ещё один шаг – и народ достиг бы до последней крайности, и это эксцентрическое движение погубило бы Русь…»
Если бы центробежное движение не сменилось бы центростремительным, то «разбросанные члены народы разъединились бы навеки; каждый из них сосредоточился бы сам в себе и стал бы жить своею собственною жизнию, подобно частям рассеченного полипа…» А если бы после подобного расторжения русские элементы снова соединились бы, то «их сплавила бы не родная кровь: их связал бы чуждый цемент, и это целое не было бы выражением сущности русского народа, не было бы Русью». По всей видимости, под таким «чуждым цементом» вместо родной крови, который мог бы связать русские земли, подразумевается здесь Литва.
На смену центробежному дроблению приходит центростремительное движение, проявление магнетизма, как одного из ключевых понятий шеллингианской натурфилософии. Монгольское нашествие прерывает разбегание Руси, искусственно ограничивает его, а явившееся вместе с тем сердце России – Москва, запускает процесс магнетического стягивания силы и власти.
«От монгольского ига встрепенулось и обнаружилось сердце Руси, боль отозвалась в нём, и кровь вдруг, сначала неровно и бурно, хлынула к нему. Это сердце, дотоле таинственно крывшееся, это сердце – Москва. Магнетическая сила сердца волею или неволею начала привлекать к себе, или, лучше, совокуплять в организм растерзанные члены, – прибегает Катков буквально ко всем доступным образам шеллингианской натурфилософии. – Всё больше и больше, всё могущественнее и ровнее текла по возникшим и ежечасно укреплявшимся жилам кровь к средоточию своего обращения, перерабатывалась в нём в жизненную теплоту, которая, в свою очередь, всё с большею силою струилась к периферии и оживляла охладевшие члены. Период монгольского ига справедливо называется периодом усиления Москвы. И чем больше усиливалась Москва, тем всё больше и больше ржавили монгольские цепи, – оне, наконец, перержавели и спали сами собою. Иоанну III не стоило никакого усилия освободиться от ига: он сбросил его с себя, как сбрасывают ветхую и уж ненужную одежду».
Размышление о «Песнях русского народа» выливается у Каткова в настоящий гимн русской истории, выработавшей такой оригинальный и значительный исторический феномен как Русское государство по своей жизненности и «силе ассимилирования» (ассимиляция станет основой катковской идеологии национальной политики), превосходящей Рим: «Кто же после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна? Кто будет жаловаться, что он во все время своего продолжительного существования ничего не совершил, ничего не породил? Но разве легко было выработать этот организм, перед которым мы остановились теперь в благоговейном изумлении? Разве ничего не значило породить эту неодолимо мощную и внутри и вне, эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, её создавшего? Какое государство, укажите, может сравниться с нею по объему и могуществу, и по изумительной силе ассимилирования? Не Рим ли, это отвлеченное, мертвое единство частей, не знавших и не хотевших знать друг друга? Но и самый Рим – разве не дорогою ценою купил он всемирное владычество, разве не вся жизнь его была приготовлением к этому владычеству? разве страницы его истории не так же мрачны? И какая бесконечная разница: Рим, который в продолжение всего своего развития готовился к смерти, Рим, который, достигнув апогея, начал жить, – и Русь, которая беспрерывною борьбою с смертию достигла торжественной великой жизни, Русь, которая начала тогда жить всею полнотою свежих сил, когда стала на вершину необоримого могущества!..»
Тот же прием он применяет и к анализу уже не государственности, а самóй русской цивилизации, предлагая довольно оригинальную концепцию русской культуры, основанную на разливе и разбегании, как на основном аффекте русской души, связанном с постоянным ощущением безотчетного недовольства.
«Загнанная внутрь самой себя горькою, злою действительностию, вся сосредоточенная в безнадежном чувстве уныния, русская душа вдруг приходила в судорожное потрясение, разрывала поглощавшее её чувство, выбивалась из самой себя, с неодолимою силою разбегалась во все стороны, низвергая и уничтожая всё встречное, разливалась и терялась в бесконечности пустого пространства. Ничто не было сильно удержать этот могучий разлив… Не будучи в силах представить себе содержания исполинского могущества, которое впоследствии должен был наполнить её дух, она вся предавалась ощущению отвлеченного, чисто формального могущества и упивалась им, не переводя дыхания. Вот значение того, что мы обыкновенно зовем разгулом русской души, которая тешится своими силами, разрывая ими мелочные путы тесного быта, и, не направляя их ни на что, разливается в них чем дальше, тем лучше».
Манифестом русского разгула является мир русского былинного эпоса. «Это мip, созданный из русского разгула, заселенный русским разгулом, живущий разгулом, и в то же время это мip органических, сосредоточенных и крепко в себе замкнутых форм; это мip, в котором всё бежит, и льется, и разливается вдаль и в котором, однако ж, всё имеет живой образ на себе и центр внутри себя».
Но вот разрозненная богатырская сила русского эпоса концентрируется в одном лице, в одной фигуре – царе, собирателе власти, Иоанне Грозном.
«Русь, начавшая себя чувствовать цельным организмом, перестает уже дробить свой идеал и выражать его в целости многих отдельных лиц: она сосредоточивает и совокупляет его весь – в одном лице великого монарха. Она собрала всю свою силу, которую прежде фантазия разливала в подвигах богатырей, в новогородском вольничанье, в удальстве, и влила её всю в одного человека и любовалась ею во всех действиях этого человека… Перестав быть силою физическою и сосредоточившись из удалого разгула, она засверкала духовным огнем в очах властелина: она стала сердцем царевым.
Но так как организм Руси не приял ещё в себя своей доли из духа всемирно-исторического, так как Иоанн не был сам Петром, а был только предтечею Петра, то и сила его, хотя уже и сосредоточенная, не приняла ещё своего средостремительного направления и оставалась в прежней неопределенности. Оттого и огонь, горевший во взорах Иоанна, палил и жег, а не грел; оттого и сила его обнаруживалась не во всеобъемлющей благости, а прорывалась разрушительной грозою».
Ни о каком «переходе от Гегеля к Шеллингу» применительно к Каткову говорить не приходится. Катков был шелллингианцем по картине мира с самого начала своей писательской карьеры и обсуждать можно лишь изменения в степени его владения философским методом, материалом шеллингова учения и особенности применения этого учения к политическому анализу.
В целом же сформулированная в рецензии на «Песни русского народа», изданные И. Сахаровым, шеллингианская интерпретация русской истории останется для М. Каткова доктринальной основой на протяжении всего его творчества. Образ «силы, так тяжко и так медленно слагавшейся в северовосточных пустынях Европы», стягивающей все разрозненные элементы силы в целокупное могущество, чтобы от внешней государственной мощи перейти к внутреннему творческому росту, кочует из одной катковской статьи в другую.
С московскими кружками Катков расходится по личным причинам. Он был единственным из кружка Н. Огарева, кому нравилась его жена, Мария Львовна. Вся остальная компания её ненавидела, считая недуховной обывательницей, которая стремится увести Огарева от товарищей. Впрочем, интерес товарищей был вполне практическим: Н. Огарев был очень богат и кружки в значительной степени опирались на его помощь, – правда, в ходе свободолюбивых прогрессивных экспериментов к концу 1840‐х гг. Огарев разорился. Михаилу Каткову Марья Львовна искренне нравилась – их дружба переросла в короткий, закончившийся скандалом роман.
Весной 1840 года, будучи у Огаревых, М. Бакунин зачем-то вломился в комнату Марьи Львовны (впрочем, может быть, будущий наставник С. Нечаева просто шпионил?) и застал Каткова, сидевшего у ног Огаревой и положившего голову ей на колени. Разумеется, всё было немедленно пересказано не только Огареву, но и всем желающим, и отношения Каткова с «кружковцами» были порваны.
М. Катков почти без средств решает ехать учиться заграницу, в Германию. Без средств потому, что издатель В. Поляков обманывает его с гонораром за перевод «Ромео и Джульетты». Однако перед отъездом М. Катков случайно встречает в одном из петербургских домов Бакунина, обвиняет его в подлости и затевает с ним ссору. М. Бакунин по-барски тянется к палке, но валится под градом катковских оплеух. В итоге стороны договариваются о дуэли заграницей, но М. Бакунин попросту скрывается и заминает дело.
М. Катков посещает Францию, Бельгию и Германию. Учится в Берлине у Ф. Шеллинга, едва не женится на его дочери. Возвращается он в Россию убежденным патриотом и столь же убежденным «западником». Однако совсем не того толка, что доморощенные левые западники. Катков считает Россию великой европейской нацией, которой предстоит занять свое место в ряду других. Вместе с историком С. М. Соловьевым и физиком П. М. Леонтьевым он создает свое крыло западников.
С 1845‐го по 1850 год Катков был адъюнктом по кафедре философии Московского Университета, а опубликованная им в журнале «Пропилеи» работа «Очерки древнейшего периода греческой философии» представляет собой весьма глубокий и оригинальный взгляд на развитие древнегреческой метафизики в эру досократиков.
Неожиданный взгляд на Каткова как на метафизика дает выдающийся философ Владимир Соловьев – совсем не сторонник Каткова в политике: «Я был тогда доцентом Московского университета по той самой кафедре, с которой некогда преподавал Катков. Наши разговоры нередко касались философских предметов. Катков говорил очень своеобразно: отрывочными краткими изречениями и намеками… Я с удовольствием слушал эту импровизацию, будучи вполне единомышленником Каткова в метафизике». В убеждении, вносимом Катковым во всякое политическое дело: «главное – принцип, установлен принцип – дело выиграно», В. Соловьеву слышался «старый шеллингианец».
Принципиальная, философская, метафизическая сторона вопроса для М. Каткова была главной всегда и во всём. И констатация этого факта даст нам возможность понять катковскую политику как целостную систему, вытекающую из постижения античной метафизики. Русская политика «катковского» направления вытекает непосредственно из метафизики движения в платоновском «Тимее».
«Платон различает, во‐первых, круговратное движение натуры тождественной, неделимой, самостоятельной, как бы духовной, во‐вторых круговращение натуры лишенной самости, делимой, натуры в которой всё друг друга исключает и всё относится как другое к другому… Первое движение – движение натуры самостоятельной или тождественной… Цель этого движения есть сосредоточение, это движение есть стремление удержаться в самом себе, в своей чистой активности… Второй круг противоположен первому… Одно по необходимости тяготеет к другому, а будучи предоставлено самому себе оно бежало бы прочь, в безграничность… Если в первом собственное стремление движущегося есть стремление к центру, то во втором собственное движение есть бег от центра». Платон, в интерпретации Каткова, видит в центростремительном движении высшее достоинство, связанное с активностью, во втором же, центробежном, лишь низшую форму движения.
Итак, движение к центру, к единству, к неделимости есть проявление духовной активности, самостоятельности, высшей природы. Движение центробежности, деление, сепаратизм, разбегание – есть упадок и смерть души. Такова восходящая через Шеллинга к Платону метафизическая основа мировоззрения М. Н. Каткова. И совершенно очевидно, что именно эту основную мысль мы видим в его политических идеях, публицистике и государственной деятельности.
«Катков давно стал знаменем, символом известных стремлений. Соединим их в одно: он есть символ всего центростремительного в нашей земле, устремляющегося к центру, к сосредоточению; в противовес иным центробежным силам, также обильно развитым в нашей земле, – силам, разбегающимся от центра к периферии, стремящимся разорвать целость нашего сознания, целость истории нашей, наконец, целость нашей территории. Можно без преувеличения сказать, что в его личности вдруг ожила и заговорила старая Москва, Москва Калиты, Иоаннов, первых Романовых, и, заговорив, – покрыла своим голосом новую Россию в самый тяжкий и смутный период её существования, когда она “разделишася на ся”. Этот профессор университета, автор “Очерков древнейшего периода греческой философии”, был силен не тем, что дала ему школа, не тем, чему выучился заграницею, хотя всему, чему учился, он учился хорошо; он силен был дедовской землей, которую носил за пазухой своей рубахи, под новым сюртуком; силен был самосознанием Минина, которое в половине XIX века и вооруженное всеми средствами новейшего образования явилось ни в чём неизмененным против своего древнего выражения», – так чрезвычайно удачно резюмировал катковскую идею Василий Розанов.









































