Текст книги "Последний полет орла"
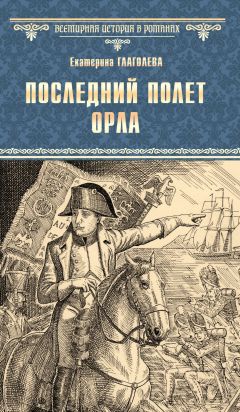
Автор книги: Екатерина Глаголева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава двадцатая. Обрезанные крылья
«Император в Париже! Император в Париже!»
Его карету видели у заставы Нейи в половине шестого. Да, это была она, мясники с бойни в Руле ее узнали. Молочницы разносили по домам новость, облетавшую очереди к лавкам пекарей и распространявшуюся всё дальше, шире и глубже, точно капля чернил на промокательной бумаге. Император в Париже, он поехал в Елисейский дворец. Туда уже съезжаются кареты вельмож. Мы победили? А как же! Позавчера у Дома Инвалидов палили из пушек в честь трех сражений, выигранных императором одно за другим, и вот он уже здесь! Всех разбил и прилетел. Орел! Армии пешком возвращаться долго, а у «Шляпы» дел невпроворот. Надо пойти ко дворцу. Да, идемте все! Да здравствует император!
* * *
– Армия не уничтожена! Генерал Груши разбил Тильмана, сохранил свой корпус и отвел его в Суассон! Нам нужно сплотиться вокруг императора и выставить надежный заслон против прусских и британских войск, чтобы не отдать столицу в руки врага!
Последние слова Лазара Карно потонули в возмущенных возгласах депутатов.
– Император губит армию, Франция не может быть спасена, пока он здесь! – выкрикнул с места Лафайет. – Остановить неприятеля можно, только вступив с ним в переговоры, а коалиция не станет говорить с человеком, препятствующим миру во всём мире!
Его поддержали одобрительным гулом. Карно обернулся к Ланжюинэ, который уже давно тряс своим колокольчиком. Сивые волосы министра были встрепаны, тонкогубый рот слегка перекошен, тусклые глаза с большими мешками под ними смотрели не мигая. Шум не давал ему продолжать, Карно сошел с трибуны. И на нее тотчас поднялся Люсьен Бонапарт.
– Я предлагаю! – крикнул он, выставив ладонь в сторону Лафайета, вставшего с места. – Я предлагаю составить комиссию из пяти депутатов, которые обсудили бы этот вопрос вместе с министрами и нашли взаимоприемлемое решение.
Лафайет снова сел. Сквозь стихающий гул голосов пробился звон колокольчика; Ланжюинэ положил его на место. Люсьен убеждал председателя вынести это предложение на голосование – ковать железо, пока горячо. По рукам побежала записка, адресованная Антуану Жею; получив и прочитав ее, Жей тотчас поднял руку, прося слова.
– Я прошу председателя вызвать поочередно всех министров, чтобы они объявили со всем прямодушием, считают ли они, что Франция способна выстоять против вооружившейся против нее Европы и что присутствие здесь Наполеона не является непреодолимым препятствием для восстановления мира!
Зал зашумел, соглашаясь; к трибуне уже шел Фуше.
– Министрам нечего добавить к своим предыдущим докладам, – объявил он и пошел назад.
Карно и Коленкур хотели возразить, но Жей прочно обосновался на трибуне и произносил пламенную речь против императора, то и дело прерываемую бурными аплодисментами. Когда он выдохся, Люсьен попытался опровергнуть некоторые его слова, но тут снова вскочил Лафайет:
– Три миллиона французов погибли за десять лет ради человека, который и сегодня хочет воевать со всей Европой! – выкрикнул он громовым голосом. – Да, мы навлекли на себя справедливые упреки – своим излишним упорством! Мы слишком старались ради Наполеона; теперь наш долг – спасти Францию!
Ланжюинэ вынес на голосование вопрос о назначении пяти комиссаров, как предлагал Люсьен Бонапарт. Их выбрали очень быстро, попросту уполномочив руководство Палаты диктовать ее требования министрам. Лафайет вышел к трибуне и вскочил на нее неожиданно гибким прыжком.
– Господа! Впервые за столько лет возвышая свой голос, который еще не позабыли старые друзья свободы, я намереваюсь говорить с вами об опасности для отечества, – начал он. – Настал момент сплотиться вокруг трехцветного знамени – знамени восемьдесят девятого года, знамени свободы, равенства и общественного порядка! Я предлагаю принять постановление о том, чтобы Палата представителей французского народа отныне заседала постоянно, а военный министр, министры внутренних дел, полиции и иностранных дел отчитывались перед ней и сообщали о малейшем изменении ситуации. Любая попытка распустить Палату должна считаться государственной изменой, виновного в таком посягательстве надлежит объявить изменником отечеству и незамедлительно предать справедливому суду!
В зале настала тишина. Над ним как будто пронеслась тень Мирабо: «Идите и скажите вашему господину, что мы здесь по воле народа и выгнать нас отсюда можно только силою штыков…» Ланжюинэ приступил к поименному голосованию; Бонапарт и Карно выскользнули из зала.
«Наполеон прав: во Франции изменились все, кроме Лафайета, – думал Люсьен по дороге из Бурбонского дворца в Люксембургский, где заседала Палата пэров. – Он всё еще говорит о свободе и равенстве! Простому люду плевать на свободу, ему всё равно, кто стоит у власти, лишь бы его оставили в покое и не душили налогами».
Мост Согласия, сложенный из камней от разрушенной Бастилии, перегородили национальные гвардейцы: депутаты защитили себя на случай, если Бонапарт захочет повторить 18 брюмера[36]36
18 брюмера VIII года Республики, т. е. 9 ноября 1799 года, генерал Наполеон Бонапарт, вернувшийся из Египта, совершил государственный переворот, распустив обе палаты законодательного собрания (Совет пятисот и Совет старейшин) и заменив Директорию из пяти человек тремя консулами (Бонапарт, Камбасерес, Лебрен). Люсьен Бонапарт был тогда председателем Совета пятисот; именно он привел в зал заседаний войска под командованием Мюрата, который отдал солдатам приказ: «Вышвырните всех отсюда».
[Закрыть], догадался Люсьен. Ничего, еще не всё потеряно.
С трудом перекрывая своим голосом ропот в зале, Карно зачитывал с трибуны письмо военного министра с докладом о военных ресурсах Франции. О разгроме при Ватерлоо все пэры знали со вчерашнего вечера, на ум приходила поговорка «врет как бюллетень».
– Этот доклад – ложь, ложь по всем пунктам! – раздался голос, привыкший перекрывать пушечную пальбу.
Все обернулись и посмотрели на рослую фигуру маршала Нея в расшитом золотом мундире.
– Под командованием Груши может быть, самое большее двадцать – двадцать пять тысяч человек. От гвардии не осталось ни единого солдата – я командовал ею, я видел, как ее всю перебили, прежде чем покинуть поле боя. Неприятель в Нивеле, у него восемьдесят тысяч человек, он будет в Париже дней через шесть; у вас нет другого способа спасти отечество, кроме переговоров.
Флао тоже вскочил и принялся возражать ему.
– Повторяю! – прогремел Ней. – Спасение только в переговорах! Вы должны вернуть Бурбонов.
Теперь уже повскакали почти все и завопили разом, не слушая друг друга. Одни кричали маршалу: «Предатель!» Другие восклицали: «Отечество в опасности!» В это время распахнулись двери, впустив двух гонцов из Палаты представителей. Как только восстановилась тишина, они сообщили о том, что депутаты приняли постановление, которое фактически передает управление страной в руки законодателей. Пэры снова зашумели, Камбасерес устремился к выходу так быстро, насколько это позволяла ему его комплекция; председатель Ласепед предложил проголосовать за то, чтобы поддержать решение нижней палаты.
* * *
На Елисейских полях толпились мужчины в блузах и холщовых штанах, женщины в чепцах и передниках поверх миткалевых юбок. «Слава Наполеону! Да здравствует император!» – доносилось в сад, по которому прогуливались Бонапарт и Констан. В порыве чувств загорелые силачи с закатанными по локоть рукавами карабкались на забор и кричали «хозяину»: «Мы с вами навсегда!» Охрана сгоняла их оттуда. Наполеон остановился и долго смотрел в их сторону.
– Вот видите, – сказал он Констану, – не этих людей я осыпал почестями и сокровищами. Чем они мне обязаны? Бедняками были, бедняками остались. Но стоит мне захотеть – вернее, стоит мне только позволить, – и через час от мятежной Палаты не останется и следа.
Они уже третий час бродили среди высоких грабов, посаженных еще при маркизе де Помпадур, рощиц, цветников и искусственных водоемов с гротами, лебедями и плакучими ивами, сменившими расчерченную по линейке помпезность регулярного французского парка. Год назад, после отречения Наполеона, в бывшем дворце Мюратов жил русский император Александр. Сегодня утром, на совещании в Серебряном салоне (который Каролина велела отделать, конечно же, не серебром, а белым золотом), слово «отречение» прозвучало снова. Только Карно, Даву и братья императора еще верили, что твердость всё превозможет, остальные говорили о «необходимой жертве».
Император казался спокойным, хотя по его осунувшемуся, постаревшему лицу было видно, как он измучен физически и морально. Констан терпеливо слушал его исповедь, давая ему выговориться, и думал о том, как это странно: он сочувствует корсиканцу! Коварный Фуше распустил утром слух о том, что вернувшийся император намерен разогнать обе Палаты, уверяя при этом Наполеона, что депутаты на его стороне. Карно предлагал объявить отечество в опасности, Люсьен советовал брату провозгласить себя диктатором… Они что, не понимают, что сейчас не 1792 год? Как ни прискорбно, единственный способ избежать катастрофы – отречься добровольно, пока не пришлось это сделать по принуждению.
– Они не посмеют! – воскликнул император. – Против меня только Лафайет и еще несколько человек. Я им мешаю, они хотят работать на себя. Но я им не позволю. Я всё еще император! Даже если все министры сбегут, войска и народ на моей стороне!
Констан простился с ним, едва сдерживая слезы. Вышел на улицу Сент-Оноре, свернул мимо недостроенного Храма Славы на улицу Басс-дю-Рампар. Жюльетта ждала его, «благородные отцы» тоже пребывали в нетерпении.
– Завтра он отречется, – объявил Констан, рухнув в кресло. – Несчастные! Они служили ему, когда он подавлял свободу, и покинули его, когда он захотел ее установить!
Жюльетта была нежна с ним, в ее взгляде читалась жалость – от предчувствия несчастий. «Вот потому-то Шатобриан и культивирует образ мученика – так легче возбудить сочувствие в женских сердцах, – подумал про себя Бенжамен. – Хотя… Женщина способна подарить мужчине свою благосклонность в награду за прежние страдания, но не захочет разделить с ним новые».
* * *
Совместное заседание комиссаров, министров и братьев Наполеона началось в Тюильри около одиннадцати вечера под председательством Камбасереса. Маршал Даву наконец-то рассказал правду о том, чем кончилось сражение при Ватерлоо ровно трое суток тому назад: кавалерия уничтожена, Гвардия отступила! Целые дивизии превращались в толпы беглецов. Последнему напору англичан и пруссаков противостояли только три каре, пожертвовавшие собой, – храбрецы из храбрецов защищали своего императора. Две кареты с бриллиантами и личными вещами Наполеона достались Блюхеру. Однако маршал Сульт собирает вокруг Лана остатки армии и наводит порядок; во всех городах на пути к Парижу императора приветствовали многочисленные толпы. Врага еще можно отразить!
Последние слова вызвали бурю в зале Государственного совета; Лафайет требовал отречения, Камбасерес отказался ставить его предложение на голосование. Потом всё же пошел на попятную: поступим по-другому – раз вы считаете, что коалиция не согласится на переговоры с императором, пошлем к Веллингтону и Блюхеру делегатов от обеих Палат и заключим с ними перемирие, сохранив в неприкосновенности территорию Франции, национальную независимость и конституционные свободы. Фуше и все пять комиссаров от Палаты представителей высказались «за». На том и порешили и в три часа ночи разошлись.
В восемь утра зал заседаний Бурбонского дворца был уже полон, депутаты требовали немедленного осуществления всех принятых решений. Ланжюинэ тянул время, как только мог. Начали выбирать делегатов в комиссию для переговоров с коалицией (несмотря на мрачное пророчество генерала Гренье о том, что депутацию отправят восвояси, даже не выслушав). Предложили генерала Лафайета, владевшего английским и имевшего друзей в британском парламенте, графа де Лафоре – бывшего посла в Берлине и друга Талейрана, генерала Себастиани, неоднократно исполнявшего дипломатические поручения, маркиза д’Аржансона, одну вакансию предоставили заполнить Палате пэров, а секретарем назначили Бенжамена Констана, женатого на немке и говорившего по-немецки. В одиннадцать начались бурные дебаты об отречении императора, но тут из Елисейского дворца прислали сказать, что Наполеон сообщит о своем решении в три часа пополудни. Председатель объявил перерыв.
– Если ваш брат не пришлет нам свое отречение, мы пошлем ему акт о его низложении! – отчеканил Лафайет, глядя прямо в глаза Люсьену Бонапарту.
– А я пришлю к вам Лабедойера с батальоном гвардейцев! – ответил тот.
Генерал осекся и не нашелся, что возразить. Молодой полковник Лабедойер (ему не исполнилось и тридцати) чуть ли не первым перешел в марте на сторону Наполеона и за три месяца стал генералом, графом и пэром Франции. Он прикрывал отступление после Ватерлоо, покинув это побоище одним из последних. У человека, только что смотревшего в лицо смерти, свое представление о долге и справедливости.
– Французы! Начиная войну за национальную независимость, я рассчитывал на соединение всех усилий, всех устремлений и на содействие всех властей; я имел основания надеяться на успех и бравировал заявлениями других держав против меня. Но обстоятельства изменились. Предаю себя в жертву ненавистникам Франции. Да будут они искренни в своих заявлениях о том, что злонамеренны лишь в отношении моей особы! Моя политическая жизнь окончена, и я провозглашаю моего сына, под именем Наполеона II, императором французов. Нынешние министры создадут временный правительственный совет. В интересах моего сына я прошу Палаты незамедлительно принять закон о регентстве. Объединитесь ради общего спасения и чтобы остаться независимой нацией.
Камбасерес закончил читать. После небольшой паузы, выдержанной из приличия, Палата пэров приступила к обсуждению вопроса о временном правительстве. К трибуне выстроилась очередь, но вдруг туда, грубо отпихивая прочих, прорвался Лабедойер. Крылья его тонкого носа раздувались, светлые глаза горели огнем праведного гнева.
– О каком новом правительстве может идти речь, когда мы должны сейчас обсуждать вопрос о регентстве? – возмущался он. – Вы говорите, что заботитесь о будущем Франции, – нет! Вы думаете только о себе!
– Покиньте трибуну! – строго приказал Ласепед, но Лабедойер и бровью не повел.
– Что же это получается: французы вновь проливали свою кровь, чтобы на них надели постылое чужеземное иго? Чтобы они пресмыкались перед подлым правительством? Чтобы наши храбрые воины испили чашу горечи и унижений? Чтобы их лишили той жизни, какую они заслужили своими ранами, добыв славу всей нации?
На него теперь кричали со всех сторон и даже дергали за платье, но он продолжал свою обличительную речь, всё больше возвышая голос:
– Я слышал ваши голоса вокруг трона счастливого государя; теперь, когда его постигло несчастье, вы разбежались! Отречение Наполеона нераздельно! Если его сына не признают императором, ему придется взяться за меч, и французы, проливавшие за него свою кровь, сплотятся вокруг него, несмотря на свежие раны! Его покинут только подлые генералы, которые однажды уже предали его!
– Молодой человек, вы забываетесь! – проревел маршал Массена.
– Предатели есть и среди пэров! – надрывался Лабедойер, цепляясь за трибуну. – Но с этим пора покончить! Заклеймить позором каждого француза, покинувшего свои знамена! Снести его дом, изгнать его семью! Тогда во Франции не останется предателей, закончатся интриги, которые привели к недавней катастрофе!..
Его оторвали от трибуны и потащили к дверям.
– Если Палаты отвернутся от императора, моя судьба предначертана – меня расстреляют первым!
Лабедойера отпустили. Он тяжело дышал; еще недавно красное от крика лицо покрылось внезапной бледностью. Кто-то посоветовал ему развязать галстук. Воспользовавшись суматохой, Люсьен Бонапарт вновь завладел трибуной.
– Господа, речь идет о том, чтобы предупредить гражданскую войну и сохранить независимость и свободу нашего отечества! «Император умер – да здравствует император!» – на этом возгласе народа строится будущее монархий, основанных на неизменности закона! На смену умершему или отрекшемуся императору должен немедленно прийти его преемник, иначе наступит анархия! Сейчас вас должен занимать только вопрос о регентстве, ибо только он обеспечит неразрывную передачу власти. Заклинаю вас, господа, наследственных хранителей общественных устоев и основополагающих законов, – заклинаю вас во имя нашей Конституции и освященных ею свобод: останьтесь верны самим себе и Франции, провозгласите императором Наполеона II!
Следующие четыре оратора высказались в том же духе. Пока они выступали, совсем стемнело, слуги принесли свечи. Но вот на трибуну поднялся граф де Понтекулан.
Ему было слегка за пятьдесят, лоб избороздили морщины, веки отяжелели, орлиный нос заострился, но в остальном он, как и маркиз де Лафайет, ничуть не изменился за последние двадцать пять лет, только если генерал проповедовал свободу, то бывший префект ратовал за справедливость.
– Я не сказал бы то, что скажу сейчас, если бы Наполеон еще находился на вершине власти: я полностью предан ему всем сердцем, я верно ему служил и останусь верен ему до последнего вздоха, я всем ему обязан, он был для меня самым щедрым благодетелем. Но я многим обязан и своему отечеству. Что нам предлагают? Нечто противное обычаям всех совещательных собраний – принять важнейшее решение, не совещаясь.
Граф говорил с живостью, похожей на раздражение, – привычка всех бывших членов Конвента, споривших до хрипоты и грозивших друг другу гильотиной.
– Кто этот человек, желающий навязать французам государя? – указал он на Люсьена Бонапарта. – Я признаю, что он снискал всеобщее уважение своими талантами, прекрасным характером и всем, что он сделал для свободы. Но мне неизвестно, по какому праву он произносит такие речи. Нет ни одного документа, подтверждающего, что он француз; нам он известен лишь как римский князь[37]37
Люсьен Бонапарт родился на Корсике и носил титул князя Канино, которым его наделил папа Римский.
[Закрыть]. Князь Люсьен предлагает нам то, на что вы не можете согласиться без всестороннего обсуждения. Император требует в своей прокламации, чтобы его сына признали его преемником. Несмотря на всю мою признательность Наполеону, я не могу считать своим государем лицо, не находящееся во Франции, как не могу я считать регентшей государыню, находящуюся в Австрии. Иноземцы ли они? Пленники ли? Если мы решимся признать регентство, возгорится огонь гражданской войны.
– Да то ли сейчас время, чтобы заниматься отдельными особами? – выкрикнул со своего места адмирал Декре. – Отечество прежде всего! А отечество в опасности! Не будем терять ни минуты! Я требую закрыть дискуссию!
За прекращение дискуссии проголосовали единогласно. Ласепед всё же настоял на том, чтобы Палата выразила свою благодарность императору Наполеону I и избрала двух членов временного правительства в дополнение к трём, которых уже избрали депутаты, – Фуше, Гренье и Карно. Была уже глубокая ночь, глаза слипались. Наскоро избрав бывшего дипломата Коленкура и барона Кинетта, немного разбиравшегося в финансовых вопросах, пэры разъехались по домам – спать.
Глава двадцать первая. Выбор без выбора
Таверна была набита битком. Скамьи и стулья у длинных деревянных столов заняли офицеры в красных мундирах, посадив себе на колени визгливо хохотавших девиц, прислуга с кружками в руках сбивалась с ног, звенели упавшие на пол бутылки, было шумно, дымно и душно. Остановившись у входа, Альфред немного поколебался, затем решился и шагнул вперед. Во всех питейных заведениях Монса сейчас была та же самая картина: праздновали победы союзников и скорое возвращение на родину.
Наедине с собой Альфред не мог отделаться от мыслей, шедших вразрез с общим настроением. Чему мы радуемся? Вторжению иноземцев во французские пределы? Нынче на рассвете прусский снаряд угодил в пороховой склад в Авене, взрыв произвел ужасающие разрушения, крепость пала, гарнизон из двухсот ветеранов оказался в плену. Две прусские дивизии и кавалерия окружили Мобёж, упорно сопротивлявшийся год назад; Блюхер передал защитникам крепости ультиматум: либо немедленная сдача, и тогда национальных гвардейцев отпустят по домам, а солдат линейных войск передадут в распоряжение Людовика XVIII, либо регулярная осада и потом плен, каторга и ссылка в Сибирь. Французы сдаться отказались. Почему бы Людовику XVIII не выйти к ним, как это сделал Бонапарт, вернувшись с Эльбы? «Узнайте меня! Если среди вас есть солдат, который хочет убить своего короля, – вот я!» Королю следовало ехать впереди Блюхера и Веллингтона, а не плестись за ними! Неужели поражение повстанцев в Вандее настолько его обескуражило? Говорят, что Огюст де Ларошжаклен запросил перемирия по его приказу… Но товарищи Альфреда радовались и веселились, и он пытался убедить себя, что еще слишком молод и неопытен, не понимает до конца, что же к лучшему и как правильно. Беззаботный шум заглушал тревожное гудение в его голове, поэтому он старался не оставаться один.
Покрутив головой в поисках знакомых, Альфред заметил небольшой столик в углу, за которым, спиной к нему, сидел человек во фраке, но с военной выправкой. Два места рядом с ним пустовали. Странно. А, была не была. Он направился туда.
– Добрый вечер, сударь! Простите за нескромность: вы кого-нибудь ждете? Не стесню ли я вас, заняв это место?
Фрачник поднял на него удивленные глаза. На вид ему можно было дать лет тридцать пять, хотя в коротко остриженных волосах, не скрывавших косой шрам надо лбом, серебрилась седина; удлиненное лицо было изможденным, взгляд – потухшим; в петлице – красный бант ордена Почетного легиона.
– Молодой человек, вы знаете, кто я?
– Не имею чести.
– Полковник Клуэ.
– Младший лейтенант де Виньи, к вашим услугам.
Альфред поклонился, щелкнув каблуками.
– Ваши товарищи начнут сторониться вас, если увидят в моем обществе.
– Мне не привыкать.
Де Виньи сел за стол. Подошла трактирная служанка; Альфред спросил себе мозельского, она виновато улыбнулась: вина не осталось совсем, господа офицеры всё выпили, есть только пиво. Хорошо, пусть будет пиво.
Какое-то время они молчали, потом Клуэ посмотрел на Альфреда в упор.
– Я никого не предавал, – отчетливо выговорил он со сталью в голосе.
– Я верю вам.
Служанка принесла большую кружку и поставила ее перед Альфредом.
– Это ваш первый мундир? – спросил Клуэ, когда он сделал несколько глотков.
Опять он слышит этот вопрос!
– Да, я прежде нигде не служил.
Полковник вздохнул и опустил глаза.
– Я вырос при Империи, не знал другого господина, кроме Наполеона, и служил только ему до сентября тринадцатого года, пока не попал в плен при Денневице, – произнес он после долгого молчания, словно зачитывал по памяти объяснительную.
Денневиц! Одно из первых поражений, отнявших блеск у звезды Наполеона! В газетах его тогда представляли досадной неудачей, просчетом маршала Нея, и сожалели о несчастье, постигшем Клуэ, который получил в один день четыре раны и вынужденно отправился в Россию.
– И вот, спустя год я вернулся во Францию – повсюду белые кокарды! Вам не понять, что́ я чувствовал тогда, – боль, нестерпимый стыд! Никаких Бурбонов я знать не знал и решил оставить службу, чтобы не носить эту белую кокарду, навязанную нам пруссаками. Я пошел к маршалу Нею, который был моим командиром, желая просить об отставке. Он принял меня ласково, рассказал о принцах, о пережитых ими несчастьях, об их достоинствах и верности Франции, сказал, что император, отрекшись от престола, вернул мне свободу поступков, теперь я волен служить, кому пожелаю.
Альфред почти не мигал своими незабудковыми глазами. Уж что-что, а слушать он умел.
– Я решил сам взглянуть на принцев, – продолжал Клуэ. – Отправился в Тюильри… Того, что там было, я не забуду никогда.
Глаза полковника сощурились, тонкие губы искривились.
– Мне встретились мои бывшие товарищи и друзья. С каким презрением они говорили мне о короле! Насмешничали, потешались… И вот объявляют: «Король!» Те же самые люди, которые только что поливали его грязью, бросаются вперед, чтобы оказаться у него на пути, перехватить его взгляд… Я стоял в сторонке и смотрел. Мне трудно выразить словами мои чувства… Скажите, вы ведь видели короля? Конечно, о чём я говорю… Но тогда, в первый раз, после всего услышанного… Меня поразили его уверенность и величие. Он шел – и было видно, что он здесь господин. В нём было что-то такое, что… Мне захотелось склонить голову и опуститься перед ним на одно колено. Если бы он отдал мне тогда какое-нибудь приказание, я бросился бы исполнять, не рассуждая. Вот именно это и потрясло меня до глубины души. Принцы давно прошли, а я всё стоял на том же месте… и вдруг почувствовал, что всё мое лицо в слезах. Мне стало стыдно, я почти выбежал оттуда… А потом пошел к маршалу Нею и вновь стал его адъютантом.
Клуэ отпил из почти полного стакана, стоявшего перед ним. Альфред не нарушал его молчания, не мешая думать, но ждал продолжения.
– Маршал никогда не был слугой двух господ. Он слишком честен для этого. Всякие мерзавцы говорили потом, что, уезжая из Парижа, он намеревался предать короля, так вот это неправда. Я точно знаю, я имел честь пользоваться его доверием. Он оказался в ловушке.
Мы же ничего не знали. Ни об измене Лабедойера, ни о капитуляции Гренобля и Лиона. Маршал собирался идти на Лион, но у него было мало людей, патронов и зарядов, ему обещали подкрепление. Однако в Шалоне-на-Соне жители побросали пушки в воду. И той же ночью маршал получил письмо от генерала Бертрана. В нём говорилось, что народ и армия повсюду переходят на сторону императора, и если маршал станет упорствовать, то именно он окажется повинен в гражданской войне, вся пролитая кровь падет на него. Да что там, его собственные солдаты отказывались стрелять «по своим». Как же он сказал тогда? Ах да: «Нельзя остановить прилив голыми руками».
Четырнадцатого марта, на банкете, маршал объявил генералу де Бурмону, что собирается зачитать войскам прокламацию, которую ему прислали, – «Да здравствует император!» Генерала де Бурмона я знал по Германии, в армии его уважали. Он считал, что маршал совершает ошибку, уж лучше бросить всё и вернуться в Париж. Я тоже так думал, я не верил, что король сбежал из Парижа, как нам тогда говорили. Но маршал уже принял решение. И вот… мне пришлось покинуть человека, который много лет был мне как отец, которому я обязан всей своей карьерой. Ммм… мне и сейчас больно вспоминать об этом… Я уехал с генералом де Бурмоном. Он отчитался королю обо всём, чему был свидетелем, и мы стали ждать приказаний. Но их не последовало. А потом мы в одночасье узнали о том, что король покинул столицу и что Наполеон издал приказ об аресте графа де Бурмона, меня и еще нескольких офицеров, сохранивших верность присяге.
Признаюсь честно: я был поражен в самое сердце. Я привык к опасностям иного рода, но оказаться в тюрьме за исполнение своего долга? Человек, которому мы верно служили пятнадцать лет, презирал нас настолько, что не имел уважения к клятве, хотя сам позволил нам ее принести! Вам не понять, что́ творилось в моей душе. Надеюсь, что вам никогда не придется пройти через это.
Вы уехали из Парижа вместе с королем? Значит, вы не знаете, какой там настал тогда кавардак. По городу ходили прусские прокламации – истинные или ложные; в них говорилось о восстановлении Республики, об угрозе расчленения Франции… Что мне было делать? Я спрашивал об этом всех. Как велит нам поступить наша совесть? Одни улыбались и смотрели на меня, как на наивное дитя, другие сами не знали, остальные говорили самые разные вещи, ведь у каждого свой интерес. Как же это… Трудность не в том, чтобы исполнить свой долг, а…
– «Во времена политических кризисов самое трудное для честного человека не исполнить свой долг, а понять, в чём он состоит», – подхватил Альфред. – Это написал господин де Бональд в ответ на брошюру о Революции госпожи де Сталь.
– Сказано очень верно. Так вот, один лишь генерал де Бурмон смог дать мне внятный ответ. Он сказал, что истинные намерения иностранных держав нам неизвестны, от короля мы не получили никаких приказов и не имеем никаких вестей, но Франция в опасности, и главное сейчас – защищать отечество, а значит, оставаться в армии так долго, насколько наше присутствие в ней будет согласоваться с нашим долгом перед королем. Наполеон предложил ему командование дивизией, не потребовав новой присяги; генерал мог сделать меня своим начальником штаба. Я согласился сразу, потому что он разрешил все мои сомнения. Точно камень с души свалился. Мы уехали в Мозельскую армию, которой командовал генерал Жерар.
Оба генерала были давними товарищами и уважали друг друга; мы не скрывали от генерала Жерара своих истинных чувств. Он иногда журил меня за то, что я ношу свой крест Почетного легиона вместе с цветком лилии, но потом перестал, видя мое упорство. Ему было достаточно того, что мы сражались под трехцветным знаменем. Но вот во все армейские корпуса разослали Дополнительный акт к конституциям Империи, каждый офицер должен был подписаться за него или против. Вы читали этот документ? Французов призывали навсегда отречься от Бурбонов. Вот это всё изменило. Генерал де Бурмон сказал мне, что отныне оставаться в армии значило бы предать короля; он подписался против. Я поступил так же, но отговаривал его, как мог, от решения пойти к генералу Жерару и отказаться от командования. Я был уверен, что мы тем самым поставим в трудное положение самого генерала Жерара, которому придется нас арестовать или навлечь на себя гнев императора. Но он пошел всё равно. Не знаю, о чём они говорили, но когда он вернулся, то заявил мне, что едет к королю в Гент. Мне ничего не оставалось, как ехать с ним, мы оба это понимали.
Генерал де Бурмон вызвал к себе генерала Юло, командовавшего первой бригадой, чтобы я сдал ему штабные дела. Мы втроем проговорили всю ночь. Это было еще до сражения при Линьи. Граф де Бурмон говорил, что одержанные нами успехи приведут к установлению во Франции кровавого деспотизма, который погубит наше отечество, он не хотел этому способствовать. А генерал Юло отвечал ему, что понимает его чувства, однако видит свой долг в ином – остаться с доверенными ему людьми. Еще он сказал, что, возможно, один из нас заблуждается, но без злого умысла.
Мы уехали еще до рассвета. Когда показались прусские аванпосты, генерал де Бурмон отпустил конвой, и с нами остались только четыре офицера, которые тоже отказались подписаться под Дополнительным актом. Мы поклялись друг другу не говорить пруссакам ни слова о том, что касается французской армии…
Клуэ допил свой стакан залпом и перелил в него остатки вина из стоявшей рядом бутылки. У Альфреда вдруг пересохло во рту, он сделал большой глоток из своей кружки.
– Нас больше двенадцати часов перегоняли с поста на пост до самой главной квартиры Блюхера, – снова заговорил полковник. – Пруссаки решили, что мы хотим перебежать на их сторону. Что я! Израненный под Лютценом и Денневицем!.. Я знал, что это будет тяжело. Желаю вам никогда не испытать ничего подобного – стоять посреди врагов и… Они никак не могли взять в толк, что мы просим всего лишь пропустить нас через их линии, чтобы примкнуть к нашему королю. Блюхер не пожелал разговаривать с генералом де Бурмоном. Ему указали, что генерал носит белую кокарду, он раскричался: «Какое мне дело до кокарды! Фетюк всегда фетюк!» Я рад, что его тогда разбили.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































