Текст книги "Последний полет орла"
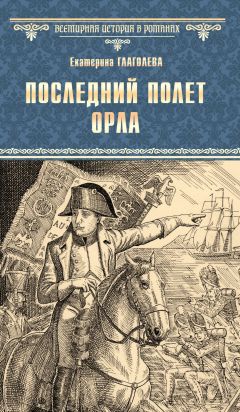
Автор книги: Екатерина Глаголева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– То есть он не смог бы переплавиться в министра? – улыбнулся Уильям.
– Что вы! – рассмеялась Магдалена. – Вы же видели девиз на его печатке: CURA QUIETEM[17]17
Осторожность дает спокойствие (лат.).
[Закрыть]. И цапля, стоящая на одной ноге.
Глава десятая. Вместе и врозь
Ночь выдалась ужасной: у молодой англичанки, занимавшей соседний номер, начались роды. Два часа она страшно кричала, пока ее голос не начал слабеть и, наконец, не смолкнул совершенно, от чего Селесте, накрывшей голову подушкой, сделалось еще тоскливей. Пищал ли младенец? Этого она не слыхала. Ее вдруг объял черный, беспросветный страх смерти, которая всегда стоит за спиной. Зачем она только ходила на кладбище? Закопченные от пожара гипсовые скульптуры показались ей душами, попавшими в чистилище.
Утром вся гостиничная прислуга была занята, уничтожая следы ночной трагедии. Хозяйка многословно извинялась перед госпожой де Шатобриан за доставленные неудобства, уговаривая не покидать Антверпен так скоро; Селесту тошнило от отвращения. Боже мой, мучительная гибель женщины во цвете лет, исполнявшей свое природное предназначение, – всего лишь неудобство для окружающих! Презрение к смерти считается мужеством, но только к своей смерти, не к чужой!
Селеста не знала радости материнства… хотя вряд ли в ее молодости материнство стало бы радостью. Рене говорит, что после несчастья родиться самому самое горькое несчастье – подарить жизнь другому, поэтому он не любит ходить на свадьбы и на крестины. Что она смогла бы дать младенцу, не вовремя появившемуся на свет посреди хаоса, страха, предательства и лишений? Даже если бы они оба пережили каким-то чудом то страшное время, всё дальнейшее существование ее дитя стало бы для нее источником нескончаемых тревог, ведь во́йны почти не прекращались. Вот и теперь надвигается гроза… Маленькой Анне, дочери Луи де Шатобриана, не исполнилось еще и двух лет; лишь бы она не осталась сиротой, как ее отец… Как это ужасно! Дети рождаются в муках, порой забирая жизнь своей матери, а потом их посылают на войну, чтобы убивать других рожденных в муках детей и гибнуть самим…
На площадях и бульварах Гента обучали бельгийских и английских рекрутов; по реке прибывали баржи, с которых выгружали на берег артиллерийские орудия, зарядные ящики, целые стада быков и лошадей, дрыгавших ногами с пронзительным ржанием, пока их переносили кранами по воздуху, обвязав ремешками; маркитантки везли в своих тележках тюки, бочонки, детей и мужнины ружья. Всё это удручало Селесту своею будничностью, как будто приготовления к грядущей кровавой бойне были чем-то вроде сезонных работ. Рене не мог покинуть Гент, поэтому она уезжала одна – в Брюгге, в Остенде, в Антверпен, поглощенные мирными заботами, чтобы развеяться и хотя бы ненадолго заглушить тревожные мысли. Шатобриан избрал другое лекарство от тоски: он погружался в прошлое. Прогуливаясь по знакомым улицам и вдоль каналов, он уносился мыслями на двадцать лет назад, когда он тоже был изгнанником, только молодым – бунтарем, жаждавшим любви и славы; он жил полной жизнью среди теней минувшего, и те, возвращенные в реальный мир его памятью, заслоняли собой настоящее, так что Рене порой даже не замечал существования людей из плоти и крови.
«Остенде! – воскликнул он, когда Селеста вернулась из своей поездки. – Оттуда я отправился на Джерси!» Его глаза тотчас заволоклись влажной дымкой воспоминаний, из которой проступило нежное личико пятнадцатилетней девушки. Шатобриан рассказывал жене об этом приключении: очутившись в Саффолке, он давал уроки французского Шарлотте Айвис, дочери пастора из Банги; история Абеляра и Элоизы повторилась в очередной раз. Чувство настолько захватило обоих, что всем бросалось в глаза; миссис Айвис призвала к себе учителя и потребовала сделать официальное предложение, дав понять, что они с мужем ему не откажут, невзирая на его шаткое положение эмигранта. Только тогда Шатобриан вспомнил, что женат… Он сознался в этом своей не состоявшейся теще, но у него не хватило духу открыть правду возлюбленной: он сбежал из Банги, не простившись с Шарлоттой, и с тех пор носил ее образ в своем сердце.
О нет, Селеста к ней не ревновала. Прошло двадцать лет, Кот любит не Шарлотту, а свою любовь. Любил ли он вообще когда-нибудь земную женщину, а не «сильфиду», которую выдумал еще в отрочестве? Все женщины, отдававшие ему свое сердце, попадались в одну и ту же ловушку: они любили живого Рене, а он был увлечен своим идеалом. Идеал легче любить, чем существо из плоти и крови с его слабостями и недостатками… Вот почему, не желая того, он всегда приносил несчастье тем, с кем его сводила судьба.
«Женщины сто́ят бесконечно больше мужчин; они верные, искренние и постоянные подруги. Если они перестают любить вас, то, по крайней мере, не пытаются вам вредить; они всегда будут уважать былую связь в некогда милом предмете. У них возвышенные мысли, они щедры и великодушны. Величайший гений нашел я в женщине. Эта женщина существует. Сколько великих, превосходных качеств! Высшим счастьем было бы, конечно, найти чуткую женщину, которая стала бы одновременно вашей любовницей и подругой; мужчина, обладающий таким сокровищем, не боялся бы никакой беды».
Селеста случайно нашла эту пометку, сделанную упрямым почерком Рене (буквы похожи на травинки, пробивающие корку земли), в его личном экземпляре «Очерка о революциях». Книжка вышла в Лондоне в 1797 году, когда она уже пять лет была его женой, а он продолжал искать свое «сокровище». «Кто эта женщина, в которой он увидел “гений”? – задумалась тогда Селеста. – Скорее всего, Рене имел в виду Люсиль – сестру, музу, подругу, мучительницу… тоже введенную в заблуждение и покинутую им».
Рене не случайно пишет мемуары: он хочет подменить шероховатую изнанку жизни нежным муслином своей фантазии, заново слепить свой образ, чтобы в грядущем, когда все, знавшие его земную оболочку, перейдут в мир иной, от него остался идеал. Вот почему он так не любит позировать для портретов, особенно если они похожи. Единственное исключение он сделал для Жироде.
Этот портрет остался в Париже, в гостиной, лишь бы с ним ничего не случилось. Сходство поразительное: весной десятого года Кот долго и тяжело болел, и художник передал на холсте лихорадочный блеск его глаз, желтоватый цвет лица, набухшие вены на руках. Пальто сидит на нём, точно с чужого плеча, – он сильно похудел. Говорят, что, увидев этот портрет осенью в Салоне, Бонапарт сказал: «Он похож на заговорщика, спустившегося через дымоход».
Картина называлась «Мужчина, размышляющий над руинами Рима»; ее повесили в самом дальнем уголке галереи Аполлона, однако Наполеон, обозрев напыщенные батальные сцены в галерее Дианы, пожелал увидеть портрет Шатобриана, и старику Денону пришлось вытащить его на свет, хотя он сам же и упрятал этот холст подальше, опасаясь, что его увидит император. Сейчас Бонапарта называют тираном, душителем свободы, но ведь это они превратили его правление в деспотию – они, верные слуги, в своей угодливости стремившиеся предупредить его желания и доводившие его распоряжения до абсурда! Один лишь Франсуа Гизо назвал портрет прекрасным, похвалив за «благородство и энергичность стиля», остальные журналисты обошли его молчанием, опасаясь играть с огнем. Рене стоит на фоне Колизея и одного из римских холмов; автор «Мучеников» размышляет среди руин одной империи над незавидным будущим другой: «Когда в униженном молчании слышится только звон рабских цепей и голос доносчика, когда всё дрожит перед тираном и снискать его милость так же опасно, как заслужить его немилость, появляется историк, призванный отмстить за народы. Пусть Нерон процветает – в Империи уже родился Тацит»…
Коту портрет понравился сгущением красок. «Жироде сделал меня черным, каким я был тогда», – говорил он Селесте. Казнь двоюродного брата Армана, замешанного в новом заговоре против Бонапарта, произвела на него неизгладимое впечатление. Узнав об аресте друга детства и бывшего товарища по оружию, Рене пытался спасти его, как только мог: он даже отправился к Фуше вместе с госпожой де Кюстин (своей поклонницей и «доброй подругой» коварного министра) и написал прошение, которое госпожа де Ремюза через императрицу Жозефину передала Наполеону. Фуше ответил ему: «Арман сумеет умереть». Бонапарт, прочитав письмо, бросил его в огонь. Шатобриан просил «пощады или правосудия». «Он требует правосудия? – мрачно сказал Наполеон. – Он его получит». Заступничество Фонтана тоже оказалось бесплодным, что неудивительно, раз Бонапарт не прислушался даже к своей падчерице Гортензии и своему дяде кардиналу Феску! Во время суда над Арманом из печати вышли «Мученики»; угодливые критики не преминули увидеть опасные намеки в описании двора Диоклетиана… Жозеф Мишо намекнул Рене, что сможет замолвить словечко перед генералом Гюленом – комендантом Парижа и убийцей герцога Энгьенского. Связь коллеги-журналиста с этим человеком оказалась неприятной неожиданностью: оказывается, не только у полиции, но и у коменданта были повсюду свои шпионы и соглядатаи. Кот отказался использовать дурные средства даже с благою целью, и Селеста его в этом поддержала. После отречения Бонапарта Мишо тотчас предложил свои услуги Бурбонам, и они были приняты…
На суде Арман де Шатобриан попросил слова. Он уверял, что согласился быть курьером эмигрантов, только чтобы повидать свою дочь в Сен-Мало, и просил о позволении припасть к стопам императора и предложить ему свою шпагу. Этот протокол Фуше припрятал: ему нужен был раскрытый заговор, чтобы отвести подозрения Бонапарта от себя самого. Армана признали виновным в шпионаже и приговорили к смерти вместе с двумя «сообщниками». В камере он просил у них прощения, один сказал: «Мы простим тебя, если ты умрешь как храбрец»… Их расстреляли в Страстную пятницу. Не найдя кареты, Рене бежал через весь город к заставе Гренель, чтобы сказать последнее «прости», но не успел: когда он добрался до места – задыхаясь, весь в поту, – Арман был уже мертв, пуля угодила ему в лицо, страшно изуродовав, узнать его было невозможно… «Универсальный вестник» и другие официальные газеты ни словом не обмолвились о судебном процессе, только «Газетт де Франс» и «Журналь де Пари» скупо сообщили о выдвинутых обвинениях и приговоре трибунала. Рене облачился в траур, являлся черным вороном в салоны Сен-Жерменского предместья, дрожащим голосом повествовал о трагедии – Фуше об этом, конечно же, донесли.
Наскрести полторы тысячи франков, чтобы выкупить у Жироде портрет, оказалось делом непростым, но Шатобриан назвал его своим пропуском в бессмертие. Да, именно такой свой образ он и хочет оставить потомкам: одинокий среди людей, скорбящий от своей проницательности…
На самом деле он просто боится полюбить по-настоящему. Да и способны ли на это мужчины? Полюбить значит отдаться другому, а они хотят только брать. От любви им нужно упоение, раздражение чувств, которое просто не может длиться долго; они как шмели, выпивающие нектар и с гудением уносящиеся к другому цветку. Их пугают обязательства, они хотят сохранить свою свободу. «Какая мука быть навеки связанным с такой мымрой, как ты!» – выкрикнул однажды Рене и уехал на весь день в Париж, бросив Селесту одну с мигренью в «Волчьей долине». А вскоре после этого вывихнул ногу и пришел в ужас, поняв, что ему придется несколько дней пробыть дома. Селеста тогда расстроилась не меньше него: Кот не может сидеть на привязи.
Любит ли она его? «Привычка и время более необходимы для счастья и даже любви, чем принято думать, – написал Рене в “Гении христианства”. – Мы счастливы с объектом своей привязанности, только когда прожили с ним много дней, и в особенности много трудных дней».
Трудные дни они чаще переживали порознь. Вряд ли Кот напишет в своих мемуарах, что драма их жизни началась с пошлого фарса, точно сошедшего с подмостков театра «Варьете». Это произошло в марте 1792 года. Селесте было семнадцать лет, ее отец-капитан, комендант военного порта в Лорьяне, недавно скончался, оставив единственной дочери особняк Лавиней в Сен-Мало и пятьсот тысяч франков ренты. Рене было двадцать четыре, он только что вернулся из Америки и хотел уехать в Кобленц, чтобы вступить в армию Конде, но на это требовались деньги, а у него не осталось ничего, кроме славного имени. О, для Кота благородная порода значит очень много, сколько бы он ни писал о суетности тщеславия! Он величает себя мальтийским рыцарем, потому что просьба о вступлении в орден иоаннитов, поданная от его имени приору Аквитании, была принята капитулом, но он никогда не бывал на Мальте, не приносил обетов и не мог рассчитывать на бенефиции. Во Франции тогда уничтожили все привилегии; Комбур, фамильный замок Шатобрианов, стал достоянием нации, Рене был беден как церковная мышь. И вот тогда его старшая сестра Мари-Анна, госпожа де Мариньи, заманила богатую наследницу к себе в гости, увезла в свой замок, куда приехал и Рене, а потом вызвала туда какого-то аббата, служившего домашним учителем, чтобы «покрыть грех» своего брата, освятив союз двух влюбленных, «застигнутых на месте преступления». Селеста кричала, что это обман; ее дядя, узнав об этой истории, объявил Шатобриана похитителем и подал в суд, пригрозив при встрече обрубить ему уши; украденную невесту поместили в монастырь в Сен-Мало на время расследования, но другая сестра Рене, Люсиль, добровольно заперлась там вместе с ней. Именно Люсиль уговорила Селесту не противиться и согласиться на брак с ее братом. На какое-то время Люсиль сумела внушить ей любовь к Рене, которого безумно любила сама, не отделяя себя от него и называя своей лучшей половиной. Да-да, Селеста провалилась в эту западню первой… Они обвенчались девятнадцатого марта в приходской церкви Сен-Мало и уехали в Париж вместе с Люсиль и Жюли – госпожой де Фарси (ее муж был капитаном в армии Конде). Поселились все вместе в небольшом домике в тупике Феру, между церковью Сен-Сюльпис и Люксембургским садом. Там было тихо, но и туда долетал треск барабанов, с которыми ходили по улицам «граждане» в красных колпаках и с пиками, распевая непристойные куплеты.
В июле Рене отправился в Кобленц, а в конце августа Люсиль, стоя перед зеркалом, вдруг страшно закричала. «Сюда вошла смерть, я ее видела!» – говорила она, вся дрожа, прибежавшим на крик сестрам. Со второго сентября в парижских тюрьмах началась кровавая вакханалия, там убивали дубинками заключенных – дворян и священников, мужчин и женщин… Рене и Жан-Батист осаждали Тионвиль, а его сестры вернулись в Бретань, взяв с собой Селесту. Из полагавшегося ей наследства новоиспеченная госпожа де Шатобриан не получила почти ничего: ее родственники уехали, забрав с собой ценные бумаги. Она осталась без мужа и без денег, зато в обществе золовок и свекрови, вместе с которыми ее заточили в бывший монастырь для раскаявшихся девиц легкого поведения, превращенный в тюрьму.
Овдовевшая госпожа де Мариньи оставалась на свободе: своевременная смерть мужа уберегла ее от революционного правосудия; в ее замке находили приют повстанцы, «правильные» кюре проводили там запрещенные церковные обряды. Шатобриан с умилением писал в предисловии к первому изданию «Аталы», как его сестра бросилась в ноги Анри де Ларошжаклену, вождю вандейских повстанцев, умоляя пощадить несколько сотен республиканцев, захваченных им в плен, а потом помчалась в Ренн с бумагой, подтверждавшей ее «патриотический поступок», чтобы попросить взамен освободить ее сестер, но председатель трибунала ей отказал, не увидев в этом поступке ничего ценного, потому что защитников у Республики много, а хлеба нет. «Вот от каких людей Буонапарте избавил Францию!» – восклицал Рене в конце этой истории. В предисловиях к позднейшим изданиям ее уже не было; братья Анри де Ларошжаклена, который погиб в бою в двадцать один год, ныне снова разжигают восстание в Вандее, только уже против «Буонапарте». А из реннской тюрьмы Селесту, Люсиль и Жюли выпустили благодаря хлопотам Бениньи – еще одной сестры Рене, который не любит об этом вспоминать.
Бенинья совершенно не похожа на всех других Шатобрианов: она твердо стоит ногами на земле, вместо сочинения стихов скрупулезно заполняет конторские книги и думает не о безликих потомках, а о своих четырех детях, которых они с мужем не побоялись произвести на свет в то черное время. Кот питает к ней неприязнь со времени дележа отцовского наследства, когда Бенинья и Мари-Анна восстали против бретонского обычая, по которому две трети имущества покойного дворянина наследует его старший сын. Заявив, что их отец нажил свое состояние торговлей, то есть не дворянским занятием, они потребовали для себя равную долю; вдовая госпожа де Шатобриан была оскорблена до глубины души и ссылалась на ордонансы Людовика XIV, по которым дворянам не возбранялось снаряжать торговые флотилии; Жан-Батист согласился выделить двадцать пять тысяч ливров и разделить их поровну между четырьмя сестрами и младшим братом, а Рене затаил обиду. Он ничего не забыл и не простил: когда вышло иллюстрированное издание «Гения христианства», он подарил по одному экземпляру Селесте, Люсиль и Мари-Анне (его мать и Жюли к тому времени уже умерли), а Бенинью обделил.
Селесту Рене часто называл своей вдовой. Луи де Фонтан как-то признался ей, что Кот, по его словам, согласился сопровождать кардинала Феска в Рим в третьем году только из боязни воссоединиться с женой. Еще одна выдумка! Они тогда уже почти год жили вместе, пока Рене отделывал «Гений христианства». Дом графини де Бомон в Савиньи-сюр-Орж не был настолько огромным, чтобы с легкостью прятать там секреты, – очень скоро Селеста поняла, что Полина дала им приют не из одной лишь щедрости. Поэтому она сама отказалась ехать в Рим, когда Рене предложил ей это – с надеждой на ее отказ. Полина была тогда безнадежно больна и напоминала собой тень, бродящую по земле; она умерла в Риме на руках у Кота, взяв с него слово вернуться к жене. К тому времени недовольный им кардинал Феск уже прогнал его; Бонапарт назначил его французским поверенным в делах в Республике Вале; Шатобриан вернулся в Париж, чтобы затем выехать в Швейцарию, но тут произошла гнусная история с герцогом Энгьенским, и он подал в отставку.
Рене поэтично описал кончину Полины де Бомон; его письмо ходило в списках среди друзей, проливавших над ним слёзы умиления, хотя что может быть прекрасного в болезни? Даже если это чахотка. Селеста сама часто болела. Доктор Рекамье (кузен супруга Жюльетты) объяснял слабость ее здоровья большой моральной усталостью и в утешение сравнивал ее с тростником, который гнется, но не ломается. В ее приступах астмы, мигрени, печеночных коликах Шатобриан ничего поэтичного не находил и считал, что она нарочно притворяется больной, чтобы удержать его при себе. Люсиль тоже была больна – но не столько телесно, сколько душевно. Сильно привязавшись к Полине, она не желала верить в ее смерть. Ее похитили! Эта мысль, укоренившаяся в ее поврежденном уме, заставляла ее опасаться слежки. Люсиль постоянно переезжала с места на место, все получаемые ею письма казались ей вскрытыми. Шатобрианы жили тогда в Париже, на улице Св. Отцов; Рене снял для сестры комнату в пансионе на улице Комартена, однако Люсиль, ничего ему не сказав, уехала оттуда в предместье Сен-Жак, в женский монастырь Святого Михаила, и поселилась в келье с окном в сад. К тому времени она уже семь лет была вдовой и звалась госпожой де Ко.
Ее замужество многим показалось странным даже в то безумное время: она вышла за семидесятилетнего вдовца, бывшего коменданта Фужера и полковника Национальной гвардии Ренна; через неделю он выгнал из дому свою новую жену и умер через полгода после свадьбы. Похоже, что Люсиль в свои тридцать с лишним лет так и осталась девственницей, и когда за ней вдруг стал ухаживать поэт Шендолле, вела себя как юная девица. Рене и Полина (она тогда еще была жива) поощряли этот роман, понимая, что для Люсиль это единственный шанс найти свое счастье, однако непоправимое уже свершилось: она в самом деле вобрала в себя своего брата и больше не принадлежала себе. Кот всегда говорил, что не создан для семейной жизни; Люсиль отказала Шендолле, «не желая построить свое счастье на его несчастье», но при этом пообещала ему не выходить замуж за другого. Она тоже была не способна отдаться кому-то целиком, желая, однако, обладать другими. Вела кочевую жизнь, переезжая от одной сестры к другой и мучая их своими капризами, сменявшими друг друга приступами смирения и требовательности. Брата она забрасывала записками, напоминая ему о прошлом, а потом прочла «Рене» и решила, что она и есть Амели – сестра, воспылавшая преступной любовью к брату и вынужденная похоронить себя в монастыре, не в силах побороть эту страсть.
Летом четвертого года Шатобрианы уехали в Вильнёв к своим друзьям Жуберам – Оленю и Волку. Там они и узнали из письма госпожи де Мариньи о смерти Люсиль, которая вновь сменила квартиру, отпустила служанку в Бретань и жила с восьмидесятилетним слугой по фамилии Сен-Жермен, прежде носившим ливрею графини де Бомон. Письмо пришло в середине ноября; на второе декабря была назначена коронация Бонапарта, поэтому Кот не поехал в Париж, сославшись на плохое самочувствие Селесты, и пообещал сестрам поставить через месяц надгробный памятник на могиле Люсиль. Однако место этой безымянной могилы на кладбище для бедных мог указать лишь один Сен-Жермен, а он вскоре умер сам. Шатобрианы вернулись в конце года, и начались новые дрязги: выяснилось, что Люсиль заложила большую часть своего имущества, чтобы уплатить долги Рене в десять тысяч франков, и Бенинья, платившая за ее проживание в пансионе, была этим возмущена; Кот припомнил ей тот самый раздел отцовского наследства и заявил, что это она должна оплатить надгробие для сестры… Тогда он еще оставался должен триста пиастров скульптору за памятник на могиле госпожи де Бомон, то есть вдвое больше, чем все деньги, которыми он располагал, несмотря на успех своих произведений: он совершенно не умеет зарабатывать своим пером, считая это ниже своего достоинства.
Год спустя Рене вновь сбежал от Селесты в дальние страны, вознамерившись посетить Святую землю. Жене он позволил сопровождать себя только до Венеции, якобы не желая подвергать ее тяготам долгого путешествия. Все уверяли ее, что Коту ничто не угрожает, хотя она безумно тревожилась и считала себя уже вдовой. Но Шатобриан не утонул и не умер от чумы, зато повстречал в Альгамбре новый идеал – Натали де Ноайль-Муши, которую он называл Мушкой, и вернулся домой «последним Абенсерагом». Мушка познакомила его со своей родственницей Клэр де Керсен, герцогиней де Дюра, которая сгорала от желания увидеть автора «Гения христианства». В ее парижском салоне Кот читал свои еще не опубликованные рукописи, и многочисленные «мадамы», как называла их Селеста, млели от восторга. Потом была та злосчастная статья в «Меркюр де Франс» о Нероне и Таците и изгнание в «Волчью долину», где Рене пришлось мириться со своим положением мужа.
Их жизнь в «Волчьей долине» была нескончаемой чередой ссор, примирений и побегов друг от друга; когда Селеста, не выдержав, уезжала в Бретань или в Швейцарию, Кот мчался за ней, но после пары месяцев вдвоем ускользал сам… И при этом писал госпоже де Дюра, которую называл своей доброй сестрой, что мечтает только о «нежной дружбе без всяких гроз», уединении и полнейшем забвении – он, становящийся глухим, когда говорят не о нём, как выразился насмешник Талейран! Как часто он донимал Селесту своими стенаниями о том, что после него не останется ничего, кроме горстки старых книг, которых больше никто не раскроет; «Волчью долину» с кедрами, посаженными его руками, продадут какому-нибудь виноторговцу, люди будут есть, танцевать, смеяться, плакать, а о нём никто и не вспомнит…
С Клэр он освоил новую для себя роль – старшего брата. Это оказалось просто: она тоже родилась в Бретани, ее отец граф де Керсен поплатился своей головой за независимость суждений и прямоту высказываний; мать с теткой увезли ее в Англию, где она вышла замуж за герцога де Дюра и родила ему двух дочерей. Шатобриана она считала необыкновенным человеком, в котором гений соединился с детской простотой. Клэр восхищалась его благородным поведением и великодушием, почитала за последний образец старинной французской чести во времена, когда все поклоняются золотому тельцу, и наделила прозвищем Чародей, а он называл ее «высшей женщиной», сочетающей в себе красоту души, ума и тела. Ненавидеть или презирать людей легко, но знать их и при этом любить их – это доступно лишь высшему существу! Разумеется. Но с чего он взял, что госпожа де Дюра его знает? Увы, это доступно лишь Селесте…
Герцогиня де Дюра сейчас тоже в Генте, как и ее давняя подруга, маркиза де Латур дю Пен. Маркиза делает всё возможное, чтобы западня, в которую готова провалиться Клэр, не захлопнулась. Селеста как-то раз случайно услышала их разговор в уголке гостиной, когда музыка смолкла: госпожа де Латур дю Пен пыталась внушить ослепленной своей любовью бедняжке, что в частной жизни поэт может быть вовсе не тем человеком, каким представляется поклонникам своих произведений, остроумие – еще не мудрость, мудрец обязан отречься от всяческого тщеславия и не искать одобрения и похвал, поощрять споры о себе – проявление гордыни. «Вы очарованы тем, что он говорит вам, потому что думаете про себя: я так умна – подстать господину де Шатобриану, ему нравится быть со мной, потому что я достойна его. Ах, дорогая, оставьте его Натали – она достойна его, потому что он легко снисходит до нее. Вы-то сможете сохранить к нему дружеское чувство, если он будет принадлежать ей, а на какие только гадости она не пойдет, если узнает, что вы его любите…» О, как это верно!
В «Гении христианства» Рене осуждает разводы, говоря, что они бессмысленны: мужчина, не сумевший сделать счастливой одну женщину, не осчастливит и другую, сам же будет постоянно сравнивать новую жену с прежней и жалеть о том, чего более не имеет. И еще он советует не наделять Гименея крыльями Амура. Да, их с Селестой союз совершенно бескрылый, зато, насильно впряженные в одну упряжку, они уже приноровились к шагу друг друга и согласно тянут свою ношу, двигаясь в одном направлении, – они супруги.
…Выбравшись из дилижанса, госпожа де Шатобриан спустилась пешком к церкви Святого Якова, неся в руках дорожный несессер и небольшой саквояж. Месса уже закончилась, значит, скоро король отправится на свою ежедневную прогулку в карете, запряженной восьмериком, вдоль канала Купюра и обратно. (Нидерландский король отказался предоставить в распоряжение Людовика XVIII Лакен, свою загородную резиденцию под Брюсселем, и тот каждый день отправлялся «дышать воздухом», захватив с собой свиту и охрану.)
На площади, где по пятницам обычно устраивали рынок, маршировали английские солдаты, отрабатывая перестроения; только у самого тротуара стояла телега с разложенными на ней кочанами цветной капусты, пучками спаржи и шпината, кучками зеленой фасоли, пирамидами из лука и картофельных клубней, которые придирчиво рассматривали женщины с корзинками. Солдаты вдруг остановились и взяли на караул – мимо проскакал герцог Веллингтон. Наверное, на площади Коутер сегодня смотр. Не задерживаясь, Селеста зашагала дальше – по улицам и площадям, мимо высоких готических зданий с ребристыми фасадами и статуями на крышах, перешла через мост и стала спускаться по скользкой после дождя мостовой вдоль высокой ограды монастыря бегинок. Вот и их дом: островерхая черепичная крыша с крутыми скатами, тюлевые занавески на окнах второго этажа, где находится их квартира…
Служанка взяла у нее саквояж, помогла снять пальто и переобуться в мягкие домашние туфли. Месье де Шатобриан куда-то ушел и не сказал, когда вернется; не подать ли чаю? Да, пожалуй.
На столе в комнате Рене лежала развернутая «Универсальная газета», еще пахнувшая типографской краской. Селеста подошла посмотреть. «Доклад о состоянии Франции, сделанный Королю на Его совете», занимал целых три страницы без «подвала», под ним стояла подпись: «Виконт де Шатобриан, полномочный посол Его Христианнейшего Величества при шведском дворе».
Десять дней назад в этой же газете напечатали королевский манифест, в котором Людовик XVIII напоминал о благотворных последствиях своего возвращения во Францию, ставя себе в заслугу защиту отечества от репрессий со стороны иноземцев и дарование конституционной Хартии. Там говорилось, что король и французская нация едины как никогда, несмотря на внезапное предательство армии – то есть заблудших солдат, обманутых вероломными маршалами, которые уже раскаиваются в своем поступке, – и была еще куча звонкой чепухи в том же духе. Кот собирался раскрыть королю глаза на истинное положение дел. Селеста принялась читать, перепрыгивая с одного абзаца на другой: «Новая конституция Буонапарте – очередная дань уважения Вашей мудрости, ведь это, с небольшими отличиями, есть конституционная Хартия, Буонапарте лишь опередил, со свойственной ему прыткостью, улучшения и дополнения, над коими Вы размышляли с присущей Вам осторожностью… Сир, все Ваши министры, все члены Вашего Совета неизменно преданы принципам мудрой свободы; они проникаются рядом с Вами любовью к законам, порядку и справедливости, без коих народ не может быть счастлив. Сир, позвольте нам сказать Вам: мы готовы пролить за Вас всю кровь до последней капли, последовать за Вами на край земли, разделить с Вами все злоключения, какие Всевышнему будет угодно ниспослать Вам, потому что мы готовы поклясться Богом, что самое заветное желание Вашей королевской души – свобода французов…» Отодвинув газету, Селеста прошла к себе и прилегла на кровать; когда служанка принесла поднос с чаем, она попросила натереть ей виски уксусом и положить на лоб влажное полотенце.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































