Текст книги "Политика и литературная традиция. Русско-грузинские литературные связи после перестройки"
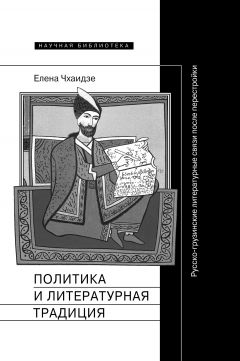
Автор книги: Елена Чхаидзе
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
1.2. От «Тамары» до Гоги: от благородной романтики до анекдота
Гоги торгует цветами:
– Дэвушка! Купитэ этот цвэток – он так пахож на вам!
– Не на вам, а на вас!
– На мну?! Нэ можэт бить!
Кроме нарратива о Грузии-рае, имперскую литературную традицию составляло регулярное обращение к образу других, что являлось неотделимой частью картины об исследуемых краях. Если в грузинской литературе XIX века доминировал образ русского колонизатора/покорителя, который заставляет страдать грузин от происходящих бесчинств, и в центре стояли исключительно мужские образы, то в русской литературе вектор был иным. Отталкиваясь от гендерных отличий, следует сказать, что грузинские мужские и женские образы в русской литературе имперского и советского периодов носили эмоционально-положительный характер, отличаясь лишь акцентами, расставленными в характеристиках, и мужской образ был более популярным. Изначально формированию представлений о других народах, как и в случае с Грузией-раем, служили мемуаристика, путевые заметки и художественные произведения. Все они имели отношение к военно-художественной романтике (Цуциев, 2005. С. 152–176). Оказавшись на Кавказе в начале XIX века, русские чиновники/поэты/ссыльные стали описывать горцев с целью подчеркнуть и выстроить свою самоидентичность. Роль Кавказа была здесь схожа с ролью саидовского «Ориента» (Said, 1978). Ю. М. Лотман писал: «…граница делит плоскость на две области – внешнюю и внутреннюю. Самой простой семантической интерпретацией такой модели культуры будет оппозиция: мы ↔ они» (Лотман, 1992. T. I. С. 392–393). Южный край стал территорией, помогающей понять свой культурный образ и определиться в диадах «друг – враг»/ «свой – чужой». Наибольшее влияние на представления о грузинах оказало «Путешествие в Арзрум» (1829) Пушкина. Имперская перспектива легла в основу его восприятия Кавказа и Грузии: грузины преданы Российской империи, они воинственны, и это льстит колонизатору. Пушкин обращает внимание на силу слабого – общительность, гостеприимство, дружелюбие, а также на белые пятна в образовании:
Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчики поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку. Голос песен грузинских приятен. <…> Грузины пьют не по-нашему и удивительно крепки (см. в: Пушкин. Собр. соч., 1960. T. 5. С. 431).
Л. Н. Толстой также увидел отчасти схожие с пушкинскими представлениями черты: «…милейший народ эти грузины, и умные, и кроткие, и добрые» (см.: Маковицкий, 1923. С. 13). В комплиментарном хоре существовала строчка, будоражившая и раздражавшая не один ученый ум, – это строка из поэмы «Демон» Лермонтова «Бежали робкие грузины» (Богомолов, 2002. С. 48–82). Она не раз подвергалась литературоведческим исследованиям, а в постсоветское время стала использоваться как орудие нападок. Например, Лев Вершинин переиначил ее и назвал свою книгу-лжеисторию «„Бежали храбрые грузины“: Неприукрашенная история Грузии» (2015). В формировании представлений о грузине играли роль и книги европейских писателей, такие как «Кавказ» (1859) Александра Дюма. Восприятие Дюма отличалось от восприятия «поэтов в форме». Его романтический взгляд на других не был связан с иерархией «колонизатор – колонизованный», а концентрировался на впечатлениях путешественника, описывающего другой народ: грузинский князь у него храбрый, гостеприимный, щедрый (Дюма, 1988. С. 230), грузинский мальчик – сказочный (Там же. С. 310), а грузинки – первые красавицы на свете (Там же. С. 285); Тифлис Дюма сравнивал с амфитеатром, в котором разворачивается многонациональное действие, шумное и пестрое (Там же. С. 217).
В советский период образ грузина формировался благодаря литературоцентричному сознанию (термин см.: Чупринин, 2007. С. 284). Художественные произведения и личные воспоминания писателей (Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Есенин, Пастернак, Ахмадулина, Евтушенко) сыграли ведущую роль. Если суммировать литературные описания, то характерными чертами были следующие: любитель вина и застолий («Пену сладких вин Сонный льет грузин» – Лермонтов; «Над Курою есть духаны» – Мандельштам), веселый и дружелюбный («…я вижу, как меня любят, понимают и ценят» – Пушкин), дружественный по отношению к гостям («О Грузия, – нам слезы вытирая…» – Евтушенко). В советские времена частью исследований русско-грузинских литературных связей были работы, посвященные упомянутому образу. Им интересовались Л. Н. Асатиани, И. С. Богомолов, И. К. Ениколопов, Г. Талиашвили, В. С. Шадури[12]12
См.: Асатиани Л. Пушкин и грузинская культура. Тб., 1949; Богомолов И. Грузия стала традицией для всей руccкой поэзии (А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Я. П. Полонский, И. Г. Терентьев, С. А. Есенин, П. Г. Антокольский). Тб.: ТГУ, 2002; Богомолов И. С. Из истории грузино-русских литературных взаимосвязей. (Первая половина XIX века.) Тб., 1967; Богомолов И. С. Тропою дружбы: Литературные очерки. Тб., 1984; Ениколопов И. К. Л. Н. Толстой в Грузии. Тб., 1978; Ениколопов И. К. Лев Николаевич Толстой о Грузии. Тб., 1960; Талиашвили Г. Русско-грузинские литературные взаимоотношения (XVIII–XIX вв.). Тб., 1967; Шадури В. С. Выдающиеся деятели русской культуры о Грузии. Тб., 1958; Шадури В. Грузия в русской литературе // Русские писатели о Грузии. Тб., 1948; Шадури В. Летопись дружбы грузинского и русского народов: В 2 т. Тб., 1961; Шадури В. Пушкин и грузинская общественность. Тб., 1966; Шадури В. Русские писатели о Грузии. Т. 1. Тб., 1948; Шадури В. Сквозь столетия. Тб., 1983.
[Закрыть]. В поле зрения ученых чаще всего попадало несколько отрывков, относящихся в первую очередь к Пушкину и Лермонтову, а позже к Есенину, Пастернаку, Ахмадулиной.
Традиция описания грузина продолжилась после изменения политической формации в начале XX века. На смену колонизованному пришел образцовый представитель семьи советских народов, подтверждавший могущество интернационализма (Цуциев, 2005). Этот образ стал результатом коллективного труда и использовался в нескольких целях: во-первых, он, как и миф о Грузии-рае, служил скрепой между Россией и южной республикой; во-вторых, играл роль реверанса власти, во главе которой не один год стояли грузины, в первую очередь Сталин; в-третьих, фоном, на котором русские выступали в лучшем свете. В 1930-е годы стал раскручиваться образ веселого, легкомысленного грузина. Особенно явно это прослеживалось в кинематографе (начало фильма «Трактористы» или конец фильма «Сердца четырех», а позже кавказцы в фильме «Кавказская пленница»). Популяризация такого образа связывалась с правлением Сталина: «Стремясь сделать вождю приятное, заботу о маленькой закавказской республике стали проявлять и на всех прочих уровнях» (Музафаров, 2008). Восприятие его фигуры как воплощения супраэтнического большевизма (Плампер, 2011. С. 263) не помешало процессу ассоциирования вождя с его реальной этнической принадлежностью. Официальная массовая советская культура восходила к мазохистской любви к диктатору:
Его акцент, грузинская фамилия, его харизма легли тенью на всю последующую историю кавказских образов в советской культуре. Серго Орджоникидзе и Анастас Микоян были бледными копиями того же образа. Тираж этих копий огромен. Неприязнь к кавказцам оказалась полным табу, она была невозможна, так как носила в себе скрытую потенцию «антисоветского заговора» (Цуциев, 2005).
Следующий этап метаморфозы функциональной роли образа приходится на постсталинский период. По одной версии, после смерти Сталина (Арошидзе, 2007), по другой – после расстрела Берии (Цуциев, 2005), в середине 1960-х зарождается иронически-романтический рыцарский анекдотический образ грузина-ловеласа с Черноморского побережья, который, по словам Цуциева, стал последним романтическим образом кавказца. Согласно еще одной версии, именно после смерти Сталина к образу грузина добавились комические черты: теперь это богатый, но глупый персонаж, чаще всего торговец (Арошидзе, 2007). Об анекдотических образах можно узнать следующее:
Это человек заметный, шумный, пестро, часто безвкусно, но всегда «богато» одетый. Больше всего на свете грузин озабочен тем, чтобы другие не подумали, что у него чего-то нет, он очень любит прихвастнуть, показать свое реальное или мнимое богатство.
Грузины в русских анекдотах – люди гостеприимные, любящие компанию, застолье, тосты; щедрые, иногда даже слишком щедрые; они преувеличенно мужественны, но при этом отношение к женщине у них «восточное» – как к низшему существу (напомним известную фразу из анекдота о том, как грузин расточал многочисленные комплименты некоей даме, беседуя с ее спутником, однако когда она попыталась принять участие в разговоре, ей было сказано: «Молчи, женщина, когда джигиты разговаривают») (Шмелев, Шмелева, 2014. С. 167–177).
В период оттепели к образу грузина добавились черты жулика и коррупционера. В советских этнических анекдотах главными чертами грузин были коррумпированность, хвастовство, волокитство, семейность (Мельниченко, 2014. С. 970–975), а также любвеобильность и богатство (Макаров, 27.01.1999). Складывалось впечатление, что они стоят в стороне от общего контекста жизни в СССР: их образ жизни был более свободным, не подчинявшимся законам центра (Nizharadze, 2006). Объяснение поведению, которое легло в основу не только анекдотов, но и стереотипов о поведении грузин, представил психолог, социолог и культуролог Георгий Нижарадзе в статье «Мы – грузины» (1999)[13]13
Впервые статья появилась в журнале «Дружба народов» (1999. № 10), а затем воспроизводилась в сборниках: «Защита будущего. Кавказ в поиске мира» (2000. С. 113–138), при поддержке ОБСЕ; «Народы перед зеркалом» (2014. С. 15–48), выпущен редакцией того же «ДН» и издательством «Культурная революция»; по нему я продолжу цитирование.
[Закрыть]. Он проанализировал психологические свойства грузин, сформировавшиеся благодаря историко-политическому развитию страны, и пишет, что Грузия как позднефеодальная страна XIV–XIX веков, зависимая от сильных соседей, выработала свой «адаптационный механизм», направленный на приобретение и сохранение власти, будучи в зависимости. Сводился он к следующему:
феодал, дворянин, претендент на престол, порой просто авантюрист; проявляют лояльность по отношению к власти, находящейся на отдаленном расстоянии (султан, шах, император), но всегда оказывают сопротивление местным правителям. <…> Далекая власть воспринимается как данность, против которой воевать с оружием в руках не имеет смысла <…>. Однако эту власть можно использовать – установить хорошие отношения с ее представителями (говоря фигурально, «принося в дар коньяки») и, таким образом укрепив свое положение, бросить силы на борьбу со слабой местной властью (Нижарадзе, 2014. С. 18–19).
Такая модель поведения поспособствовала формированию психологических свойств грузинского характера: индивидуальная инициатива, умение выстраивать взаимоотношения, острота ума, хитрость, определенное расхождение между словом и делом, способность «пробивать», «пудрить мозги», а также стереотип о том, что за проявление верности легитимной власти должностное лицо получает немалые привилегии; кроме того, грузинам, как и другим покоренным народам, была свойственна «сила слабого» (Тернер), проявлявшаяся в гипертрофированном чувстве чести и желании произвести впечатление на инородцев (Там же. С. 19–20).
В постсоветский период культуролог, литературовед Г. Д. Гачев в книге «Национальные образы мира. Кавказ. Интеллектуальные путешествия из России в Грузию, Азербайджан и Армению» (Гачев, 2002) практически завершает формирование представления о мужском образе грузин, который формировался из двух перспектив: имперской и советской. Он пишет, что до краха СССР грузины в русском сознании ассоциировались с юмором, легкостью отношения к жизни, культом рода и дружбы, совестью, восприимчивостью, гостеприимством («В Грузии – болезни желудка и сердца; душа – здорова. Тут пьют – а не пьяницы» – Там же. С. 151), бескорыстностью к гостю, артистизмом, отсутствием национализма, дипломатичностью, воинственностью и властностью, проявляющейся в грузинском характере вне Грузии, они «все восприимчивы, приветливы. <…> Нет в них комплекса неполноценности перед „великими“ державами и культурами» (Там же. С. 51). В постсоветский период образ грузина в художественной литературе вновь претерпит метаморфозы и будет отличаться некоторыми чертами от устоявшегося ранее.
Обращаясь к гендерному фактору, отметим, что некоторые черты грузин, связывавшиеся с мужчиной, особенно комические, не связывались с женщиной[14]14
Если во введении я говорила об образе русского в грузинской литературе, то об образе русской женщины мной практически ничего не сказано. Этот вопрос остался пока не изученным.
[Закрыть]. Как уже было сказано, в отличие от мужского образа, переросшего затем в стереотип, женский не был столь широко распространен в русской литературе или советских анекдотах. Представления о грузинке складывались, начиная с XVII века, также благодаря путевым запискам европейцев и русских. В европейских источниках лейтмотивом становится тема внешности грузинок как самых красивых женщин Азии (Gogiaschwili, 2008. P. 260–261). Мало кто из широкого круга читателей будет отталкиваться от «Повести о Динаре», первого русского произведения, полностью построенного на грузинском материале и посвященного царице Тамаре (Летопись дружбы, 1967. С. 47), выстраивая представления о грузинке. Вначале придет на ум культивируемая в советские времена как воплощение русско-грузинских связей история любви Грибоедова и Нины Чавчавадзе. Именно Нина стала для русского интеллигента олицетворением грузинки – благородной, преданной мужу на протяжении всей жизни и даже после его гибели, покорной своей судьбе. Такое представление – как о покорной хранительнице очага – будет отмечено и в более поздние периоды. Часто в русском культурном сознании всплывает образ девы гор из «Мцыри» Лермонтова, в чей голос и внешность влюбился Мцыри (1840)[15]15
Держа кувшин над головой,Грузинка узкою тропойСходила к берегу. ПоройОна скользила меж камней,Смеясь неловкости своей.И беден был ее наряд;И шла она легко, назадИзгибы длинные чадрыОткинув. Летние жарыПокрыли тенью золотойЛицо и грудь ее; и знойДышал от уст ее и щек.М. Ю. Лермонтов. Мцыри
[Закрыть], и образ из «Грузинской песни» (1854). В конце советского периода показательным явился образ грузинки у Сергея Довлатова: «Женщины Грузии строги, пугливы, им вслед не шути. Всякий знает: баррикады пушистых ресниц – неприступны» («Блюз для Натэллы», 1985). Следует отметить, что женский образ как стереотип о грузинке не имеет такого широкого распространения, как мужской. Он скорее смежен со стереотипом о кавказской женщине как женщине восточной, с ее покорностью и преданностью семейным ценностям.
Со временем представления о грузине/грузинке сформировались в этнический стереотип благодаря политике, литературе, кино, экономическим условиям и социальным контактам, то есть специфике взаимоотношений между группами людей (Платонов, 2000. С. 288). Ментальные различия легли, например, в основу этнических советских анекдотов. В имперский и советский периоды «грузин» прошел несколько этапов изменения – от романтического образа иного до анекдотического, в котором сфокусировались стереотипы о кавказцах.
Глава II. Россия – Грузия: от политической до литературной постсоветской деконструкции и демифологизации
Посредством циркуляции массы заново присваивают пространство, конституируя себя в качестве субъекта действия. <…> Эти перемещения нередко стоят ужасных страданий, но вместе с тем в них присутствует желание освобождения, не удовлетворяемое иначе, кроме как присвоением новых пространств, где рождается новая свобода.
Майкл Хардт, Антонио Негри (2000. С. 366)
Постсоветский период стал переломным не только в геополитике, но и в научном, и в переводческом, и в литературном процессе. Изменившая политический курс Грузия стала для кого-то предательницей по отношению к России, а для кого-то, наоборот, новой постсоветской страной-ориентиром. В Грузии же по отношению к России открыто и резко зазвучали обвинения в аннексии. Сентиментально-романтический дискурс русской литературы, активно поддерживавшийся в советский период, преобразовался в две параллели, каждая из которых в то или иное время начинает доминировать: прежняя, романтическая, и новая – демифологизирующая. Первая группирует вокруг себя известные мотивы (природа, дружба, достопримечательности), вторая связана с проблемами новейшего времени: крах СССР; образование новых государств, сопровождавшееся региональными межэтническими войнами; проблемы национализма; поиск нового лица, то есть выстраивание новой национальной идентичности; пересмотр совместного прошлого.
2.1. Гласность, или Занавес сдернут: осколки национализма
– Со всеми православными странами соримся <…> теперь угрожаем войной грузинам. Кто остался? Одни греки! Если еще с ними начнем цапаться – конец православию.
Александр Потемкин. Человек отменяется (2008. С. 381)
За советской идеологемой дружба народов скрывался клубок неразрешенных за советский период национальных вопросов, которые привлекали к себе многих исследователей «советской империи». О национальной политике и определении СССР как особой империи писали и на Западе, и в России[16]16
Carey, Raciborski, 2004; Chari, Verdery, 2009; Korek, 2007; Kuhiwczak, 2008; Stefanescu, 2012; Tlostanova, Mignolo, 2009; Kappeler, 1992; Martin, 2001.
[Закрыть]. Андреас Каппелер[17]17
Kappeler А. Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung-Geschichte-Zerfall (1992). На русский язык книга переведена в 1997 году. Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад / Пер. С. Червонная. М.: Прогресс-Традиция, 1997.
[Закрыть], рассматривая Российскую империю, а затем и СССР как наследника империи в рамках единого поля – «советской полиэтнической империи», обратил внимание на то, что национальный вопрос интерпретировался односторонне. История России зачастую неверно воспринималась западными учеными как национальная история только русских[18]18
«До недавнего времени в западных странах все жители СССР обозначались как русские, и ничего не было известно о литовцах, казахах и грузинах, не говоря уже об осетинах, месхетинцах или гагаузах»; и далее: «Авторитарная система при помощи широкой информационной монополии и репрессий десятилетиями скрывала существование национальных проблем. Основная часть западных наблюдателей принимала такое положение вещей: некоторые представляли себе государство лишь как гомогенную этническую общность. <…> И только распад СССР показал широкой общественности, что Советский Союз был полиэтнической империей» (Каппелер, 2000. С. 16–17).
[Закрыть]. На другие народы обратил внимание Терри Мартин (Terry Martin). Сфокусировав внимание на сталинском периоде, точнее на анализе действий/мероприятий центральной власти по поддержке и развитию культур национальных меньшинств, он доказал то, что идет вразрез распространившемуся и культивируемому мнению, особенно в постсоветский период: тезис о подавлении малых народов со стороны «титульной» нации является не совсем верным, и это наглядно видно при анализе политики 1920–1930-х годов:
Советская политика была оригинальной в том отношении, что она поддерживала проявление национальных форм меньшинств в ущерб титульным нациям. Она решительно отвергла модель национального государства, заменив ее множеством национальных по типу республик (Martin, 2000. P. 75).
Хотя утверждению о самопожертвовании русских противостоят более поздние картины подавления национализма, например в той же Грузии в 1924, 1956, 1978 и 1989 годах.
Практически параллельно исследованию Мартина появляется статья Дэвида Ч. Мура (David Ch. Moore) «Is the Post– in Postcolonial the Post– in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique / Есть ли пост– в постколониальном и пост– в постсоветском?» (2001), в которой автор стремится дать определение Советскому Союзу, и результатом становится появление термина «reverse-cultural colonization (обратно-культурная колонизация)». Мур тоже не обошелся без обращения к национальному вопросу. Он приходит к выводу, что в СССР проводилась политика упразднения привилегий для русских на юге и востоке бывшей Российской империи, и советская власть прикладывала большие усилия для развития индустрии, образовательной и медицинской сфер на периферии: строительство заводов, фабрик, школ, больниц, освобождение женщин из гаремов (Moore, 2001. P. 123). Д. Ч. Мур указал на фактическую антиколониальную борьбу, целью которой было построение государства новой формации. Лишь российская исследовательница Мадина Тлостанова в книге «Жить никогда, писать ниоткуда. Постсоветская культура и эстетика транскультурации» (2004), определяя СССР как «трансимперское, транскультурное и транснациональное» пространство и исходя из российской/советской имперско-колониальной конфигурации, говорит о чувстве «второсортности [нерусских] всех остальных этносов и народов – как живших внутри СССР, так и его полуколоний – социалистических стран». Если вернуться к литературе и заглянуть в «Империю…» Битова, то точка зрения Тлостановой подтверждается самим «русским имперским человеком»:
Чья земля?
Армянская прежде всего. Нет, грузинская. Нет, абхазская. Нет, греческая. Чья земля? – того, кто раньше, или того, кто позже? Мы переглядываемся с русским шофером: земля-то, конечно, русская… (Битов, 2009. Т. IV. С. 329–330).
Разные научные подходы стали результатом вскрывшегося ящика Пандоры, которым и был национальный вопрос:
камнем преткновения для советской Империи оказался именно национальный вопрос. Под ритуальные заклинания о «братской дружбе» и «добрососедских отношениях» национальное звено неуклонно слабело в цепи социализма. Взрывы национальной ненависти, потрясшие СССР в конце 1980-х годов (и продолжающиеся поныне), не приснились бы советскому человеку и в кошмарном сне (Азадовский, 2003. C. 11).
Во второй половине 1980-х годов, после провозглашения М. С. Горбачевым перестройки и гласности, свобода слова превратилась в «орудие атаки» (Гусейнов, 2018). Было снято табу на ранее неприкасаемые темы, в том числе и на национальный вопрос, из-за чего доманифестные формы тлеющего межэтнического напряжения переросли в манифестные (Гусейнов, Драгунский, 1990):
М. Горбачев в первые годы своего правления не осознавал, какой взрывной потенциал заложен в межнациональных отношениях, верил, что национальный вопрос в СССР решен (Гайдар, 2006, С. 171).
Умалчиваемая и непозволительная при советской политкорректности псевдопатриoтическая риторика оказалась самой востребованной: «Этнически мотивированная ненависть была нередким первым выражением свободы мнения» (Majsuradze, 2011. P. 26). Проблемы, связанные с национальной политикой, зазвучали сверхагрессивно.
Начался процесс поиска врага, виновного в социально-экономическом и политическом кризисе. Советское общество разделилось на тех, для кого другие были естественной частью повседневной жизни, то есть исходивших из советской официальной установки на дружбу (Thun-Hohenstein, 2011. S. 31), и на тех, для кого другие стали врагами, виновными в накопившихся проблемах[19]19
«…такие критики политики России на Кавказе, как Ф. Старр и Св. Корнелл, признавали, что в Грузии у политической элиты просматривается тенденция обвинять Москву во всем плохом, просто чтобы снять с себя ответственность» (см.: Тополев А. Отношения России с государствами постсоветского пространства (1992–2008) в оценках американских и британских исследователей. 2013. С. 182).
[Закрыть]. Причинами межэтнической напряженности назывались: бытовой и неофициальный национализм, несправедливые – с точки зрения различных этносов – административные границы; факт проживания части этноса за границей СССР (как это имеет место в Азербайджане или на Западной Украине); ошибки регионального планирования; просчеты в культурной и языковой политике; нарушение пропорций представленности различных этносов в науке, культуре, административных органах; засекречивание информации, касающейся недавней истории; наконец, наследие сталинизма в виде различного государственно-правового статуса разных народов (Гусейнов, Драгунский, 1990). Еще одной причиной напряжения являлась политика русификации: «Весь каркас советской культуры держался на специфическом преломлении русской культуры» (Лурье, 2011). Причиной вскрывшихся проблем служил двоякий принцип национальной политики в СССР: с одной стороны, создание наций, а с другой – подавление, но не уничтожение имеющихся (Лурье, 2011), что выливалось затем в митинги и столкновения (Тбилиси, 1978, Сухуми, 1967, Ташкент, 1969, Каунас, 1972, и многие другие)[20]20
См. в статье Маркедонова (2007. С. 163): «В апреле 1978 года в Тбилиси прошли массовые акции с требованиями сохранить в Конституции Грузинской ССР статьи о государственном статусе грузинского языка. Спустя двадцать лет в специальном распоряжении президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе было сказано об историческом значении дня 14 апреля 1978 года, в который „тогдашние власти, общественность, молодежь Грузии не только защитили статус грузинского языка, но проявили единство в борьбе за национальные идеалы“».
«В конце 1977 года в союзные органы власти было направлено так называемое „письмо 130-ти“, на этот раз подписанное представителями абхазской интеллигенции. Это был не первый всплеск массового недовольства в Абхазии. В 1957 и 1967 годах абхазская интеллигенция уже направляла такого рода обращения в ЦК КПСС. Авторы петиции 1977 года ставили вопрос о выходе Абхазской АССР из состава Грузинской ССР с последующим конституционным закреплением этой сецессии. 22 февраля 1978 года обращение стало предметом рассмотрения на бюро Абхазского обкома партии, причем пункт повестки дня был сформулирован следующим образом: „О неправильных взглядах и клеветнических измышлениях, содержащихся в коллективном письме от 10 декабря 1977 года“. Однако позиция партийных органов вызвала жесткое неприятие населения. 29 марта 1978 года в нескольких селах Гудаутского района состоялись сходы в поддержку „письма 130-ти“, на которых вновь, как и во время массовых акций 1967 года, звучали требования прекратить переселение грузин на территорию Абхазии. (Такая миграция поощрялась властями Тбилиси.) В 1978 году в ходе принятия Конституции Абхазской АССР было принято компромиссное решение: абхазский язык, наряду с грузинским и русским, стал государственным на территории автономии» (Маркедонов, 2007. C. 160–161).
О хронологии советских волнений можно узнать онлайн: Народные волнения в СССР 1953–1984 (Часть I, II, III) – http://afanarizm.livejournal.com/153804.html, http://afanarizm.livejournal.com/153968.html.
[Закрыть].
Неопределенность стала причиной споров о советской национальной политике и национализме. Исследователи писали и о вынужденном склонении к национализму (Svante E. Cornell)[21]21
«Национализм рассматривал нацию как определяющее для индивидуальной и коллективной идентичности, а коммунизм – социальный класс. Но и идеологические, и практические соображения позже принудили архитекторов Советского Союза отдать предпочтение национализму» (Cornell, 2002. P. 61).
[Закрыть], и об одновременной борьбе с «(буржуазным) национализмом», и об утверждении этноцентричной трактовки «социалистических наций» (Карпенко, 2013. I, 14), и о том, что советское государство не просто породило национализм, но и укрепило его при помощи приписывания национальных идентичностей и установления национальных границ (RakowskaHarmstone, 1974; Terry Martin, 2001). Итогом сложного политического процесса стало появление разных видов постсоветских национализмов (Jones, 2013. P. 215), а также порождение «масок Угнетателя, Угнетенного, Обделенного, Нахлебника, Мигранта, Лимитчика и т. п.» (Гусейнов, Драгунский, 1990).
Как явление, характеризующее определенный исторический период, всплеск национализма нес и свою важную функцию – он помогал разорвать с «имперским» и «колониальным» прошлым и выстроить национальную идентичность и новый суверенитет. Вспоминается утверждение из «Империи» Майкла Хардта и Антонио Негри (2000), что всплеск национализма – это закономерность, которая служила деколонизации в ментально-социальном смысле. В Грузии (и в балтийских республиках), в отличие от России, где появилась возможность открытых дебатов о правах человека и демократии, в середине 1980-х активировалось обсуждение проблем национальной идентичности, языка и национального возрождения, что явилось первым сигналом об отделении и появлении «новой» нации и нового национального государства. Обострившиеся процессы были продолжением национально-освободительной борьбы, зародившейся еще в XIX веке (см.: Majsuradze, Thun-Hohenstein, 2011; Ципурия, 2016), когда Грузия пыталась освободиться из-под влияния Российской империи. В советский период в развитии грузинского национального движения особую роль играли церковь, как островок активного проявления неприятия советского режима, и студенчество, главным образом Тбилисского госуниверситета им. И. Джавахишвили (Алексеева, 1992):[22]22
Цитируется по третьему изданию 2012 года.
[Закрыть]
Патриотический и антирусский настрой является хорошим тоном во всех слоях, даже у высокопоставленных партийных и правительственных чиновников. <…>
Основной патриотической заботой грузинской интеллигенции является сохранение грузинской культуры. <…> Но особенно массовую базу имеет сопротивление насаждению русского языка в Грузии. Здесь, как и в других республиках, в 70-е годы русификаторская тенденция усилилась <…>. Все шире внедряется русский язык в высших учебных заведениях, в научной и культурной жизни (Алексеева, 2012. C. 90–91).
Многолетние антиимперские, а затем антисоветские брожения, направленные на сопротивление русификации, вылились в радикально агрессивные настроения в конце 1980-х годов, сводившиеся к желанию обрести независимость от СССР. Некоторые исследователи с тем временем связывают пик обострения грузинского национализма, пришедшегося на 1988 год, хотя одновременно отмечают и расцвет либерального национального движения (Sabanadze, 2010). Одним из способов высвобождения стал отказ от общения и ведения делопроизводства на языке «колонизатора», от русского языка (Smith, Law, Wilson, 1998. P. 167–196). Дискуссии о «символическом капитале» (Bourdieu), то есть о языке, о раннем христианстве в Грузии постепенно приобрели сепаратистский контекст. В 1988–1992 годах националистические настроения из бытовых стали открыто-политическими, что, по мнению Сабанадзе, включало в себя три фазы: национальный фундаментализм, национальную апатию и конкурирующий вариант национализма (Sabanadze, 2010. P. 89–111). Главным аргументом грузинской элиты в процессе сопротивления мощи северного соседа являлся грузинский «символический капитал»: язык, древняя культура и раннее христианство[23]23
Подробнее см. в: Smith G., Law V., Wilson A., Bohr A., Allworth E. Nationbuilding in the Post-Soviet Borderlands: The Politics of National Identities. В третьей части книги «Language and nation-buildig» (P. 167–196), где идет речь о значении мифа о языке в Грузии, авторы говорят, что язык составлял большую часть дискурса национальной идентичности и в постсоветский период также стал ключевым в ее определении.
[Закрыть]. Синдром исторического и культурного превосходства никогда не проявлялся на страницах официальных изданий, но всегда был остро осознаваемым элементом «своей» истории (Анчабадзе, 2003. C. 162–163). На протяжении всего имперского периода, даже забывая о периоде коренизации, Россию обвиняли в стремлении к русификации, что стало причиной выстраивания образа врага в ее лице:
Антирусский синдром причудливо переплетается с другим важным элементом массовых исторических представлений грузин, в частности, с представлением об уникальности национального опыта и его безусловном мировом значении (Там же. C. 162).
Пик проявления антисоветских настроений пришелся на 9 апреля 1989 года. В Тбилиси на проспекте Руставели мирные демонстранты, выступавшие за выход Грузии из состава СССР, были жестоко разогнаны войсками при помощи слезоточивого газа, резиновых дубинок и саперных лопаток. Это была кровавая акция по усмирению восставшей республики[24]24
Похожие акции уже наблюдались в Венгрии (1956) и Чехословакии (1968), когда туда вводили советские войска.
[Закрыть]. Жертвами давки и столкновения стали около двух десятков человек[25]25
Оккупация и фактическая аннексия Грузии: Документы и материалы. Тб., 1990. Эту трагедию исследовали во многих книгах: Эрадзе, 1993; Hewitt, 1998; Nodia, 1998; Antelava, 2007; Auch, 2004; Gruska, 2005; Рамишвили, 2006; Kemoklidze, 2011.
[Закрыть]. Резонанс событий, происшедших в ночь с 8 на 9 апреля 1989 года, которую затем назовут «ночью саперных лопаток», оказался таким мощным, что стал точкой начала движения за выход из состава СССР и для других советских республик. До официального провозглашения независимости оставались считанные месяцы. Тогда требование «независимости в Закавказье походило на удар ногой по осиному гнезду» (Рейфилд, 2017. C. 478). Десоветизация по сути была схожа с процессом разрыва и уравнивания: она фактически должна была быть направлена на нивелирование имперского дискурса и на начало формирования суверенитетов. Бескровно этот процесс пройти не мог:
<…> исток политической власти и определение суверенитета кроются в победе одной из этих сторон, победе, делающей одного сувереном, а другого – подданным. Суверенитет создается силой и насилием (Хардт, Негри, 2000. C. 101).
Предшествовали той ночи мероприятия в Абхазской АССР. 18 марта 1989 года в абхазском селе Лыхны состоялся многотысячный сход (Шатаева, Мошкин, 2015. C. 118; Рейфилд, 2017. C. 479–483). Представители народа автономии выдвинули идею о выходе Абхазии из состава Грузии и о восстановлении ее в статусе союзной республики, что спровоцировало в Тбилиси массовые митинги: невооруженные грузины выступали против выхода Абхазской автономной республики из состава ГССР.
Действия советской власти 9 апреля стали ассоциироваться грузинским обществом с действиями русских против грузин, а грузинская элита открыто заявляла о многолетнем порабощении Грузии со стороны России. В целом 1989 год был особенным в мировом масштабе, и европейские теоретики охарактеризовали его как границу преломления эпох (Хардт, Негри, 2000) и как «год идеологии разрыва» (Hladik, 2013). Этот тезис явился убедительным по отношению к России и Грузии, а также по отношению к другой «иерархии» – Грузии и ее советским автономиям (Абхазии и Южной Осетии).
Ответственность за новый курс Грузии взяли на себя круги, приближенные к представителям грузинского национального движения. 28 октября 1990 года на первых многопартийных выборах в Верховный Совет Грузинской ССР побеждает блок «Круглый стол – свободная Грузия», который возглавлял советский диссидент, писатель и литературовед Звиад Гамсахурдия. Он же стал первым президентом независимой Грузии. Специфику происходившего проанализировали Заал Андроникашвили и Георгий Майсурадзе в статье «Грузия-1990: Филологема независимости, или Неизвлеченный опыт»:
К системному и рациональному осмыслению проблем постсоветского строительства образованный класс Грузии, как и все грузинское общество 1990 года, оказался не готов, избрав «филологический» путь. Проецирование национального мифа, выработанного филологическим дискурсом, в плоскость политических решений привело к весьма тяжелым последствиям, включая конфликты с этническими меньшинствами (C. 123).
То есть отсутствие практических знаний и опыта было замещено знаниями теоретическими, книжными:
В Грузии настал беспредел. Гамсахурдия, обращавшийся с министрами, как с прислугой, не признававший своего невежества в экономических, дипломатических и военных делах, не умел управлять (Рейфилд, 2017. C. 482)[26]26
Все яркие политики того остроконфликтного периода и в Грузии, и в Абхазии были не юристами или экономистами, а гуманитариями, в основном филологами: Звиад Гамсахурдия – писатель, переводчик, картвелолог; Мераб Костава – поэт и музыкант; Джаба Иоселиани – вор в законе, ставший востоковедом и преподавателем драматургии; Владислав Ардзинба – историк, востоковед; Станислав Лакоба – литератор и историк; Юрий Воронов – кавказовед и археолог.
[Закрыть].
Андроникашвили и Майсурадзе считают, что знания и опыт были подменены обращением к националистическим темам, мифам, дискурсам, сформировавшимся в грузинской литературе за многие годы нахождения в российском культурно-политическом поле и не имеющим к реальной стратегии развития государства никакого отношения. Возрастание национализма в позднесоветский и ранний постсоветский периоды сводилось к высвобождению, восстановлению национальной идентичности и обретению независимости, а значит, к началу построения нового суверена. Стремление к обретению независимости, с одной стороны, и сохранению влияния, с другой, обернулось цепочкой войн и столкновений, основанных и на процессе «удержания»: Россия старалась удержать в поле своего влияния бывшие советские республики, в том числе Грузию с ее советскими автономиями Абхазией и Южной Осетией, а сама Грузия – в противовес этому – стремилась к независимости и противостояла сепаратистским настроениям в Абхазии и Южной Осетии, подогревавшимся из Москвы. В случае с Россией, по мнению Гайдара, этот сложный процесс «удержания» бывших территорий других советских республик являлся проявлением «фантомных болей» империи. Но я отталкиваюсь от точки зрения, связанной с образованием «нового» суверена не только в лице Грузии, но и в лице РФ – вспыхивание межэтнических конфликтов также было шагом к обретению суверенитета:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































