Текст книги "Политика и литературная традиция. Русско-грузинские литературные связи после перестройки"
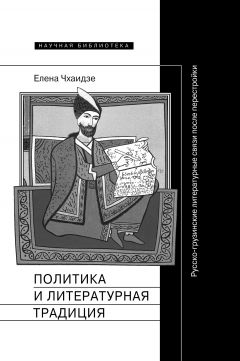
Автор книги: Елена Чхаидзе
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
2.3. Ревизия пространства
Я вспоминаю карту, сверху вниз:
Эстония, Литва,
здесь город Минск,
Молдавия сиреневым пятном,
и Латвию я не забыл,
потом —
Казбек, Эльбрус,
хребтов последних цепь,
с которых мне видны леса,
и степь
на севере развернута, как сцена.
А там – Арагви…
Арагви, листопад…
И не могу представить карту Грузии:
мгновенно
я забываю карту,
и в мозгу
пульсирует Арагви и поет
Кавкасиони голубая вена.
Перемоделирование бывшего советского пространства не осталось без внимания не только историков, политологов, культурологов, но и писателей. Часть ученых обратилась к ставшим модными постколониальным исследованиям. Многие пытались ответить на вопрос: можно ли применить постколониальные/постимперские штудии к постсоветскому пространству?
Изначально причиной обращения к постколониальным исследованиям стала книга Эдварда Саида «Ориентализм» (1978), в которой автор проанализировал отношения западноевропейских стран с их ближневосточными, мусульманскими колониями и ввел понятие Ориента – не географического, а особенного культурно-политического пространства. Благодаря Ориенту Запад конструировал свой образ и пытался разобраться в себе. В этом есть сходство с ролью Грузии и Кавказа XIX века для Российской империи, но применять конструкцию Запад – Ориент к странам нашего исследования без многочисленных оговорок является нецелесообразным. Во-первых, Грузия занимала особое место на Востоке, так как являлась единственной его православной христианской страной, а в Средневековье – самой мощной державой Востока; затем она потеряла большую часть своей территории и населения из-за персидско-османских набегов. Во-вторых, Грузия – страна более древней культуры и истории, чем Россия, также страна раннего христианства и обладает собственной оригинальной письменностью и языком. В-третьих, роль самой России как «белого» цивилизатора из-за проблем самоидентификации и «вторичности» спорна. Российская империя XIX века пыталась копировать своих западных соперников, в том числе покоряя Кавказ и Среднюю Азию:
Копируя полуосознанные и часто недопонятые ими западноевропейские дискурсы, российские офицеры, покорявшие Кавказ или Среднюю Азию, вне всякого сомнения, имели свое искаженное представление о бремени белого человека, в какой-то мере можно сказать, что они играли в спектакле, притворяясь британскими офицерами в Индии и Африке, но, вместе с тем, сожалели о том, что им выпало воевать в диких местах (Тлостанова, 2004. C. 57).
На сложность определить роль России как Запада обратила внимание индийский русист Кальпана Сахни (Kalpana Sahni) в книге «Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonization of Caucasus and Central Asia» («Распиная Восток. Российский ориентализм и колонизация Кавказа и Средней Азии», 1997). Она пришла к выводу, что Россия, заимствовав ориентализм у Запада в процессе петровских реформ, была гораздо более радикальной, чем, скажем, Великобритания в Индии, поскольку «стремилась не только и не столько к экономической власти, сколько к полной ассимиляции покоренных ею народов, что привело к тяжелейшим последствиям для их существования» (см.: Лысенко, 2009. C. 76). Другой проблемой было то, что покоряемые народы даже на этих «азиатских» территориях были трудно определимы в расовом, этническом и религиозном смысле, в то время как сами офицеры часто обладали нерусскими фамилиями и потому вряд ли могли в полной мере проходить по ведомству абсолютных носителей славянской и православной культуры. Как известно, говорить по-русски у знати в том же XIX веке считалось дурным тоном, поскольку это был язык простонародья (Тлостанова, 2004. C. 57).
Альтернативой спорному и не подходящему противопоставлению Восток (Ориент) – Запад служит модель Север – Юг. В свое время Макс Вебер, разрабатывая дихотомию Север – Юг, обращался к протестантскому Северу (Европы) и к Югу, под которым подразумевался католический, мусульманский и прочий Юг. Он писал, что Юг включил в себя некоторое культурологическое и геополитическое сходство с понятием «Восток» (см. в: Burchardt, 2009. C. 105). Но Грузия – не католическая и не мусульманская страна.
И здесь вспоминается исследование антрополога и филолога Роберто Даинотто. В книге «Europe (in Theory)» (2007) и в ряде ранних статей (например, «A South with a View: Europe and Its Other», 2002), описывая особенности структуры и взаимоотношения внутри Европы, он продолжил разработку дихотомии Север – Юг и противопоставил север и юг Европы, исходя из принадлежности к глобальному Северу и глобальному Югу. Основываясь на постколониальных исследованиях, Даинотто обращается к Европе XVIII–XIX веков, изучая ее «других» не со стороны, а изнутри. Согласно исследователю, южным европейским странам свойственны иррациональность и коррумпированность, основанные на клановости, а северным странам Европы – рациональность и развитое чувство долга. Анализируя несколько эпох, Даинотто замечает, что существует определенная связь, подталкивающая к постоянному обращению Севера к Югу; причиной этому оказалась травма, спровоцированная разрывом между Севером и Югом, и тогда же Юг превратился в европейского Иного (Dainotto, 2002. P. 383).
Даиноттовская модель «Север – Юг», на мой взгляд, наиболее близка к отношениям «Россия – Грузия». В ее пользу говорит и то, что если у саидовского Ориента не выделялось ни религиозного, ни исторического сходства (имею в виду – до процесса самой колонизации), то у России и Грузии до политических отношений уже существовали церковные/духовные и культурно-литературные связи, которые укрепились в советский период, создав к тому же не только релевантные власти дискурсы, но и «рассадники» критических взглядов на главенствующий политический строй.
К такой картине «вторичного ориентализма» (Тлостанова) применим термин «южизм», а не «ориентализм», где Россия выступает как вторичный бедный Север. Определение «бедный Север» выросло из современных теорий о богатом Севере и бедном Юге. Под Севером подразумеваются богатство, «белая кость», власть, а под Югом – экономическая, социальная, гендерная, экзистенциальная несвобода и зависимость (Тлостанова, 2012. C. 98).
Тему России как бедного Севера развил философ и политолог Дугин. Причины бедности он видит в верности традициям, духовности и высшим трансцендентным ценностям, о которых позабыли на Западе: «Бедный Север должен быть духовен, интеллектуален, активен и агрессивен» (Дугин, 1996. C. 135). Если говорить об агрессивности, то известно, что после распада СССР Россия (бедный Север) продолжила агрессивную имперскую политику. Объяснения агрессии давались разные: стремление к реализации социально-культурного проекта «русского европеизма» как единственной альтернативы российскому, а значит, мировому катаклизму (Кантор, 2008. C. 493); «фантомные боли» империи, подобные болям после ампутации ноги у человека (Гайдар, 2006. C. 8). Понятие «бедный Север» близко в определении России.
Назвать Грузию бедным Югом, исходя из первоначальных смыслов, тоже не получается. «Ось сместилась», и Грузия, несмотря на свое географическое положение южной страны, стала вести себя так же агрессивно, как бедный Север. Подтверждением тому служат военные действия Грузии, направленные на удержание Абхазии и Южной Осетии в поле своего влияния. В некоторых современных исследованиях стали даже говорить о постимперском синдроме и синдроме «малой империи» (А. Сахаров)[48]48
Как замечает Владимир Малахов в своей книге «Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций»: «…взгляд на Грузию как на мини-империю в 1992–2008 годах был широко распространен в Сухуми и в Цхинвали, но его категорически не принимали в Париже и Лондоне (не говоря уже о Тбилиси) – в том числе те, кто считал „мини-мперией“ современную Российскую Федерацию» (Малахов, 2014. С. 11). Автор ссылается на «полемику с западными коллегами, рассматривающими современную Россию как последнюю „мини-империю“», в статье: Тишков В. А. Забыть о нации // Вопросы философии. 1998. № 9.
[Закрыть].
Отношения Грузии и России не следует буквально рассматривать в рамках постколониализма. Модель связей более сложна, и если роль России определяется как роль бедного Севера, то роль Грузии двояка: бедный Юг – по отношению к России, а бедный Север – по отношению к бывшим советским автономиям. Во всем контексте прослеживается имперская парадигма: Российская империя переродилась в СССР, ставший особым типом империи, о чем писали Терри Мартина (Martin, 2001), Дэвид Ч. Мур (Moore, 2001), Мадина Тлостанова (2004), Францине Хирш (Hirsch, 2000, 2002), а после распада СССР имперские настроения проявлялись и у его осколков – бывших советских республик.
2.4. Постимперские карты «на практике»
В постсоветские десятилетия знакомство с «новыми» постсоветскими территориями остается приоритетной причиной путешествий, и жанр путешествия в Грузию занимает первенство по привлекательности для писателей, оставаясь чуть ли не основным в произведениях, написанных на русском языке. В текстах на грузинском тема путешествия никогда не была ведущей, и в современной литературе я не встретила «путевых заметок» грузин из поездок по России, поэтому речь пойдет в первую очередь о произведениях, написанных на русском. В культурной памяти советской интеллигенции сложился образ Грузии как части единой советской геокультурной модели: своя дружелюбная, гостеприимная, благополучная, солнечная страна с красивым ландшафтом, мягким климатом, с древней историей, культурой, архитектурой. Такой ракурс уходит в имперские времена, в произведения Пушкина и Лермонтова, благодаря которым наиболее ярко проявлялась дихотомия восток – запад (Ram, 2003. P. 23). Политические изменения последних лет перевернули отношение к понятию «своя Грузия». Перед читателем предстала и иная страна.
В постсоветский период приезд русских писателей стал носить отчасти иной характер: причиной приезда были не бегство, ссылка или служебные задания, а только социальные и дружеские контакты. В первые десятилетия (1990–2000-е) из России в Грузию приезжали очень редко, а из Грузии в Россию практически не ездили. С одной стороны, из-за социально-экономического кризиса, с другой – из-за политических преград. Это повлияло и на литературно-культурные связи. «Паломничество» имперского и советского периодов переродилось в редкие посещения. Писатели не были чиновниками, как когда-то в XIX веке, а являлись представителями мира литературы.
Особенностью авторов, обратившихся к теме Грузии, является возраст. Они – так называемое советское поколение, то есть получили образование в советской школе, в которой акцентировалось особое место Грузии в контексте русской культуры. Цели приезда писателей и представителей мира культуры в Грузию были разными, но впечатления от увиденного – зачастую схожими. Это отпечаталось на сюжетных линиях произведений. Основным нарративом становится противопоставление «до» (советский период) и «после» (постсоветский). Иллюстрацией к перелому впечатлений могут быть практически все произведения постсоветского периода. В большинстве случаев основу сюжетов составили личные воспоминания, включившие размышления авторов-рассказчиков и даже документальные факты. В части постсоветской литературы о Грузии продолжилась имперская литературная традиция обращения к ней как к романтизированному Югу, то есть акцентировалось внимание к природе и располагающей атмосфере. Например, рассказы Владимира Лаврова «Путь в Грузию» (1986)[50]50
В тексте приводятся воспоминания автора-рассказчика о советском периоде, когда он – ленинградец – постепенно открывал для себя Грузию. Первое знакомство произошло через песню «Сулико», часто звучавшую по радио в послевоенные годы. Затем он вспоминает университетские лекции П. Н. Беркова о грузинской литературе, а затем уже состоялось личное знакомство с южной республикой. Писатель приводит знакомый ряд, который помог сформировать для него образ Грузии в сознании советского интеллигента, и связан этот ряд с культурой: песня «Сулико», поэма Лермонтова «Мцыри», символическое для русско-грузинских отношений слияние Арагвы и Куры, село Цицамури, около которого убили Илью Чавчавадзе, Важа Пшавела, фильмы Тенгиза Абуладзе, упоминаются художник Ладо Гудиашвили, писатели Борис Пастернак, Галактион Табидзе, Отар Чиладзе, Чабуа Амирэджиби, не обходится без традиционного описания дружеских посиделок в Грузии и рассказов-воспоминаний о людях, значимых для русско-грузинских отношений (см.: Лавров В. Путь в Грузию // Нева. 1986. № 11. C. 71–81).
[Закрыть] или Евгения Гришковца «Три текста о Грузии»[51]51
Российский драматург, актер, режиссер и писатель Евгений Гришковец (1967 г. р.) обращается к рассказу о путешествии со своим другом в Грузию 11–13 февраля 2011 года. Как и для многих русских писателей, Грузия воспринималась им в традиционно-романтическом ключе: особый дух и архитектура города, неповторимые грузинские застолья, кухня, многоголосье и культура. Это особое культурное советское наследие, часть его родины – СССР: «Грузия входит в чувственное понятие Родины. Грузия даже до того, как я в ней побывал, уже входила в территорию любви. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов очень помогли. Отец солдата, певчий дрозд, пастораль, три смешных грузина, которые рисовали разметку на дороге, Мимино, мадемуазель Пастик в исполнении Софико Чиаурели, красавец пастух в исполнении совсем не грузина Зельдина, влюбленный в свинарку, на чьем месте наверняка хотели быть наши бабушки, Бенджамен Глонти из Не горюй, юная красавица из Небесных ласточек, Абдулла из Белого солнца пустыни, сержант Кантария, Багратион, Дато Туташхиа (помню, с каким трудом я старался запомнить фамилию замечательного грузинского актера Отара Мигвинитухуцeси), граф Калиостро с огромными грузинскими глазами (дублированный армянином Джигарханяном), и еще целая вереница знакомых с самого детства лиц и имен, вплетенная в нашу жизнь, с самого детства, где бы мы ни жили – на Камчатке, в Крыму, Мурманске или Караганде. Никакому итальянцу, американцу или японцу все мною перечисленное не скажет ничего. Это наше. Не грузинское, не российское, не советское, а наше» (http://odnovremenno.com/archives/51).
[Закрыть]. «Карта» приоритетов в отражении постсоветской Грузии выглядит по-разному: в одном произведении она воспринимается как южная культурная столица Российской империи XIX века, неожиданно ушедшая на задний план из-за постсоветских войн, в другом она стала одной из горячих точек вспыхнувшей «карты» Кавказа, а в третьем – автор старается, насколько возможно, отстраниться от постсоветских перипетий и останавливается на Грузии как на обособленном и независимом мире[52]52
Я уже обращалась к образу нитки и иголки (факт путешествия как иголка и миф о Грузии-рае как нитка), ментально и эмоционально укреплявшим культурно-литературную связь между русскими и грузинами, затем осевшую в культурной памяти. Сейчас я буду говорить об иголке-путешествии как об инструменте и о писателях, открывающих читателям постсоветские изменения, происшедшие на бывших территориях СССР, а также моделирующих свою территорию увиденного.
[Закрыть].
Деконструкция образа Грузии наглядна в произведениях Александра Вяльцева (1962 г. р.) – художника, поэта, издателя, который был активно вовлечен в жизнь советских хиппи и часто путешествовал по СССР. С Грузией связаны «Люди из ущелий: Записки бродячего человека» (1998) и роман «BLUE VALENTINE: История одной любви» (2000). Произведения отличает непривычность/нетрадиционность зафиксированного автором-рассказчиком. «Записки…» были написаны в 1986–1998 годах. Маршрут Вяльцева и его друзей-хиппи (Багиры и Шурупа) пролегал из Москвы на юг: Сочи, Краснодар, Пицунда, Тбилиси, Ереван, Баку, Нахичевань, Севан, Махачкала, Ингушетия, Дагестан. Интересующие меня картины Грузии приходятся на мирное время[53]53
Лишь в конце текста упоминается военная Абхазия, но об этом позже.
[Закрыть]. Жанр путешествия-приключения служит для рассказчика инструментом передачи впечатлений от увиденного. Придерживаясь имперской литературной традиции романтизации Грузии, он концентрирует внимание на архитектуре и особенностях Тбилиси, его магазинчиках, аптеках, древних христианских храмах и крепостях (Сиони, Метехи и др.):
Это удивительный по архитектуре город, где вкус виден даже в самых ординарных постройках. Плюс специфический стиль. Плюс специфический климат. История и природа создали этот южный город, до сих пор пощаженный в своей уникальной средневековой хаотичности, со скрытыми от глаз внутренними дорогами-лестницами, лоджиями, галереями, балконами, на мостовые под которыми «никогда не падает дождь» (Вяльцев А. Люди из ущелий. 1998. C. 86).
Сами грузины представляются автору «культурными и добросердечными». Привычные для любителя русской литературы романтические описания заканчиваются не просто грустными личными параллелями рассказчика, связанными с веселым прошлым, друзьями и путешествиями, а грустным настоящим: трагическими судьбами друзей-хиппи и упоминанием об исчезнувшем старом мире. Автор вводит несколько слов, которые эмоционально выбивают читателя из романтического контекста. Это страшное упоминание о том, что «…в годы грузино-абхазской войны в „третьем“ ущелье был абхазский концлагерь. Говорят, что с пленными обращались крайне жестоко. А теперь кто-то уже вновь рвется туда загорать. Не могу представить, как это кайфовать в бывшем Освенциме?» (Там же. C. 95). Картины веселой молодости сменяются изображением постсоветской реальности, старый уклад остался в прошлом.
Нарратив «иная Грузия» явен в следующем произведении, в романе «BLUE VALENTINE. История одной любви» (2000), где постсоветская страна предстает новым неизвестным и шокирующим миром. Главный герой романа – писатель и журналист Захар, приехав в Тбилиси и Батуми, где бывал в советские времена, тридцать лет назад, сталкивается с иным миром, который он не знал. Социально-бытовые проблемы 1990-х годов превратили ее в нищую страну:
Ободранный серый город. Мало людей. Отсутствие уличной жизни. Нищета и неблагополучие, бросающиеся в глаза, действовали, как холодильник. При плюсовой температуре Захару стало холодно (Вяльцев А. BLUE VALENTINE. 2000. C. 74–75).
В основу описаний лег личный опыт пребывания в стране. Автор старается передать информацию о неожиданных для него социальных проблемах, бросившихся в глаза: почтовая связь почти не работает, нет тепла и электроэнергии, чай пьют из термоса, еду подогревают на спиртовке, общественный транспорт почти не работает. Друзья описывают Захару современные Батуми и Тбилиси:
Стали рассказывать про свой город. Он считался спокойным: аджарский властелин Абашидзе охранял границы российскими пограничниками. Снаружи же – грабили, останавливали поезда. Поэтому жили изолированно. В Тбилиси было еще хуже и страшнее. <…> Два года уже они худели и «здоровели». Продавали вещи. В квартире изо рта шел пар. Вечером с проживающей у них веселой 72-летней «тетенькой», спасенной из Тбилиси, Захар раскладывал пасьянс и спорил о религии (она неверующая, но чтила экстрасенсов и летающие тарелки). Сидели за пустым столом – одетые, завязанные в платки, словно эскимосы в чуме. Ночью он спал во всей одежде (Там же. C. 75–76).
В 1990-е годы в Грузии путешественник не увидел ни вина, ни былых грузинских застолий[54]54
Подобные описания быта современный читатель встретит и у Василия Голованова (1960 г. р.) в сборнике рассказов «Лето бабочек»: «В Тбилиси не было ни света, ни отопления, ни горячей воды, младенца купали в холодной и сразу заворачивали в горячие пеленки» (см.: Голованов В. Лето бабочек // Новый мир. 2009. № 4. C. 10–44, рассказ «Волшебный рог Вахушти»).
[Закрыть]. В произведениях Вяльцева происходит изменение традиционного нарратива: Грузия процветающая превращается в обнищавшую. С «карты путешественника» 1990-х годов Грузия как курорт или как место отдыха исчезла.
Чьи это были бомбы? Разобрать было невозможно. Ощущение ирреальности происходящего, ощущение, что это не должно было случиться, оказалось самым сильным. Но это случилось. Империя распадалась.
Горюхина, 2000. С. 10
Грузия и другие республики Кавказа и Закавказья становятся жертвой российских имперских амбиций постсоветского периода, пунктами горя и травмы в очерках «Путешествие учительницы на Кавказ» (2000) и книге «Не разделяй нас, господи! Не разделяй…» (2004) Эльвиры Горюхиной (1932 г. р.), в прошлом учительницы русского языка и литературы, журналистки, а ныне профессора Новосибирского государственного университета, награжденной премией им. А. Сахарова «За журналистику как поступок» (2002). В отличие от Вяльцева, она не просто турист-наблюдатель, знавший Грузию периода расцвета, а потом увидевший последствия независимого существования, она – представительница советской интеллигенции, ставшая участницей постсоветских событий, связанных с горячими точками: «Для Горюхиной Кавказ – это судьбы его матерей и сыновей, это всеобщая трагедия» (Журавлева, 2008. С. 7). Художественные произведения Горюхиной о Кавказе критики ставят в один ряд с «Севастопольскими рассказами» Толстого (Шейхова, 2010; Руденко, 2004). Автор-рассказчица ломает традиционный образ имперского путешественника, восторгающегося экзотикой юга. Она оказалась единственной из российских писателей, внедренной в ход войн и взявшей на себя задачу фиксировать по горячим следам происходящее, а также записывать размышления местных жителей Кавказа и Закавказья о своей участи, об отношении к своему историческому прошлому и будущему, к проблемам, последовавшим за обретением независимости. «Путешествие…» – это художественный текст, основанный на документальном материале. Смелость писательницы заключалась в протестном противостоянии информационному потоку официальных российских СМИ, обрушившемуся на неосведомленного обывателя (Рева, 2015. C. 210) за пределами горячих точек. Путешествие включило в себя посещение Грузии (Тбилиси, Зугдиди, Сенаки и др.), Нагорного Карабаха, Чечни и Дагестана. Книга состоит из следующих глав: «Чем спасемся?» (о войнах и поствоенном синдроме в Грузии), «Нагорный Карабах» (о конфликте между армянами и азербайджанцами), «Место жительства – война» (о войне в Чечне), «Накануне» (о напряжении в Дагестане). Повествование о Грузии, начиная с января 1992 года, пропитано тревогой и болью. Горюхина сосредотачивается на городских картинах и на биографических случаях очевидцев войны. Типичными для Тбилиси тех лет были не картины благополучия, а люди с автоматами, множество беженцев, сгоревшие дома, взорванные мосты.
В середине января 1992 года Тбилиси был не похож на себя. «Что сегодня случилось в Тбилиси?» – эта строчка из стихов Заболоцкого не давала покоя. И хотя было ясно, что идет война, глаз не мог смириться с тьмой, в которую был погружен один из прекраснейших городов мира (Горюхина, 2000. C. 14).
Отталкиваясь от культурной памяти советской интеллигенции, писательница сосредотачивается на воспоминаниях о традиционных достопримечательностях, которые связывали русских и грузин (проспект Руставели, дом Сергея Параджанова, Мтацминда), а затем выстраивает мост между прошлым и настоящим, а настоящим является аэропорт, из которого летели в горячую точку. В сознании автора-рассказчицы, близко дружившей с самыми яркими деятелями грузинской культуры (Резо Чхеидзе, Тенгиз Абуладзе, Отар Иоселиани, Эльдар Шенгелая, Нодар Думбадзе, Отар Чиладзе), не укладывался факт появления иных грузин:
…еще в мае 1991 года, когда Грузия выбирала своего первого президента, я увидела грузин какими-то другими. Увидела их не в тот час, когда они творят миф о самих себе в грузинском застолье. Это были как будто те же самые люди, но что-то другое проступало в чертах знакомых лиц (Там же. C. 9).
Впечатления от увиденного и роль автора приводят к мысли об изменении традиционной ориенталистской концепции, восходящей к XIX веку, в которой «колонизатор», приехав в «провинцию», восторгался ее красотами. Военно-политические столкновения продемонстрировали одну из граней метаморфозы, случившейся с бывшим «колонизатором»: раздвоение образа на разрушителя (официальные власти) и сочувствующего помощника слабым (русская интеллигенция). Сочувствующий сосредоточился на главной гуманитарной катастрофе Кавказа: детях и беженцах, потерявших дом. Главным мотивом всех поездок Горюхиной было стремление помочь детям, оказавшимся в зоне боевых действий, друзьям («там моим друзьям плохо»), а также письменная фиксация увиденного. Публикация отрывков из детских сочинений и воспоминаний детей должна была стать главным упреком политикам. Одним из горьких подтверждений травмированности детских душ стал сюжет о посещении цирка. Здесь рассказчица столкнулась с особыми характеристиками переживших войну и живущих во время обстрелов:
Переполненный детьми цирк явил странное и жуткое зрелище. Я впервые в жизни столкнулась с молчащими детьми.
<…> По фойе, освещенному единственной свечой, водили на поводке тигра. Дети подходили к тигру, как к кошке, – никакой боязни. <…> Детское молчание вынести невозможно. <…> Так я впервые столкнулась с молчащими детьми. Это лишило меня покоя. Что же стоит за этим недетским молчанием? Что? <…> И я видела собственными глазами, как сгибаются и стареют дети под тяжестью горя (Там же. C. 15–16).
После войны в Абхазии возникло общество мечущихся и молчащих людей, пораженных культурной травмой (Alexander, 2004. P. 1; Штомпка, 2001. P. 8). Молчащие дети, молчащие мужчины, картины с гробами детей, автоматические и повторяющиеся действия, связанные с реальностью, которой уже нет, то есть проекция действий прошлого в настоящем:
Человек существует без желаний, надежд, без адекватной реакции на происходящее. Не все беженцы таковы. Далеко не все. Некоторые, наоборот, развивают гиперактивность, чтобы создать для себя и окружающих ощущение новой жизни. Хатуна упорно ищет постельное белье, которого нет. Судорожно достает кружку для чая, которого тоже нет. Наконец оставляет поиски и, словно окаменев, садится на постель. Все! Больше ничего нет! Ничего! Есть только горе (Горюхина, 2000. C. 47).
Не только тема травмы, но и тема потери становится лейтмотивом «Путешествия…». Дети-беженцы из Абхазии говорили о потере родителей и дома. Например, в главе «Дети Кодорского ущелья»:
В этой страшной войне я потеряла самое для меня дорогое – маму. Я ее потеряла, когда был самый сильный момент, и она была мне нужна. Кроме мамы потерялся старший брат. Он воевал и погиб. <…> Наши души растоптаны. Майя Гуджеджиани. 13 лет (Там же. C. 39).
Или:
Я тогда училась во втором классе, когда началась братоубийственная война между абхазами и грузинами. Это была болезненно придуманная война. До сегодняшнего дня мы не видим конец мучениям людей. Голодные и босые люди разбросаны за пределами своей родины. Мне, беженке, желаемым остаются мой дом и моя школа. Я не воспринимаю своей школу, в которой учусь. Софико Чаплиани. 11 лет (Там же. C. 40).
Писательница также приводит историю грузинки Медико, которую после войны одолевали странные наваждения и она, находясь уже в Москве, постоянно стремилась вернуться в свой дом, не веря, что его нет. Автор как свидетельница войны пишет о том, что горе конфликта ощущалось с первой секунды: «Оно – в глазах женщин, детей и стариков» (Там же. C. 14).
Содержание «Путешествия…» описывает не только метаморфозу роли «колонизатора», но и изменение самой «периферии». Стремление к независимости и переформатирование модели «центр – периферия» в модель «центр – центр» не обходились без войн, которые стали идентификаторами Кавказа и Закавказья, в том числе и Грузии, первого постсоветского десятилетия. Нарратив путешествия на войну стал неотъемлемой частью темы путешествия в Грузию.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































