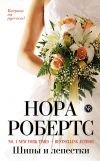Читать книгу "Джек, который построил дом"

Автор книги: Елена Катишонок
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Выпускной класс оказался той же привычной школьной рутиной, однообразно тянувшейся десятый – последний – год. Ян не боялся предстоящих экзаменов не потому, что был уверен в своих знаниях, а от навязшей в зубах скуки, которая сопровождала его на протяжении всей школьной жизни. Рисовал он что-то странное, редко доводя до конца начатое, никогда не зная, что получится, но карандаш тянулся к бумаге, как рука к сигарете. Четко прорисованное человеческое ухо становилось темным, густо заштрихованным входом в туннель.
– Это что? – спросил озадаченный Миха.
– Ничего, – Ян пожал плечами, – так…
Он сам не сразу догадался, что темный графитовый туннель больше всего напоминает ему школу, где единственным светлым пятнышком сохранился в памяти день, когда он стоял перед женщиной в пестром платье и доказывал, что Лев Николаевич Толстой – детский писатель.
Занятия с Анной Матвеевной продолжались – предстояло выпускное сочинение.
«Ты должен обложиться книгами и сидеть, не поднимая головы!» – твердила мать.
Он не может сосредоточиться, потому что все время отвлекается, мучилась Ада, вспомнив свой неудачный поход в домоуправление насчет стенок в комнате. Почему, действительно, так сложно разделить это футбольное поле в виде комнаты, разве я многого требовала? Недавно случайно услышала разговор на работе, как мать лаборантки что-то там сделала с балконом: то ли решетку поставила, то ли застеклила, вся работа частная, что особенно подчеркивалось. В Адиной голове засело слово «частник» и начало обрастать привлекательными перспективами. Виделся частник, похожий на сапожника в угловом подвальчике, только вместо подметок его окружали строительные материалы: доски, краски, кирпичи; стену подпирала стремянка. Объяснить такому дядьке, что от него требуется, было бы просто, тем более что он материально заинтересован как частник и по той же причине сделает быстро, домоуправление очухаться не успеет, да и знать им не надо при таком отношении. Дело упиралось в чистый пустяк – найти такого частника; да хоть у той же лаборантки спросить.
А пока не проходило дня, чтобы она не повторяла свое «обложиться книгами и сидеть, не поднимая головы», что веселило брата. «В смысле задницы, – подмигивал он Яну, – как она всю жизнь сидит». Ада взрывалась немедленно: «Что ты несешь? Он еще не знает, куда подавать, а ты…» – «На физмат, конечно, куда еще? С его головой – только на физмат», – уверял Яков. «Обложиться…» – опять начинала Ада, но брат перебивал: «Облажаться! Д-дура…»
Что будет дальше, Ян знал: они будут орать друг на друга, потом устанут и закурят, лениво огрызаясь. Иногда примиряла музыка. «Эт-т, дура, – бормотал Яков, ставя пластинку, – послушай лучше, как он исполняет…» Оба затихали. Время от времени мать роняла какое-то замечание; не дослушав, Яков взрывался:
– Да ты знаешь, что такое контрапункт?
– Я сдавала теорию музыки! – возмущалась мать. – И музлитературу тоже, между прочим.
– Э-э, сдавала она, – махал рукой Яков. – И что тебе дала твоя музлитература, что?
– А то, что твой Бах консервативный композитор, и больше ничего! Он церковную музыку сочинял, и я вообще не понимаю…
– Постыдись, д-дура… Заучила, как попугай: «консервативный», «церковная музыка». Нашла кого слушать – учебники. Эт-т… дура. Ксенька вон, – он кивал в сторону кухни, – смышленее тебя: хоть ерунды не говорит.
Ксения с любопытством посматривала на Якова и однажды, заметив у него в руках только что купленную пластинку, отважилась: «Это вы такую же купили, как в тот раз? Ну, на прошлой неделе?» – «Почему? – недоуменно вздернул бровь Яков. – То был Григ», – и поспешил в комнату, дивясь вопросу. Ксения кивнула уважительно, хотя была уверена: такую же; и вся музыка у них одинаковая, похоронная. Мыслью этой, за неимением более подходящей аудитории, поделилась с Бестужевкой.
Перед тем как поставить пластинку (новую, только что купленную, или старую), Яков становился неузнаваемым. Обычно был неряшлив: стаскивал рубашку, расстегнув только верхние пуговицы, чтобы скорее напялить в утренней спешке; мог надеть рваные носки сомнительной свежести; в карманах пиджака, в портфеле держал колонию затвердевших, как гипс, серых носовых платков… Своей пышной темной шевелюрой Яков гордился и расческу носил в верхнем пиджачном кармане, как другие носят авторучки. С пластинками сразу менялся: тщательно мыл руки, вытирая по отдельности каждый палец, словно хирург перед операцией, отшвыривал полотенце и благоговейно извлекал черный диск из конверта, придерживая за края. Ставил на проигрыватель, включал – и сидел, весь уйдя в музыку, заменявшую ему стенку, о которой мечтала сестра. Яков слушал – и все, кроме музыки, переставало для него существовать.
Горе той женщине, которая осмеливалась позвонить в это время.
Ада тоже слушала, но с вязанием в руках, пока брат однажды не выхватил яростно спицы и не швырнул за шкаф.
Правда, на концерт он неизменно приносил два билета, себе и сестре. Как-то позвал Яна: «Пойдешь?» В тот раз Эмиль Гилельс играл Шопена. На обратном пути Ада допытывалась: «Тебе понравилось?» Ян не умел говорить о музыке. Когда слушал, с ним происходило что-то необъяснимое, и чтобы рассказать, нужен был особый язык, которого он не знал, и не знал даже, существует ли такой язык в действительности. «Жалко, что ты не захотел учиться скрипке, – с укором обронила мать. – Ах, какая была возможность! Ну да ты маленький был, не помнишь».
Неправда: помнил. Это было весной, перед тем как он пошел в первый класс. Мать пришла домой с какой-то женщиной. В руках у гостьи была фигурная коробка с блестящими замочками. Когда пришел с работы Яков, все трое начали уговаривать Яника: подумай, как это замечательно – играть на скрипке. Яков вынул скрипку из футляра. Она выглядела совсем детской, какой, в сущности, и была. Подкрутив что-то, он взял несколько нот. Это прозвучало так… удивительно, что Янику стало страшно: он так никогда не сумеет, никогда. Хотелось дотронуться до чудесной вещи, но ему не позволили. «Ну, хочешь учиться?» – настойчиво спрашивала мама. Так сильно хотелось, что не получалось сказать «хочу» и вообще ни слова не мог из себя выдавить, даже «до свидания», когда хозяйка скрипки собралась уходить. «Какой он у вас бука», – сказала женщина. Больше она ни разу не появлялась. А если бы и появилась? В тот единственный раз он успел тайком коснуться холодного замочка футляра. Вот и все. Больше никогда про скрипку не говорили, только порой мать жаловалась: была возможность и скрипка нашлась, а ребенок отказался; такая жалость… Она нередко пеняла: «Ты еще в детском садике был букой, мне так и говорили: бука он у вас, недружелюбный».
…Дома после концерта Яков часто вытаскивал пластинку: «Послушай эту запись и сравни». Послушать до конца не получалось – мать вклинивалась в музыку торжествующим уверенным голосом: «У Рихтера этот кусок лучше». Дядька сатанел. Дальнейший сценарий Ян знал и старался тихонько ускользнуть.
7
Он часто уходил из дому, прихватив фотоаппарат. Инструкцию к ФЭД-2 (про себя он называл его «Федькой») читать было намного интереснее, чем учебник по химии. На скамейке, согретой весенним солнцем, сидел усатый обрюзглый алкаш, елозя ногами по гравию. Старушка, укутанная в несколько платков, уместилась на другом конце, подальше от опасного соседства. На втором этаже дома напротив сквера были распахнуты окна. Полная молодая женщина мыла их, и солнце, отражаясь в невидимых промытых стеклах, ослепляло, пуская зайчики на сидящих. Алкаш недоуменно моргал.
Ян быстро «расстрелял» оставленную отцом пленку – фотографировать ему понравилось. Дальше дело застопорилось: обрабатывать пленку было негде, пока он не встретил Саню. Познакомились они на холодном пустом взморье – до открытия сезона было далеко. Невысокий русоволосый паренек в очках нес на плече такой же фотоаппарат, как у Яна. Саня учился в соседней школе, тоже готовился к экзаменам, а вечерами ходил в фотолюбительский кружок, располагавшийся в подвале домоуправления. При слове «кружок» Яну сделалось скучно: слово навевало тоску. Выяснилось, однако, что никого, кроме Сани, в кружке не было – приходи, проявляй, печатай.
На фотографии алкаш вышел с закрытыми глазами, словно спал сидя, с торчащим из кармана горлышком бутылки. Снимок изумил Яна: вроде тот же мужик и та же скамейка, но… лучше. «Четко», – Саня кивнул одобрительно: более высокой оценки у него не было. «Смахивает на Маркеса, правда? – добавил. – Только Маркес моложе». Имя было незнакомое. Название «Сто лет одиночества» заворожило. Саня принес прошлогоднюю «Иностранку», пухлую, как разношенный башмак, и Ян погрузился в роман, как в омут. Он ничего похожего не читал, и потрясла его не буйная, сочная любовь, а то, что незнакомый человек ощущал одиночество так же глубоко, как он сам. Он читал о древней нестареющей Урсуле – и неизменно видел при этом бабушку, хотя бабушке ведь только семьдесят три, но катаракта упорно не поддавалась лечению, хотя Ян приносил ей из аптеки желтые капли и видел, как из глаз ее текут желтые слезы; бабушка беспомощно улыбалась, промокая глаза платком. Урсула боролась за жизнь своего рода, как постоянно делает это бабушка; старуха Урсула видела, как ее потомки рождались и рождали, проживали, каждый в своем собственном одиночестве, свои непростые жизни и в одиночестве погибали, но не всем удавалось умереть. Слепая старуха, самая зоркая из всех… Он читал медленно.
Дома у Сани на стенах были прикреплены кнопками фотографии, другие он доставал из папки. Целующаяся пара у трансформаторной будки с нарисованной молнией; старичок-фотограф, жестом предупреждающий, что сейчас вылетит птичка, и вспорхнувший над его головой голубь… Несколько снимков девочки лет пятнадцати – вполоборота, в профиль, а вот она досадливо прикрывает лицо ладонью, но видно, что улыбается. Вечерний перрон с уходящим поездом – ярко-белые огни похожи на глаза; потом – уже знакомая девчонка с открытой тетрадью, но смотрит не в тетрадь, а в объектив.
Саня владел фотоаппаратом, как Миха – карандашом и кистью. Сам Ян тоже пробовал масляные краски, гуашь – после сочных красок Маркеса карандаша стало казаться мало.
Напрасно Ада тревожилась о «вертихвостках» – одноклассницы интересовали сына куда меньше, чем одинокие странствия по городу с фотоаппаратом или альбомом. Он возвращался от Михи пропахший скипидаром, с пятнами красок на пальцах. Дома рисовать удавалось редко: нужно было выжидать, когда все разойдутся.
…В тот день первым ушел на работу Яков, у зеркала торопливо красила губы мать и повернулась к двери, но потрясла пальцем, обернувшись: «Смотри! Завтра история». Хлопнула дверь. Ян уселся на подоконник, ожидая, пока уйдет в магазин бабушка. Тихо, без хлопка, снова закрылась дверь. Один! Он неохотно раскрыл учебник истории. Между страницами лежала фотография, которую Саня на днях отпечатал. Ян с удивлением смотрел на свое улыбающееся лицо, на руку с сигаретой; взгляд направлен прямо в объектив. Отложив учебник, долго рылся на нижней полке секции, где оседали ненужные бумаги, пока не наткнулся на коробку от какого-то подарочного набора: дно было ровное, белое и очень твердое. Сойдет. Быстро набросал эскиз и достал гуашь.
Он изредка смотрел на фотографию – рука знала каждый новый мазок, а потом остановилась. Яник улыбнулся и подписал внизу: «Завтра история».
С кавычками, как полагается.
Наступило завтра, со свежей белой рубашкой и с историей, и миновало, как уже остались позади многочасовое сочинение, математика, физика… Он открыл для себя химию самым простым способом – прочитал учебник накануне экзамена, благо книжка была тонкой, – и тоже легко сдал, к удивлению химички. В ту бессонную ночь ему открылась простейшая аксиома: школа скучна, наука бесконечно интересна. Раньше он думал, что это относится только к математике. Стала понятна Яшина нетерпеливость, с какой он вставал из-за обеденного стола, чтобы пересесть к письменному. В Яне появилась какая-то веселая уверенность, что теперь все пойдет иначе, все получится. Шелохнулся в душе соблазн поддаться на Михины уговоры: сунуться в академию, но азарт плохой советчик – его рисунок, он знал, намного слабее.
Документы отнес на физмат.
Саня уехал поступать в Москву – мечтал изучать французский, переводить Аполлинера, Рембо… Теперь Ян один бродил по городу.
Яков волновался раздраженно, сварливо; Ада – громогласно, Клара Михайловна – молча. Ян был спокоен: ушло, пропало чувство неизбежного провала, как в школе перед контрольной. Все должно получиться. Миха возбужденно рассказывал, какие композиции были на экзамене в прошлом году… два года назад… и вообще, скорее бы! Несколько раз звонил отец: уговаривал ехать в Ленинград, «иначе никакого толку…». «Можно подумать, из него самого толк вышел!» – негодовала мать.
«Скорее бы» наступило незаметно и быстро. Скупо отсчитанные листки на экзаменах, тишина с шелестом этих листков, растерянный голос какой-то девочки: «Меня тошнит…»
Яков успокоился: четверки по профилирующим – не дрейфь, проскочишь! И неожиданно взял отпуск, уехал в дом отдыха на взморье, куда раньше калачом его было не заманить, как язвила Ада, хотя почувствовала облегчение: совсем задергал ребенка.
Последний экзамен – сочинение – писали с Михой в один и тот же день, а вечером пошел дождь.
Он продолжался все утро следующего дня, и вывешенные списки поступивших, хоть и защищенные козырьком, набухли от влаги. Фамилии «Богорад» не было, как не было и Михеева Алексея в списке первокурсников художественной академии – оба недобрали баллов из-за сочинения.
Для Яна три балла были не в диковинку, но тройка у Михи, для которого и четверка-то была редкостью?! Миха, легко сдавший рисунок, живопись и композицию, а потому одной ногой уже студент… Ян вспомнил, как давным-давно на пляже шальной волейбольный мяч размозжил всмятку построенную крепость, превратив ее в бесформенную кучу песка.
…На требование показать сочинение Михе ответили отказом и назиданием: общеобразовательные предметы обязательны для поступления всем без исключения. Конкурс большой, как вы знаете, со всей республики приезжают абитуриенты. Сочинения показывать не имеем права; приходите через год, молодой человек. Взбешенный, он забрал документы, толкнул в последний раз тяжелую дверь, и она закрывалась долго, с издевательской медлительностью, когда он вышел под равнодушный дождь.
Они сидели в кафе, где почти никого не было, только за дальним столиком неподвижно горбилась мужская спина. На верхней губе у Михи светлела полоска сливок, и Ян вспомнил, как они с отцом сидели в этом кафе, только за другим столиком. Официантка стояла у приоткрытой двери во двор и курила; дым упорно вползал в помещение. Домой не хотелось. «В кино? – вяло предложил Миха. И сам ответил: – Не-а. Потому что фильм кончится – и как будто только что узнал…»
Улицы начали заполняться – люди шли с работы, спешили; две женщины, торопясь перейти на зеленый свет, столкнулись зонтами. Дождь лил четыре года, одиннадцать месяцев и два дня.
Материнскую истерику пресек Яков – изнурительный дождь выгнал его со взморья, и теперь он сидел за столом в ожидании ужина. «Завтра подаст на вечерний, угомонись», – бросил Аде. Племяннику подмигнул: «А художник твой уже в дамках?»
Известие о Михином провале взбодрило Аду.
– Ну и хорошо, что не прошел. Отучился бы пять лет, а потом его по распределению загнали бы в деревню писать плакаты «Сдадим богатый урожай».
Яков застыл с картошиной на вилке. Клара Михайловна недоуменно смотрела на дочь, Ян уставился в тарелку.
– Добрая ты, – хмыкнул Яков. – А что парня в армию загребут, ты подумала? Эт-т, д-дура! Ну дура и есть.
– Пусть об этом его мать и печалится, – парировала Ада. – Меня волнует судьба моего ребенка!
– Вот я и говорю, добрая…
После чего, взглянув на темнеющее дождливое окно, в котором отражался свет люстры, Яков перевел взгляд на мать:
– Я женюсь, мама.
…В дожде тоже можно жить, просто Ян не умел – он любил яркое солнце, тепло. Но в тот день именно дождь, по-хозяйски заполнивший мир со вчерашнего вечера, помог ему увидеть одиночество каждого в отдельности, словно наблюдал в темной комнате проявляемую фотографию. Печать одиночества была на лице Михи, когда он появился в дверном проеме готического здания, в торопливости Якова, в молчаливой суете бабушки, в постоянной занятости матери – лихорадочной, придуманной. Яков собрался жениться, чтобы вырваться из своего одиночества, как будто от него можно сбежать.
Клара Михайловна ничего не сказала, но вдруг увидела сына совсем юным худеньким студентом, и на мгновение сегодняшний тридцатипятилетний Яков обрел черты того паренька, пропадавшего где-то ночами, торопившегося так, как торопятся только к ней… Это все катаракта виновата: глаза слезятся, все расплывается, но Яша той весной влюбился прямо перед защитой диплома, дочка после развода уехала с малышом в чужой город, и ей пришлось ехать следом, нянчить внука – до того самого телефонного звонка. Она надеялась услышать ликующий голос: «Мама, я женюсь!» Однако сын сказал другое: «Мама, я заболел».
– На ком, интересно? – не выдержала Ада молчания матери.
Выяснилось: на пианистке. Кто такая, откуда взялась?! Откуда-откуда, пожал плечами брат, приехала с оркестром из ***, у них сейчас гастроли на взморье.
– Как она играет Шопена, как играет! Вот этот концерт фа-минор, ты помнишь? – он оживленно повернулся к Аде.
– Помню, конечно! – возмутилась она. – Но что еще?
– Во втором отделении были сонаты для фортепьяно, – Яков подхватил на вилку последнюю котлету. – После концерта бисировали, потом я подошел познакомиться, проводил до гостиницы…
Кобель. Самый настоящий кобель. Какой Шопен, ему это надо, вот и все. Для этого он готов жениться. «Проводил до гостиницы», как же! – заночевал, разумеется; хороши гастроли. Потому и меня на концерт не позвал, потому и в дом отдыха… Да была ли вообще путевка, был ли дом отдыха?! Ада задохнулась от негодования, но голос оставался ровным:
– Женишься? Допустим. Вот приходишь ты с работы, хочешь котлет, – она кивнула на пустую сковороду, – а жена тебе сыграет Шопена, мазурку какую-нибудь. Или рубашку надо постирать, носки – получай ноктюрн! Ты… ты на музыке женишься!
– Хватит, – негромко сказала Клара Михайловна. – Хватит.
Усталая, она заснула не сразу. Ни одна, ни другой не заметили, как Яник ушел – к Алеше, не иначе; хоть бы куртку надел, дождь-то какой… И не ел почти ничего. Сын уехал на взморье, несмотря на поздний час. И плащ еще не просох, а поехал. Из коридора было слышно его «что курим»; соседа встретил. И пускай женится, никто сейчас не помирает с голоду, рубашки можно в прачечную снести. Пианистка… Не продавщицу же ему в жены брать. Или ждать, пока какая-нибудь практикантка в загс его утащит, как с Аркадием из его лаборатории получилось… А завтра надо в мясной сходить пораньше – вдруг печенку достану, мальчик совсем исхудал. И капли кончились, в аптеку зайду…
Ада хорошо знала своего брата: не женился Яков на пианистке. Правда, не из-за котлет не женился, а совсем по другой причине: узнал – слухом земля полнится – что два месяца назад из Англии прислали приглашение на международную конференцию. Приглашение на его имя. Про конференцию знал из научного журнала, а про персональное приглашение выяснил только сейчас. Узнав, рассвирепел от бессильной и бешеной ярости настолько, что и пылкая любовь, и пианистка исчезли, растворились в осеннем воздухе, прихватив с собой Шопена; больше пластинки с ним не ставил.
8
К вечерним лекциям на физмате Ян скоро привык. Ребята в группе подобрались очень разные. Кого-то из ровесников знал в лицо, встречал в своем районе; двоих – Илью и Андрея – запомнил по вступительным экзаменам, они тоже недобрали баллов. Оба кончали соседнюю школу и «корешились», как выразился Илюша, давно. Андрей первым подошел в перерыве, стрельнул сигарету; разговорились. Невысокий смугловатый парень одет был в фирменные джинсы, рубашка выглядела сшитой прямо на него, без уродливых «парусных» складок на поясе. Стройный, с худым улыбчивым лицом, он вызывал симпатию. Рядом с ним Илья казался фигурой из анекдота: толстые линзы очков, светлые космы на лбу, быстрая неразборчивая речь («картавлю на все буквы», как он сам предупреждал) – и детская восхищенная улыбка навстречу собеседнику.
Совершенно особняком стоял еще один, некто Мухин, которого так и называли Мухин или по имени и отчеству: Владимир Петрович. Яна позабавила серьезность, с которой Мухин представился во время перекура, и особенно развеселил «Владимир Петрович». Обладатель подробного имени сильно смахивал на забулдыгу из тех, что толпятся в тягостном нетерпении перед закрытым винным магазином: щуплый, с приплюснутыми редкими волосами над небольшим личиком, в обтерханном пиджаке, мятой рубашке и куцых брюках, только в руках не сетка с бутылками, а модный новенький портфель. Мухин выглядел лет на тридцать; сколько ему было на самом деле, никто не допытывался.
Довольно быстро они сошлись теснее. Мухин, несмотря на свой люмпенский вид, окончил политехникум и работал инженером на полупроводниковом заводе. Зарплата с гулькин хрен, нужны университетские «корочки». Сообщил об этом быстро, без интонаций, точно анкету заполнил. «А что ж не на физику, полупроводники же?..» – полюбопытствовал Илья. «Там видно будет», – ответил Мухин.
Кто-то из ребят в группе собирался после зимней сессии переводиться на дневное отделение, дома то же самое непрерывно твердила мать. Ян отмахивался. В институте, куда Яков его устроил на работу «старшим помощником младшего дворника», было все, о чем он мог только мечтать. Яну нравилось утром слышать из коридора привычный ровный гул машинного зала, нравилась атмосфера лаборатории – таким он представлял себе книжный НИИЧАВО. Нравились ночные смены, когда на всем этаже светились только окна машинного зала. Два раза в месяц он отдавал бабушке зарплату, оставляя десятку себе на сигареты и столовую; деньги таяли с ошеломительной быстротой, и приходилось стрелять по трешке у Якова. Теперь он открыто курил дома, хотя в ушах еще стоял вопль матери: «Ты куришь!» Ада заметила желтоватое пятно у него на среднем пальце, когда он уже был курильщиком с пятилетним стажем.
Ему нравилось и то, что кончилось мучительное время школьной лажи, что не нужно было писать сочинений. Нравилось, что его оценивают и принимают не по школьной успеваемости, а по реальной «взрослой» работе, которая увлекла по-настоящему. Нравились люди вокруг – с ними было легко и интересно.
Наедине с учебником программирования он сидел недолго. В комнату вошла Майя, бросила в мусорную корзину пачку перфокарт: «Не идет, собака…» Плотная, бело-розовая, всегда смеющаяся, Майя считалась одним из самых сильных программистов в отделе, хотя физмат окончила только в прошлом году. «Вот, – она подтащила стул, – давай искать ошибку», – и развернула распечатку, бесцеремонно захлопнув учебник.
Ошибку в Майкиной программе Ян не нашел, но поиски сделали более понятным учебник, а потом и само программирование. Он бормотал себе под нос: «Нам позарез нужен программист… не всякий… доброволец…» У Стругацких список был длинным, с упоминанием общежития, что напомнило Яну разговоры матери о стенах. Она собиралась возводить какие-то перегородки, «чтобы у тебя была своя комната, куда ты будешь приводить товарищей».
Идея стенки внутри комнаты – стенки внутри стен – показалась бредовой, тем более что «товарищей» (выберет же словцо!) он и так приводил. Они заваливались после лекций, и Мухин доставал из нарядного портфеля бутылку белого портвейна. Матери больше всех нравился Андрей («такой изысканный, не то что этот… алкаш»). Ее невозможно было переубедить, Ада решительно не понимала симпатий сына.
Стенку, стенки. Частника… Попросила наконец у лаборантки телефон умельца, позвонила. Отозвался интеллигентный мужской голос, выслушал Адины сбивчивые объяснения, записал адрес. Ада ликовала. Через два дня на пороге возник молодой шатен в берете и щеголеватом плаще, какого никогда не было и, как Ада подозревала, не будет у ее брата. В руке частник нес «дипломат», тоже ею доселе не виденный. Ада завороженно смотрела, как он открыл странный портфель, словно футляр с музыкальным инструментом, и вытащил складную рулетку. «Метров сорок?» – уважительно спросил, окинув комнату взглядом. «Сорок шесть, – с достоинством ответила Ада и продолжала быстро, деловито: – Вот так от окна… потом отсюда досюда». – «Не понял? – удивился мужчина. – Балкон у вас где?»
Недоразумение разъяснилось: он был специалистом по чеканке, изготовлял узорные перегородки, «на которые большой спрос», пояснил скромно, перечислив спектр услуг: лестницы, дача, камин… Ада была в отчаянии – не потому даже, что не владела ничем из упомянутого, а оттого, что рухнули стенки, годами возводимые в мечтах; стенки, на которые – вот здесь, рядом со шкафом – она вешала мысленно свои диаграммы, на которые клеила новые обои; куда придвигала новую полочку, специально для этого купленную; стенки, за которыми никто не мог видеть ее лица, когда выяснилось, что мечта рухнула.
«Почему невозможно?» – повторяла она, хотя специалист по кованым решеткам ушел, объяснив, что никто – «никто, понимаете?» – не возьмется: капитальный ремонт, лепнина на потолке, санкция исполкома. Которую никто не даст, ибо не дают никому, добавил он. Уходя, посоветовал «переставить мебель, что ли».
Без тебя не догадались. Ада не задумывалась о перестановке, надеясь на стенки.
Брат явился в одиннадцатом часу, застав Аду и Яна с приятелями посреди ярко освещенной комнаты рядом с отодвинутой от стены секцией.
– За каким чертом?! – яростно заорал Яков.
…Яшка всегда так. Вместо благодарности – «за каким чертом». А за таким, что я тебе практически кабинет отделила. Пусть не стенкой – шкафом, но пространство для работы я тебе обеспечила, сам-то не сообразил. И так удачно, что сын пришел с товарищами – быстро передвинули.
Все постепенно привыкли к «лабиринту», как Яков называл изменившуюся комнату. Почти забылся визит элегантного частника – ей удавалось избавляться от неприятных воспоминаний, – однако неблагодарность брата задевала.
Никто, никто не ценит ее заботы.
Ян сдал первую сессию легко: вернулась откуда-то прежняя уверенность, что все получится.
В обеденный перерыв к институту иногда приезжал Миха. Они вместе шли в столовую, потом занимали шаткий столик в кафе за перегородкой, где разговаривали, поругивая жидкий кофе; Михе было что рассказать.
Он работал в мастерской старого художника, чье имя когда-то произносили с пиететом, а выставки собирали толпы народа, да и сейчас у немногочисленных его гравюр останавливались посетители музея. Правда, большая часть перекочевала в хранилище; появились молодые художники со своими работами – броскими, смелыми, но главное, на актуальные темы; прежний кумир превратился просто в Старика, держался в тени, как его громоздкие гравюры – в музейном запаснике. Декорум, однако, соблюдался – Старик был фронтовиком, давним лауреатом союзных премий, поэтому мастерскую не отобрали и регулярно приглашали на приемные экзамены в художественную академию.
…где он и приметил рисунок Алексея Михеева, а потом и его самого, когда тот шел по коридору, с досадой втискивая аттестат в карман пиджака. Старик протянул ему бумажку с адресом и коротко бросил: «Зайди, поговорим».
Очень надо. Никуда я не пойду, решил Миха, но через несколько дней столкнулся со Стариком у газетного киоска. Тот кивнул узнавающе, взял сдачу с блюдца и двинулся к выходу. Миха поспешил вдогонку: только спрошу, честно это или нет и почему мне сочинение не показали… Старик не удивился, и по пути до мастерской Миха несколько раз открывал рот – вот спрошу, и все, – но почему-то не спрашивал и только выучил серую плохо выбритую щеку, выгоревший на плечах пиджак и стариково ухо, похожее на сушеную грушу. Спрошу в мастерской, решил.
И тоже не спросил. Он приготовился увидеть мольберт со свежим наброском, изломанные в последней агонии тюбики красок, раскиданные эскизы, холсты у стены, но ничего похожего там не обнаружилось. Это могла быть мастерская сапожника, судя по едкому запаху, разнокалиберным сверлам, резцам и буравчикам, если бы не отсутствие рваных башмаков; рыжие медные пластины разной величины сбивали с толку – техники гравирования Миха не знал. И фиг спросишь, мелькнула мысль, но сожаления не было, только любопытство.
Миха начал работать у Старика, хотя правильнее было бы назвать это присутствием. Или созерцанием. Он числился натурщиком-почасовиком и даже получал в бухгалтерии какие-то бесхитростные деньги за то, что наблюдал, как из-под резца появляются на меди фигуры в хитонах или туниках, вспененное море, деревья, и стереть линию было невозможно – металл не бумага, – но старый гравер уверенно вел штихелем. «Эпос, – коротко бросил он в ответ на неуклюжий вопрос, – больше ничего стоящего человечество не создало». Михино представление об эпосе не простиралось дальше былин об Илье Муромце. Побывать натурщиком пока не случилось, но каждый день он приносил кефир и папиросы, научился варить на плитке кофе. В конце дня Старик мыл руки – тяжелые, заскорузлые руки мастерового, – закуривал и произносил слова, ради которых Миха приходил сюда: «Ну, что у тебя», – и протягивал руку за новыми рисунками.
Дом художника, мастерская, гравюры были так же далеки от Яна, как матанализ и Фортран от Михи. Обеденный перерыв кончался торопливым глотком остывшего кофе, Миха мчался за кефиром и назад в мастерскую, Ян возвращался в лабораторию.
…В тот год ему хотелось всего сразу: написать сложный алгоритм, увидеть Михины рисунки углем, познакомиться с загадочным Стариком, сдать досрочно сессию и съездить к отцу.
Весна настаивалась в воздухе медленно, но уверенно; в марте ночной ледок еще держался по утрам в наскоро застекленных лужах, а потом незаметно сдался, как и сами лужи, подсохшие на солнце, чтобы возродиться после первого настоящего весеннего дождя.
Весна принесла дожди, свежую зелень и повестку в военкомат, где в имени «Йоханан» были сделаны две ошибки, что не отменяло явки на медкомиссию.
Мать возмущенно кричала про сессию, которую он должен сдать, рвалась в военкомат: «Я им все скажу!», писать в газету… Неожиданно засуетился Яков, обещал «выбить» в институте письмо, словно какое-то письмо могло защитить «старшего помощника младшего дворника» от могучей Советской армии.
На медкомиссию пошли вдвоем с Михой. Встретили ребят из их школы; «первая встреча выпускников», пошутил кто-то. Остаться здесь, в Городе, не надеялись: в какую тьмутаракань отправят, там и придется служить. Мечтали только оказаться с кем-то из своих, однако Советская армия руководствовалась собственной логикой, отличной от общепринятой, и в соответствии с нею литовцев отправляли на Кавказ или в Зауралье, таджиков – в Архангельскую область или на Чукотку, чукчей – в чопорную Прибалтику. Закономерность прослеживалась только одна: засылают куда Макар телят не гонял, и заранее выяснить пункт назначения невозможно.