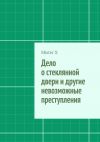Текст книги "Собирали злато, да черепками богаты"
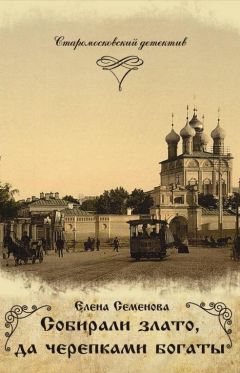
Автор книги: Елена Семенова
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Так доверию!
– Ты, главное, доверие это оправдай! Накопай ты в этой серой столице хоть что-нибудь, опроси вокзальных служащих, потолкуй с нашим братом, в гостиницы сунься, тряси их там всех – авось, что и выскочит!
– Сделаю, Василь Васильич!
Где-то вдали раздалось первое ворчание надвигающейся грозы. Романенко прислушался и покачал головой:
– Эх ты, горой тебя раздуй… Ни облачка! Говорил же я тебе – дождь будет… Раз у меня спину заломило – стало быть, верная примета…
Менее всего в этот вечер Петру Андреевичу Вигелю хотелось находиться в театре, пытаться сосредоточиться на разыгрываемом на сцене представлении. Но так хотела Ася, а возражать ей он не смел. Её болезнь стала громом среди ясного неба, и, глядя на похудевшее, бледное лицо жены, Пётр Андреевич каждый раз задавливал в себе парализующую мысль о том, как он, как все они будут жить, если из их дома исчезнет это солнце, ни для кого не жалеющее своих лучей и улыбающееся всем и всему даже сейчас… Анна Степановна настаивала, чтобы Ася поехала в Крым вместе с нею и Николашей, но она отказалась наотрез, объяснив, что дорога будет ей слишком утомительна, что в Крыму нет доктора Жигамонта, которому она доверяет… Но Вигель понял, что истинная причина этого решения жены кроется в другом: она просто не хочет расстаться с ним, она хочет быть с ним в свои, может быть, последние дни. Его долгом было бы самому везти её в Крым, на воды и куда угодно, но служба не отпускала, и Пётр Андреевич терзался ощущением вины перед Асей…
– Пётр, ты идёшь? – окликнул его Володя Олицкий. Он вместе с Надей уже давно обосновался в ложе, ожидая начала представления и от волнения теребя в руке два металлических шарика. Володя подавал надежды уже в ранней юности, но кто бы мог предположить, что к тридцати годам он станет столичной знаменитостью, будет солировать по России и Европе, что музыку его высоко оценят знаменитые композиторы Римский-Корсаков и ректор Московской консерватории Танеев, у которого Володе посчастливилось учиться… Хотя нынешний спектакль был драматическим, но, по дружбе с актёрами, Володя с удовольствием написал для него музыку и несколько романсов, один из которых посвятил Анастасии Вигель… И удивительно было видеть теперь, как этот молодой, но уже вполне маститый композитор волнуется, как новичок, ожидая, как примут спектакль и его музыку.
– Да-да, я скоро, – кивнул Пётр Андреевич. – Звонка ведь ещё не было?
– Ты не пропусти его только. Ты же знаешь, как для меня важно твоё мнение… И мнение Аси тоже… Это очень, очень жаль, что её сегодня нет. Но, как говорится, если гора не идёт к Магомеду… Я днями сам навещу Асю и сыграю ей все романсы и темы этого представления, если только не освистают…
– Неужели ты всерьёз думаешь, что могут освистать?
– Почему бы и нет? Всякое бывает… – пожал плечами Володя и снова скрылся в ложе, а Пётр Андреевич продолжил бродить по фойе, погрузившись в невесёлые размышления. Мимо сновали нарядно разодетые дамы и господа, слышался весёлый смех и беззаботная болтовня. Каждый раз, видя в ресторациях, театрах и иных местах эту всевесёлую публику, Вигель испытывал странное чувство, которое сам до конца не мог себе объяснить. Впервые оно посетило его несколько лет назад, в страшный день, когда сотни людей были раздавлены в ужасающей давке на Ходынском поле4. Пётр Андреевич ясно помнил, как в одной из рестораций, куда ему случилось зайти, ело, пило и веселилось собравшееся общество, а где-то рядом звенели колокольчики подвод, вёзших страшную поклажу – изуродованные тела людей, явившихся за царскими гостинцами, раздавались стоны и вопли раненых и обезумевших от увиденного и пережитого кошмара, стучали о землю лопаты в руках могильщиков, роющих братскую могилу для погибших… Не менее поразило Вигеля и то, что сам Государь и его свита в тот же день присутствовали на приёме французского посольства, точно никакой трагедии не произошло… Таково было начало нового царствования, и Пётр Андреевич чувствовал, что продолжение его будет не менее горьким. Вспоминалось, что именно схожая трагедия, гибель многих людей, собравшихся посмотреть торжественный фейерверк, стала прологом к царствованию обезглавленного короля Людовика Шестнадцатого. Смерть государя Александра Третьего поразила всех своей внезапностью. Царь казался богатырём. На своих могучих плечах он удержал крышу вагона при крушении царского поезда. Сам Бог велел ему царствовать не одно десятилетие, как его отец и дед, но судьба распорядилась иначе. Гроб с телом покойного Государя привезли в Москву, а следом въехал Государь новый, имевший обидно малое сходство с отцом и не умеющий внушить того верноподданнического чувства, которое одним своим видом внушал тот. Новый Государь производил впечатление человека, вдруг, невольно оказавшегося на чужом месте, слишком высоком для себя, на плечи которого внезапно свалилась страшная ноша, которая придавила его, и которую ему не по силам нести. Впечатление, оставленное прощанием с Императором Александром, видом его сына, трагедией Ходынки и продолжавшимся на фоне её весельем, камнем легло на душу Вигеля, породив в ней дурное предчувствие.
– Всё будет в наилучшем виде, драгоценная Ольга Романовна! Не извольте беспокоиться! Наш театр по гроб жизни будет благодарен вашему мужу и вам…
– Владислав Юрьевич, мой муж всегда считал помощь искусству делом святым, и я разделяю это мнение, а потому вы всегда можете рассчитывать на мою помощь…
Вигель вздрогнул, как от удара током, и даже не осмелился сразу обернуться, услышав этот негромкий, звенящий, как ручеёк, голос, которого он не слышал уже целых двадцать лет… Он узнал бы его из тысяч, сколько бы времени не прошло. Это был её голос. Пётр Андреевич обернулся и увидел в центре фойе Ольгу Романовну… Нет, это была уже не та бедная и забитая нелёгкой сиротской долей барышня, но строгая, занимающая высокое положение дама. Она была одета неброско, но очень дорого: простое по крою тёмное платье, оттеняющее бледность кожи, накидка из дорогого, переливающегося разными цветами меха, брильянтовые серьги, ожерелье, перстень белого золота и небольшая заколка в высокой, очень идущей ей причёске. Очень просто и очень дорого – безупречный вкус налицо. Внешне Ольга Романовна изменилась мало: та же стройная, даже худощавая фигура, то же бледное лицо с мелкими чертами и почти неестественно крупными глазами, та же тихая печаль на нём. Ни следа важности, надменности, присущей состоятельным дамам. Оторвав взгляд от Ольги, Вигель, наконец, обратил внимание на стоявших рядом с нею людей. Это были полный, среднего роста господин с окладистой бородой и лысым, как колено, черепом, в котором Пётр Андреевич угадал директора театра Авгурского, корнет, неуловимо напоминавший саму Ольгу Романовну, вероятно, её сын, и барышня в белом платье, с непокорными, рыжеватыми волосами и бойким, подвижным лицом.
Вероятно, Вигель столь пристально смотрел на Ольгу, что бойкая барышня заметила это, и, тронув её за рукав, что-то шепнула. Ольга Романовна отвела взгляд от Авгурского и увидела Петра Андреевича. Вигель понял, что она узнала его, и что уйти теперь было бы не совсем удобно. Подойдя ближе, он почтительно склонил голову:
– Здравствуйте, Ольга Романовна.
– Здравствуйте, Пётр Андреевич, – прозвучало в ответ. – Не ожидала вас здесь встретить…
– И я не ожидал. Вы прекрасно выглядите, Ольга Романовна.
– Благодарю. Позвольте вам представить: Владислав Юрьевич Авгурский, директор театра.
– Моё почтение, – кивнул Авгурский.
– Мой сын Пётр, корнет Х…ого полка. Моя дочь Лидинька. Господа, это мой старый друг Пётр Андреевич Вигель.
– Друг? А почему он никогда у нас не бывал? – спросила Лидинька.
– Так сложилась, – неопределённо ответила ей мать.
В этот момент раздался первый звонок.
– О, мне надо бежать! Тысяча извинений! – засуетился Авгурский и исчез.
– Я полагаю, мы увидимся в антракте, Пётр Андреевич? – спросила Ольга.
– Да-да, разумеется… – кивнул Вигель.
В зале они сидели далеко друг от друга, в разных ложах, и Пётр Андреевич время от времени переводил взгляд со сцены в темноту, где виднелась фигура Ольги. Он мог бы дать голову на отсечение, что и она смотрит в этот миг не на сцену… Спектакль шёл, а Вигель никак не мог сосредоточиться на нём. А ведь необходимо было смотреть внимательно: Ася просила подробно пересказать… Да и перед Олицкими неудобно. Володя ёрзал на своём месте не в силах сдержать волнения.
– Бог ты мой, что ты так переживаешь? – шептала ему Надя. – Ведь это даже не новый симфонический концерт!
– Тебе этого не понять, – резонно отвечал Олицкий.
Во время антракта Пётр Андреевич вышел из театра и, остановившись на ступеньках, глубоко вдохнул душный в преддверье надвигающейся грозы воздух. Очень хотелось закурить. Впервые за долгие годы. «Вредную привычку» Ася заставила бросить его ещё во время своей беременности, объясняя, что ей становится дурно от малейшего запаха табака. Позади послышался шорох платья. Вигель обернулся и увидел стоявшую на ступенях Ольгу, зябко кутающую плечи в меховую накидку.
– Какой холодный ветер… – негромко сказала она.
– Осень приближается, Ольга Романовна.
– Да… Осень… Как, однако, странно всё…
– Что странно?
– Мы не виделись с вами двадцать лет, и вдруг эта встреча…
– Мой друг написал музыку к этому спектаклю и очень просил прийти.
– Так князь Олицкий ваш друг?
– Да, а вы с ним знакомы?
– Немного. Я ведь часто бываю в этом театре, знаю все спектакли, актёров, художников…
– Я заметил, что директор едва ли не заискивает перед вами.
– Он не заискивает, просто старается быть любезным. Ведь, если бы не Сергей Сергеевич, то этого театра не было бы. После выставок театр стал его любимым детищем. Он сам нашёл архитекторов, сам утверждал план, следил буквально за каждой мелочью – ни на что не поскупился. Прежде Владислав Юрьевич вынужден был ставить свои спектакли, где придётся, а Сергей Сергеевич, однажды увидев его постановку, пришёл в восторг и заявил, что такой талантливый художник должен иметь свой театр. Он так любил всё прекрасное, так по-детски радовался каждому новому таланту, так старался поддержать все проявления подлинного искусства…
– Да, ваш муж был одним из наиболее известных меценатов в Москве… Я читал некрологи о нём в газетах. Примите соболезнования.
– Спасибо, – Ольга Романовна опустила глаза.
– Теперь вы продолжаете его дело? – спросил Вигель.
– Да. Сергей Сергеевич был влюблён в искусство, во всё талантливое и за годы совместной жизни привил и мне эту страсть. Последние годы он был болен, и я много занималась делами. Но… теперь всё иначе! Сергей Сергеевич меня многому научил, но, пока он был жив, я чувствовала, что есть кому поправить меня, дать совет, поддержать, а теперь, когда его не стало, то я не чувствую прежней уверенности – всё приходится разбирать самой.
– Вам очень не хватает вашего мужа?
– Да, Пётр Андреевич, мне не хватает его. Он был мне как отец… Первое время после его смерти я не находила себе места, а потом окунулась в дела, которые остались после него, и стало легче, потому что во всех этих начинаниях живёт его частичка, и я знаю, что продолжаю в каком-то смысле не только его дело, но и саму его жизнь в памяти людей. И всё-таки многое изменилось. Прежде в нашем доме всегда было так много народа: художники, актёры, поэты, музыканты… Сергей Сергеевич, даже прикованный к постели, никому не отказывал в приёме. Он очень любил общество, а ко всем этим талантам относился, как к родным детям… Его все очень любили. А я… У меня не хватает сердца, чтобы поддерживать эту атмосферу. Дома стало пусто, заходят лишь самые близкие друзья… И не у кого ни совета, ни поддержки спросить.
– Но ведь у вас есть сёстры, взрослый сын, – заметил Пётр Андреевич.
– У сестёр своя жизнь. Обе они, слава Богу, вышли замуж по любви, у обеих семьи. В Москве их нет. А сын… Сергей Сергеевич очень надеялся, что он продолжит его дело, но Петруша с малых лет избрал другое поприще. Он просто бредил военной службой, мы не посмели противиться этому желанию. Если человек так остро осознаёт призвание к чему-то, то нельзя мешать – можно исковеркать судьбу. Петя очень способный мальчик, он на хорошем счету в полку… Только всё время торопится! Вот, и теперь, забежал ненадолго и уехал в полк… У его друга сегодня день рождения, так они будут праздновать, а я и наглядеться на него не успеваю.
– Он очень похож на вас.
– Да, похож… – согласилась Ольга и почему-то отвела глаза. – Скажите мне, Пётр Андреевич, вы не держите на меня зала? За то, давнишнее? Вы простили меня?
– Простил, Ольга Романовна. Я не имел права упрекать вас ни в чём, так что и вы простите.
– Как же вы живёте теперь?
Первые тяжёлые капли дождя ударились о пыльную мостовую, и ветер взметнул столп пыли, заколыхал деревья. Пётр Андреевич вглядывался в лицо Ольги. Совсем не изменилась… Вот, также смотрела она на него двадцать лет назад своими распахнутыми глазами, замёрзшая, кутающаяся в старый салоп, также негромко журчал её голос, та же печаль таилась в уголках губ, во взгляде…
– Живу, Ольга Романовна, как все люди живут. Служба, семья – в общем-то, и рассказывать особенно не о чем.
– А я в газетах читала о вас. И о Немировском… Он служит ещё?
– Да…
– Я помню его. Подумала тогда ещё глупо: разве могут быть у следователя со стажем такие солнечные глаза…
– Да разве вы встречались? – удивился Вигель.
– Один раз. Вы тогда ранены были, а я не знала, у кого спросить о вас. Дольше часа на морозе простояла, ждала, пока ваш начальник выйдет, чтобы узнать, как вы… Я должна была знать, иначе бы просто места себе не нашла.
– Он не говорил мне о том, что вы приходили…
Из дверей театра выбежал одетый в средневековое платье человек в каком-то немыслимом гриме:
– Ольга Романовна, вот вы где! А мы уже вас ищем! Антракт-то заканчивается. Просим в зал, просим в зал!
– Конечно, Серёжа, я уже иду, – кивнула Ольга.
– Кто это? – полюбопытствовал Вигель.
– Это? Актёр Кудрявцев. Он у Авгурского во всех спектаклях занят. Огромный талант. Лидинька от него без ума… Сейчас как раз его выход. Идёмте, Пётр Андреевич. Вас ведь тоже ждут…
После спектакля Ольга Романовна тотчас уехала, отказавшись от участия в банкете под предлогом разыгравшейся мигрени. Вигель видел лишь, как она покидала свою ложу в сопровождении дочери и толстяка Авгурского. Представление прошло «на ура», зрители провожали актёров бурными овациями, и на сцену время от времени летели букеты. Володя, наконец, успокоился и довольно потёр подбородок.
– Поздравляю с очередным успехом, – сказал ему Пётр Андреевич.
– Ах, дружище, успех – коварная штука. Чем его больше, тем страшнее становится неудача! – ответил Олицкий.
– Ты когда-нибудь бываешь доволен?
– Не обращай на него внимания, – подала голос Надя, оправляя платье. – Это болезнь творческих людей – постоянное ощущение несовершенности своих творений, самоедство и страх провала.
– Любое произведение несовершенно, потому что нет предела совершенству, – философски заметил Вигель.
– Ты останешься на банкет? – спросил Володя.
– Нет, не могу. Ты же знаешь, Ася нездорова, я должен возвращаться.
– Да, конечно. Передавай ей нижайший поклон от нас и наши самые сердечные пожелания и скажи, что на днях мы навестим её.
– Она будет рада вас видеть.
Раскланявшись с Олицкими, Пётр Андреевич покинул театр. Гроза разбушевалась вовсю, но промокшие ямщики, не обращая внимания на непогоду, сидели на козлах, резонно предполагая, что в такую погоду желающих идти пешком даже до ближайшего переулка окажется немного. Вигель нанял одну из пролёток с поднятым верхом и велел извозчику ехать медленно, чем немало удивил его.
От театра до Страстного бульвара, где несколько лет назад он обосновался с семьёй, расстояние было невелико, а Вигель ясно чувствовал, что нужно привести мысли и чувства в порядок, прежде чем явиться к ожидающей его жене. Всего бы лучше теперь было поехать в какой-нибудь трактир, выпить рюмку кизлярской, посидеть и обдумать всё спокойно, но час был поздний, а Ася никогда не смыкала глаз, не дождавшись возвращения мужа. Лошадь медленно трусила по мокрой мостовой, дождь хлестал по фордеку, а Пётр Андреевич смотрел в одну точку и видел перед собой лицо Ольги. Нет, не нужно было поддаваться на уговоры Аси и ехать в театр. Остался бы он в этот вечер дома, и не случилось бы этой встречи, разом всколыхнувшей память о далёких прекрасных днях, о любви, которую Вигель так и не смог изгнать из своего сердца. Он сумел лишь временно забыть о ней, но, стоило напомнить, и будто бы не было этих двадцати лет… А она? Ольга? Теперь богатая вдова, меценатка, поэты посвящают ей стихи, а музыканты романсы… Покровительница муз! Она искренне оплакивает покойного мужа, от которого родила двоих детей… Но её глаза, её взгляд не мог обмануть Вигеля. Она тоже ничего не забыла… Она читала о нём в газетах, как и он – о её муже… И зачем теперь нужна была эта встреча? Там, в доме на углу Страстного бульвара его ждёт любящая женщина, жена, родившая ему сына, а теперь, может быть, умирающая, а он явится к ней с растравленной душой, с сердцем, наполненным разбуженными чувствами к другой женщине, с головой, наполненный мыслями о другой – и как смотреть ей в глаза? Лишь бы она не догадалась ни о чём. Нанести, пусть и невольно, малейшую обиду этому безмерно дорогому для него существу Пётр Андреевич не мог и не простил бы себе этого.
– Приехали, барин.
Приехали… Вот, она – редакция «Московских ведомостей». А совсем рядом – дом философа Льва Тихомирова, бывшего народника, перешедшего в стан убеждённых монархистов и охранителей и ставшего одной из самых одиозных фигур наряду с Победоносцевым для прогрессистов. Вигель не раз читал его статьи, как читал их и Николай Степанович Немировский, оценивавший их, как «редкий здравый голос среди хора помешанных». Пару раз на улице встречал Пётр Андреевич и самого Тихомирова, сухопарого, бледного пожилого человека в огромных роговых очках, неизменно хмурого и погружённого в свои мысли. Пётр Андреевич учтиво снимал шляпу, получал в ответ столь же учтивый кивок, но заговорить с философом ни разу не решился. Повода не было, а отвлекать человека досужими разговорами казалось Вигелю, по меньшей мере, бестактным и глупым…
Расплатившись с извозчиком, Пётр Андреевич зашагал по лужам к своему дому. Кроме него и его семьи в нём жили Немировский с сестрой и старуха-кухарка Соня. Именно она, заспанная и сердитая, открыла ему дверь:
– И что же это ты, голубчик, по ночам да в такую грозу ходишь? Небось, и вымок весь…
– Николай Степанович пришёл уже?
– А то как же. Николай-то Степанович старой закалки человек, он всё вовремя делает. Ныне спит уже, должно.
– А Анастасия Григорьевна?
– И она почивает уже. Ох ты, Господи… Первый раз на моём веку не дождалась тебя, сомлела, голубушка. Доктор уж настоял, чтобы легла, капель ей каких-то дал… И за что ж беда такая?..
– Иди и ты спать, Соня. Прости, что разбудил. А уж я сам тут справлюсь.
– Чаю горяченького испей. Простудишься, не дай Господи. Самоварчик-то горячий ещё.
– Спасибо, Соня.
Старуха скрылась в своей комнатушке, а Пётр Андреевич прошёл на кухню. Первый раз не дождалась его Ася… А он почти и рад этому: уж слишком тяжело было бы теперь играть перед ней, рассказывать в красках о спектакле и умалчивать о том, что огнём обжигало душу… Вот, завтра с утра – другое дело. Утро вечера мудренее…
Офицерская столовая Х…ого полка гудела, как пчелиный улей, когда Петя Тягаев переступил её порог. Тотчас к нему с приветственным криком бросился виновник торжества и лучший друг ещё со времен кадетского корпуса Адя Обресков, невысокий, кажущийся в силу сложения моложе своих лет юнец с едва пробивавшимся над верхней губой пухом. Адя, несмотря на всю негероичность фигуры, был способным офицером, преданным другом, а, в иных случаях, мог и выкинуть какой-нибудь фортель в гусарском духе, стараясь походить на старших товарищей. В этих проказах не раз сопутствовал ему и Петя. Не так давно молодые офицеры просадили изрядную сумму в «Яре», стремясь таким образом поддержать престиж полка. Сумма была столь велика, что история могла бы окончиться скандалом, если бы покойный отец Пети, строго отчитав сына, не расплатился за его кутёж. Это стало для корнета Тягаева хорошим уроком и впредь он гораздо строже стал относиться к себе и ко всякого рода проказам и стал считаться одним из самых примерных офицеров в полку. Петя не стремился обогнать товарищей в сомнительных удальствах, имея изначально перед собой главную цель – сделать военную карьеру. С детства он зачитывался книгами о героях, о подвигах, о войнах всех времён и народов. В его комнате соседствовали портреты великих полководцев, среди которых на самых почётных местах – Суворов и Скобелев. Как жалел Петя, что родился поздно и не успел поучаствовать в славных делах «белого генерала» на Балканах! Приходилось уповать только на то, что, как говорил полковник Дукатов, обнадёживая своих подопечных, «и на ваш век войны хватит».
В детстве Петя Тягаев отличался слабым здоровьем, но перед глазами мальчика был пример великого Суворова, сумевшего в юных годах одолеть телесную немощь, благодаря силе духа, целеустремлённости и постоянному закаливанию своего тела. И Петя старался походить изо всех сил на своего кумира. Он сумел побороть недуги, стать выносливым, сильным и ловким, и, с благословения родителей, поступил в кадетский корпус. Плох тот солдат, который не мечтал бы стать генералом. Петя Тягаев отличался честолюбием и финал своей карьеры видел именно в чине генерала. Никак не меньше. Единственным иным финалом могла быть геройская гибель на поле брани. О, сколько раз рисовалась в юношеском воображении картина: поле боя, и он, подобно Андрею Болконскому, идущий вперёд со знаменем в руках, он, увлекающий за собой других… И, вот, отступает неприятель, и гремит слава русского оружия, а он, герой, падает сражённый, но победивший и покрывший себя воинской славой! Или же иная картина: поле боя, и он, генерал Тягаев «манием руки» двигающий победоносные полки на врага… Дух захватывало от этих мечтаний! Редко кому Петя рассказывал о них. Единственным человеком, от которого секретов не существовало, был Адя. Напрочь лишённый честолюбия, он искренне верил в талант и счастливую звезду своего друга. Когда-то в кадетском корпусе они поклялись всегда быть преданными друг другу, следовать во всём рыцарскому кодексу, первое место в котором занимало слово «Честь»… А ещё были заповеди воина, составленные Марком Аврелием. Петя выучил их наизусть и взял себе девиз: делай, что должен, и будь, что будет.
– Ну, наконец-то ты пришёл! – радостно кричал Адя, веселясь, словно ласковый щенок. – Я тебя заждался! Мы уже начали немного без тебя…
То, что «начали», было заметно. Адя уже явно был навеселе, ворот мундира его был расстегнут, и Петя отметил это про себя с чувством неудовольствия от такого пренебрежительного отношения к форме.
– Садись, брат, садись! Выпьем шампанского, пока оно ещё осталось!
– Что Разгромов? Здесь ли? – осведомился Пётр, усаживаясь за стол, и обводя глазами собрание.
– Ещё не появлялся, но ждём, – ответил Адя, наполняя бокал друга вином. – Зато племянник – здесь. Мрачный, как чёрт знает что! Такое ощущение, что готов испепелить весь мир единым взглядом!
Племянником в полку именовали подпоручика Михаила Дагомыжского, родного племянника генерала Дагомыжского, начальствовавшего над оным полком. Петя знал поручика ещё по кадетскому корпусу, в котором тот исполнял роль его «дядьки». Такова была традиция: старшие кадеты брали шефство над младшими, именуемыми «зверями». У каждого «дядьки» был свой «зверь», которым он имел право командовать. Петя Тягаев был «зверем» Дагомыжского. Ничего оскорбительного в этом положении не было, если бы не нрав самого Михаила, взбалмошного и несдержанного, которого Петя объективно считал плохим офицером и ставил ниже себя, а потому малейшее помыкание и неуважение воспринимал с едва сдерживаемым раздражением. В полку Михаил Дагомыжский ни с кем близко не сошёлся, держался особняком. Поговаривали о том, что он страстный игрок, что живёт с тайной женой, но никаких объективных свидетельств тому не было. Сослуживцы подпоручика недолюбливали за скрытность, а он не искал их расположения… И в этот вечер Михаил сидел в стороне ото всех, мрачный, злой и, кажется, уже успевший сильно захмелеть.
– Разгромов! Разгромов! – пронеслось внезапно по клубу.
Петя взглянул в окно и увидел выходящего из трамвая Разгромова.
– Опять проигрался… – констатировал Адя. – Дивный человек!
Отставной поручик Разгромов, несмотря на то, что уже не служил в полку, оставался кумиром для многих молодых офицеров. Перед его магнетизмом не смог устоять даже Петя Тягаев, хоть и стыдился он этой своей слабости… Впрочем, мало нашлось бы людей, как мужчин, так и женщин, которые смогли бы остаться равнодушными к этому человеку.
Виктор Разгромов происходил из аристократической семьи, обладал превосходными манерами, вкусом и более чем привлекательной внешностью. Высокая, подтянутая фигура, мужественное, красивое, гордое лицо с тёмными, таящими какую-то загадку глазами и губами, с которых не сходила лёгкая, ироническая усмешка, с высоким бледным лбом и чёрными, как смоль волосами – таков был Разгромов. Многие называли его «демоном», хотя отставной поручик вовсе не был зол или мрачен. Напротив: он, казалось, был открыт всем, всегда весел и остроумен, всегда готов ссудить деньгами, если только они у него были – душа любого общества. Разгромов мог поддержать любой разговор, знал бесчисленное количество забавных анекдотов и занимательных историй, превосходно читал стихи и пел цыганские романсы. Он был вальяжен и немного небрежен, что, впрочем, шло к его аристократической внешности. За Разгромовым тянулась слава игрока, неисправимого Дон Жуана и дуэлянта. Он отличался сумасшедшей храбростью, граничащей с безрассудством. Ему ничего не стоило сыграть «для потехи» в русскую рулетку, укротить самого бешеного коня, от которого шарахались даже опытные жокеи. Разгромов не дорожил ни своей, ни чужой жизнью, хотя при этом отличался завидным жизнелюбием. Он любил повторять слова Пугачёва о том, что лучше год прожить орлом, чем век – вороном. Доподлинно известно было, что отец оставил Виктору небольшое состояние, которое тот благополучно спустил. Каждые выходные Разгромов играл на скачках. Случалось выигрывать крупные суммы, но они недолго задерживались у него, расходясь по бумажникам кредиторов, карманам друзей, не имевших привычки возвращать долгов, ресторациям, певичкам, портным… После выигрыша Разгромов облачался в дорогой костюм, нанимал самый дорогой экипаж и разъезжал по самым дорогим заведениям Москвы, швыряя деньги направо и налево и слывя чуть ли не миллионщиком. Потом деньги заканчивались, и Разгромов привычно закладывал свои золотые часы, пускал всё своё обаяние, чтобы квартирная хозяйка отсрочила срок платежа и передвигался по городу пешком или на трамвае, сохраняя при этом вид абсолютного хозяина жизни и миллионщика. О любовных похождениях Разгромова ходили легенды. Поговаривали, что влюблённая в него цыганская певица во время исполнения романса отравилась прямо на его глазах. Ряд скандалов заставили весёлого поручика оставить военную службу, но он продолжал частенько навещать товарищей и бывать в офицерском собрании, куда его пускали без малейших возражений, и где он иной раз просиживал целые вечера. Даже уйдя из полка, Разгромов продолжал оставаться его своеобразным достоянием, гордостью…
Облачённый в белый костюм, с тростью на перевес, Разгромов переступил порог собрания с таким видом, словно прибыл сюда не на трамвае, а в собственном экипаже с дюжиной лакеев.
– Добрый вечер, господа! – громко сказал он густым, хорошо поставленным голосом.
Его тотчас окружили молодые офицеры, посыпались шуточки и остроты. Подойдя к имениннику, Разгромов протянул ему небольшой футляр:
– Поздравляю, корнет! Примите этот скромный подарок!
В футляре оказался кавказский кинжал старинной работы, и Петя легко догадался, что отставной поручик приобрёл его у старьёвщиков на Сухаревке, сбив цену, как минимум, вдвое. В умении торговаться, как и во владении саблей и пистолетом, Разгромову также не было равных. Корнет Тягаев однажды оказался на Сухаревке в его компании и не мог не восхититься этим умением. Даже торговцы разводили руками от такого напора:
– Грех вам, барин, нас обирать!
– Оберешь вас, как же! Вы-то эту вещицу у жулья с Хитровки почём взять согласились?
– Господь с вами, барин! Какая-такая Хитровка?
– А хочешь, борода, я тебе доподлинно скажу, у кого эта вещица на прошлой неделе украдена была?
Знал ли Разгромов, на самом деле, о происхождении той или иной вещи? Скорее всего, нет. Но говорил он так убедительно, что торговцы предпочитали с ним не связываться и сбавляли цену.
Кинжал, подаренный Аде, стоил явно недёшево, и Петя в очередной раз подивился, как уживается в одном человеке столько противоречивых качеств: и удивительное умение торговаться, и отчаянное мотовство и безграничная щедрость.
Устроившись на своём излюбленном месте, которое никто никогда не занимал, Разгромов взял гитару и затянул один из романсов собственного сочинения на стихи Константина Бальмонта, исполнять которые был он непревзойдённым мастером:
– Заводь спит. Молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится, печальная,
Как последний вздох души.
Это плачет лебедь умирающий,
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
И горит и не горит.
Отчего так грустны эти жалобы?
Отчего так бьется эта грудь?
В этот миг душа его желала бы
Невозвратное вернуть.
Все, чем жил с тревогой, с наслаждением,
Все, на что надеялась любовь,
Проскользнуло быстрым сновидением,
Никогда не вспыхнет вновь.
Все, на чем печать непоправимого,
Белый лебедь в этой песне слил,
Точно он у озера родимого
О прощении молил.
И когда блеснули звезды дальние,
И когда туман вставал в глуши,
Лебедь пел все тише, все печальнее,
И шептались камыши.
Не живой он пел, а умирающий,
Оттого он пел в предсмертный час,
Что пред смертью, вечной, примиряющей,
Видел правду в первый раз.
Внезапно кто-то с грохотом отодвинул стул. Это поднялся со своего места подпоручик Дагомыжский.
– Что с вами, подпоручик? – спросил Разгромов, продолжая перебирать струны.
– Мне не нравится ваша песня! От неё хочется пустить пулю в лоб!
– В свой или в чей-нибудь? – по губам Разгромова скользнула усмешка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?