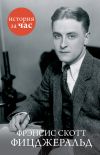Текст книги "Фрэнсис Скотт Фицджеральд"

Автор книги: Эндрю Тернбулл
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Тем временем дела Эдварда Фицджеральда шли все хуже и хуже. Будучи коммивояжером, он целый день ходил по улицам и так уставал, что сил на семью уже не оставалось. Его увольнение из “Procter & Gamble” в марте 1908 года стало для Скотта настоящим потрясением.
“Однажды после обеда, – вспоминал он много лет спустя, – раздался телефонный звонок, и трубку сняла мать. Я не понимал, что она говорила, но чувствовал, что произошло какое-то несчастье. Незадолго до этого мать дала мне четверть доллара на бассейн. Я вернул ей деньги. Я понимал, что случилось нечто ужасное, и теперь нужно экономить.
Потом я начал молиться. “Милосердный Боже, – повторял я, – не дай нам оказаться в доме призрения, пожалуйста, не дай нам оказаться в доме призрения”. Чуть позже домой пришел отец. Я был прав: он потерял работу.
Утром из дому уходил относительно молодой мужчина, полный сил и уверенности в себе, а вернулся полностью сломленный старик. Он утратил жизненную энергию, ощущение цели. И до конца жизни так и остался неудачником.
И я помню кое-что еще. Когда вернулся отец, мама обратилась ко мне: “Скотт, скажи что-нибудь папе”.
Растерявшись, я подошел к нему и спросил: “Папа, как ты думаешь, кто будет следующим президентом?” Он смотрел в окно. На его лице не дрогнул ни один мускул. “Думаю, Тафт”, – ответил он”.
Тем не менее этот болезненный удар послужил стимулом. Фицджеральд любил отца и всегда дорожил сложившимися у них близкими отношениями. Он восхищался вкусом отца и его воспитанностью, а также изысканными манерами, в основе которых – Скотт знал – лежало не только воспитание, но и благородное сердце. Фицджеральд был честолюбив, и его честолюбие лишь усилилось от осознания того, что теперь он настоящий мужчина в семье. И с ним связаны великие надежды.
Этим же летом Фицджеральды вернулись в Сент-Пол, где находились активы семьи.
Глава вторая
В минуты кризиса Скотт молил Бога, чтобы их семья не оказалась в приюте для бедных, но благодаря наследству Макквилланов такой опасности не существовало. Фицджеральдам вполне хватало средств, чтобы держать слугу и обучать детей в частных школах, а после смерти бабушки Макквиллан в 1913 году их основной капитал увеличился до 125 тысяч долларов[13]13
Цифру 125 000 назвала сестра Скотта Фицджеральда миссис Клифтон Спрэг.
[Закрыть] – гигантская по тем временам сумма. Деньги Макквилланов были их единственным источником дохода. Оптовая торговля бакалейными товарами почти не приносила денег. Эдвард хранил образцы риса, сушеных абрикосов и кофе в бюро с выдвижной крышкой, стоявшем в агентстве по торговле недвижимостью, владельцем которого был его шурин, но источником всех доходов, вне всякого сомнения, было состояние жены – сам Эдвард брал в долг почтовые марки в магазине на углу.
“Если бы не твой дедушка Макквиллан, что с нами стало бы?” – говорила Молли Скотту, который не знал лишений, но имел представление об аристократических замашках, которые становились движущей силой для стольких честолюбцев и авантюристов.
В первый год после возвращения в Сент-Пол Фицджеральды жили с бабушкой Макквиллан, которая продала свой дом на Саммит-авеню и переехала в более скромный дом на соседней Лорен. Таким образом, Скотт оказался в квартале Саммит-авеню, в то время модном жилом районе Сент-Пола. Улица представляла собой широкий зеленый бульвар, живописно тянувшийся вдоль обрыва над нижней частью города и огибающей его Миссисипи. Район занимал приблизительно одну квадратную милю, и в него входили четыре параллельные улицы по обе стороны от Саммит-авеню.
Фицджеральд довольно быстро утвердился в этом более широком и сложном, чем прежде, окружении. Другие дети с любопытством отнеслись к бойкому пареньку с тонкими чертами лица, мать которого по-прежнему одевала его в кепки и рубашки “Eton”. В нем чувствовалась какая-то мудрость, даже сложность, хотя в остальном он был таким же, как все. Скотт прятался в сараях, бегал по улицам, швырял камнями в мальчишек из бедных ирландских семей, живших в нижнем городе, рылся в сундуках со старыми вещами, подбирая маскарадные костюмы. Он стал звездой в спектакле “Правда и последствия” и, прожив в Сент-Поле всего месяц, сделался предметом обожания пяти девушек.
Ему самому больше всего нравилась Вайолет Стоктон, которая на лето приезжала в Сент-Пол из Атланты. С наблюдательностью будущего писателя он отмечал в своем дневнике:
Она была очень хорошенькой, с темно-каштановыми волосами и большими ласковыми глазами. В ее речи чувствовался легкий южный акцент, и она немного картавила. Она была на год старше меня, но мне она – как и всем остальным мальчикам – очень нравилась.
У нее была какая-то книжка, в которой рассказывалось о приемах кокетства, и мы с Джеком стащили книжку у Вайолет и показали ребятам. Вайолет разозлилась и ушла домой. Я тоже разозлился и ушел. Вайолет тут же раскаялась и позвонила мне по телефону, чтобы выяснить мое настроение. Я не хотел быстро мириться и повесил трубку. Следующим утром я пришел к Джеку и узнал, что сегодня Вайолет не выйдет гулять. Теперь пришла моя очередь раскаиваться; я повинился, и вечером Вайолет появилась. Тем не менее до меня дошли кое-какие слухи, – как выяснилось впоследствии, до Вайолет тоже, – и мне захотелось объясниться. Мы с Вайолет уселись на склоне холма за домом Шульца, чуть поодаль от остальных.
– Вайолет, – приступил я к допросу, – ты назвала меня хвастуном? – Нет.
– Ты говорила, что хочешь, чтобы я вернул тебе кольцо, фотографии и локон?
– Нет.
– Ты говорила, что ненавидишь меня?
– Конечно нет. Ты поэтому ушел домой?
– Нет, но все это вчера вечером рассказал мне Арчи Мадж.
– Он маленький мерзавец! – с возмущением воскликнула Вайолет.
На этом наш разговор прервался – Джек своими насмешками довел Эленор Митчел до истерики, и Вайолет пришлось увести ее домой. В тот вечер я вздул Арчи Маджа и окончательно помирился с Вайолет.
В сентябре Фицджеральд был принят в школу Сент-Пола, где его учителями стали “папаша” Фиске и С. Н. Б. Уилер. Фиске, преподававший латынь, греческий и математику, был настоящей карикатурой на учителя старой школы. Длинные нечесаные волосы, пенсне, сползавшее с кончика носа, когда учитель садился на стул, вечно падающий карандаш. Однажды, когда Фицджеральда вместе с другими учениками оставили после школы, он спросил Фиске, знает ли тот какую-нибудь шутку на латыни. После недолгого раздумья Фиске произнес латинский каламбур, который никого не рассмешил. Этот случай продемонстрировал склонность Фицджеральда создавать смешное из самого неподходящего материала.
Уилер нравился Фицджеральду гораздо больше. Этот маленький жилистый мужчина с козлиной бородкой преподавал английский и историю, а также физкультуру. Впоследствии он вспоминал Фицджеральда как “жизнерадостного и энергичного юношу с белокурыми волосами, который еще в школе знал, чем будет заниматься в этой жизни.
…Я помогал ему, поощряя стремление писать рассказы о приключениях. В этом он был действительно хорош, но по остальным предметам не блистал. Он был изобретателен во всех пьесах, которые мы ставили, и запомнился тем, что читал свои произведения перед всей школой. Его не очень любили одноклассники. Он видел их насквозь и писал об этом… Я думал, он станет кем-то вроде актера варьете, но вышло иначе… Именно гордость за свои литературные произведения помогла ему понять, в чем состоит его истинное призвание.
Вскоре в школьном журнале написали, что “юный Скотти всегда делает вид, что знает больше всех”, спрашивая, не возьмется ли кто-нибудь его отравить или найдет другой способ, чтобы заставить его заткнуться. На уроках он вечно витал в облаках и, загородившись поставленным вертикально учебником географии, рисовал очередной “набросок”. Никто не обращал особого внимания на это необычное занятие, но невозможно было не заметить его поведение – заносчивое и агрессивное, словно он хотел сказать: “Теперь я еще никто, но у меня все впереди”.
Фицджеральд жил обособленной внутренней жизнью, однако не чурался и земных занятий, свойственных молодости. Наоборот, он обладал здоровым духом соперничества, особенно в спорте, хотя способности его оказались средними. Быстрый и довольно сильный, он был мелким и отличался неважной координацией движений. Однако он очень старался и мог заставить себя быть храбрым, словно имел собственное представление о герое, которому твердо решил соответствовать.
Однажды в схватке за мяч на футбольном матче Скотт получил удар в грудь и рухнул на землю. Через минуту он поднялся, полный решимости продолжить игру, но тренер заставил его уйти с поля (впоследствии выяснилось, что у Скотта сломано ребро). Хромая к скамейке запасных, он сказал: “Ладно, ребята, я сделал все, что смог, – теперь ваша очередь”. В другой раз он не удержал перепасованный ему мяч, что привело к проигрышу команды. Осознав цену своей ошибки, он расплакался, и товарищи стали его успокаивать:
“Брось, Скотти, забудь, – не так уж это важно”. Наверное, самый запоминающийся подвиг он совершил во время игры против более опытной команды средней школы центрального района. Когда капитан противника, самый массивный игрок на поле, ринулся в атаку после введения мяча в игру, команда Сент-Пола расступилась перед ним, словно воды Красного моря, и только Фицджеральд отважился перехватить соперника. Скотт снова получил травму и был вынужден покинуть поле. На следующий день приятель застал его лежащим в кровати – Скотт явно наслаждался ролью раненого ветерана.
На самом деле его увлекал не спорт, а зрелище. Скотт относился к спортивным соревнованиям как актер, желающий быть звездой, – если ему не доставалась роль питчера, капитана или квартербека, он мог отказаться выходить на поле. Однажды во время эстафеты он настоял на том, чтобы бежать на последнем этапе, желая, чтобы вся слава досталась ему. А когда в последнее мгновение соперник его опередил, Фицджеральд предпочел не проигрывать, а намеренно поскользнулся и упал.
В его характере присутствовала склонность к саморекламе, поощрявшаяся матерью. Она заставляла его петь для гостей (Скотт понимал, что это ошибка, потому что у него не было голоса), а когда они навещали монахинь из ордена Визитации, ему пришлось четверть часа стоять на крыльце и декламировать свои произведения. Он очаровал монахинь своей непосредственностью и искренней страстью. В том, что касалось самих слов – их цвета, формы, звучания, – Фицджеральду не было равных, но для того, чтобы придумать для этих слов идею, иногда приходилось блефовать. Так, например, он мог запомнить названия книг в книжных магазинах и уверенно рассказывать их содержание, даже не сняв с полки.
На такого живого мальчика, как Скотт, жизнь в доме бабушки действовала угнетающе. Каждое утро две его незамужние тетки, одетые во все черное, шли к мессе с молитвенниками в руках, а позже Молли, тоже в черном платье, шла в публичную библиотеку с сумкой книг, чтобы обменять их на новые. Позади ничем не примечательного дома с террасой находился узкий, засыпанный шлаком двор. Конюшни на другой стороне улицы принадлежали жителям соседних домов, и Фицджеральд любил наблюдать, как конюхи в резиновых фартуках и сапогах моют экипажи этих более состоятельных и привилегированных смертных.
Молли делала все, чтобы неудача отца не отразилась на детях. Благодаря ее связям в декабре 1909 года Скотта приняли в танцевальную школу, которая стала для него “обществом” до конца пребывания в Сент-Поле. Занятия с учениками проводились в “Рэмэли-Холле”, длинном зале с розовыми стенами и белой лепниной, похожей на сахарную пудру на торте. Учителем танцев в школе был профессор Бейкер, маленький круглый человечек с седыми усами и лысиной; иногда от него пахло ромом, что не мешало ему с завидной ловкостью демонстрировать па мазурки или тустепа. Время от времени – когда ему казалось, что ученики его не слушают, – он багровел и срывался на крик, что никак не вязалось с благородством и великолепием зала. “На прошлой неделе, – писал Фицджеральд в своем дневнике, – несколько мальчиков, включая Артура Фоли, Сесила Рила, Дональда Бигелоу и Лоренса Бордмена, отказались исполнять торжественное шествие парами. Они вышли из зала и принялись надевать (уличные) туфли. С мистером Бейкером едва не случился удар, но убедить их он не смог. Те из нас, кто остался, портили торжественное шествие всеми возможными способами, и теперь вместо него у нас три других танца”.
Дети из самых богатых семей подъезжали к “РэмэлиХоллу” на черных лимузинах с монограммами и гербами на дверцах; за рулем машин сидели шоферы в униформе. Менее состоятельных привозили мамы на семейных электромобилях, а совсем бедные приезжали на трамвае или тащились по сугробам с мешком для обуви, в котором лежали бальные туфли. Девочки носили кружевные платья из белого батиста или из муслина в мелкий горошек с яркими поясами, а волосы либо укладывали в высокую прическу с валиком, либо оставляли свободно ниспадать на плечи. Мальчики надевали синие шерстяные костюмы с брюками гольф. Раз в год в школе танцевали котильон, на который девочки могли выбирать себе пару.
Школа танцев была квинтэссенцией юношеского стремления к популярности, которое выражалось и в других формах. В те времена дети проводили на улице больше времени, чем теперь. Они ходили в походы в лес, катались на велосипеде и на роликах по Саммит-авеню, до позднего вечера играли в прятки и догонялки в больших дворах вокруг домов. Долгой зимой – именно отсюда у Фицджеральда появились сцены с морозным дыханием и санями – дети катались с гор на санях.
“И эти катания на санях, – вспоминал Фицджеральд. – Такое есть только в Миннесоте. Мы собирались часа в три дня, укутанные в теплые пальто и свитера, – румяные, бурлящие энергией девочки и мальчики, которые прятали свое смущение под напускной бравадой и то спрыгивали с саней, то вновь заскакивали на них под притворные крики и визг остальных. Часов в пять, уже в сумерках, мы добирались до цели; обычно это был клуб, где мы пили горячий шоколад, ели сэндвичи с курицей и танцевали под граммофон. Когда на улице становилось темно и мороз усиливался, миссис Холлис, миссис Кэмпбелл или миссис Уортон отвозили домой в лимузине кого-то из мальчишек, отморозившего щеки, а остальные слонялись по веранде, освещенной тусклым светом январской луны, и ждали саней. Отправляясь на прогулку, девочки всегда усаживались вместе, но на обратном пути этот порядок менялся. Компания разбивалась на смешанные группы по четыре или шесть человек, а некоторые и по двое. Были и те, кто не присоединялся ни к какой группе: впереди сидела косоглазая девочка и с преувеличенным вниманием разговаривала с гувернанткой, а сзади собирались несколько застенчивых мальчишек, перешептывавшихся и толкавших друг дружку локтями”.
Фицджеральд, как правило, нравился девочкам. Он умел поддержать разговор, и, даже если девочек оставляла равнодушными его красивая внешность, они не могли не признать его аккуратности и респектабельности. На вечеринках гольфы у него всегда были самыми белыми, норфолкская куртка (с карманами спереди и поясом) сидела как влитая, а высокий, пышный воротник плотно обхватывал крошечный узел галстука. Среди мальчиков его положение было несколько неопределенным. Он был легок в общении, но не открывался до конца – вероятно, из-за природной недоверчивости. Слишком необычный, чтобы стать лидером в широком смысле слова, он предлагал такое количество идей и проявлял такую изобретательность в их воплощении, что его правильнее было бы назвать катализатором. Он был организатором нескольких клубов с короткой, но бурной жизнью. Рука Фицджеральда чувствуется в обряде посвящения одного из них: “Первым был Сесил, и мы с Полом подвергли его самой жестокой процедуре инициации: он глотал сырые яйца, испытал на себе пилу, лед, иглу и погружение в воду”.
В присутствии Фицджеральда скука отступала. Представьте, что в дождливый вечер вы оказались вместе с ним в доме и возникает вопрос, чем себя развлечь. Фицджеральд листает телефонный справочник, останавливается на разделе
“Протезы конечностей” и снимает трубку. Без тени улыбки он звонит в компанию “Minnesota Limb & Brace Co.” и заказывает деревянную ногу. Его просят приехать на примерку, и он отвечает, что не может ходить на одной ноге. Тогда они предлагают приехать сами, но и тут у него находятся возражения. Скотт подробно расспрашивает компанию о продукции. Скрипит ли нога? (Тут вы уже смеетесь так громко, что он предостерегающе машет рукой.) Если скрипит, то каким сортом машинного масла следует ее смазывать? Можно ли снабдить ногу резиновой подошвой? Не сломается ли протез, если дать кому-то пинка? Удовлетворив свое любопытство, он повторяет процедуру с “St. Paul Artificial Limbs”, “United Limb & Brace” и “J. A. McConnell Co.”, которая хвастается, что у нее “самые современные протезы для ног, ампутированных выше колена”. Наконец Скотт устает. Час пролетел совершенно незаметно, и, кроме того, собрана полезная информация об искусственных конечностях, которая может пригодиться в будущем.
В Сент-Поле увлечение Скотта театром разделял Сэм Стерджес, сын армейского офицера. Каждое воскресенье они смотрели водевиль в театре “Орфей”, а затем разыгрывали увиденное на вечеринках. Фицджеральд так правдоподобно изображал пьяного, что некоторые девочки рассказывали матерям, что он пьет. Дурная слава Скотта нисколько не смущала – наоборот, он упивался репутацией тринадцатилетнего повесы.
Иногда он прикидывался пьяным в трамвае, а когда кондуктор пытался ему помочь, Фицджеральд с презрением отвергал помощь. Иногда они со Стерджесом изображали отца и сына, хотя были одного возраста и роста; Фицджеральд был отцом, Стерджес сыном. На просьбу оплатить проезд Фицджеральд начинал рыться в карманах, пока не извлекал на свет похожий на миниатюрную гармошку кошелек, в тридцати или сорока отделениях которого после тщательного осмотра не находилось мелочи. Когда кондуктор, исполняя свой долг, обращался к Стерджесу, Фицджеральд указывал на объявление, гласившее, что детям до шести лет билет не нужен. Кондуктор терял терпение, и тогда Стерджес начинал плакать. Фицджеральд громко жаловался на несправедливость, вызывая смех пассажиров. Цель розыгрыша состояла в том, чтобы дотянуть до холма на Селби-авеню, откуда до дома было рукой подать.
Умный, красивый и хорошо воспитанный Фицджеральд быстро стал популярен в Сент-Поле. Скотта наперебой приглашали к себе все, но его родители не общались с родителями его друзей – Эдвард и Молли Фицджеральд не имели доступа в высший свет города.
До Гражданской войны в городе всем заправляла аристократия. Иногда какой-нибудь недавний иммигрант пробивался в высшие слои, но по большей части общество состояло из представителей старинных, известных семей с Востока, которые отправились на Запад в поисках богатства или приключений. По большей части это были специалисты, свысока смотревшие на бизнес. Однако во время бума 60-х и 70-х годов XIX века появились влиятельные коммерсанты и банкиры. Часть старой аристократии вернулась на Восточное побережье, а часть переехала с Саммит-авеню, не желая терпеть соседство нуворишей. Во времена детства Фицджеральда в высшем свете все еще встречались аристократы с Востока, но их влияние быстро ослабевало под напором детей и внуков магнатов бизнеса, сделавших состояния на торговле бакалеей, обувью и скобяными изделиями. Аристократичность стала синонимом богатства, хотя благодаря сохранившимся связям с Востоком в Сент-Поле в большей степени, чем в других городах Северо-Запада, сохранилась иерархическая структура общества. В Сент-Поле жило третье поколение переселенцев, тогда как в Миннеаполисе, Канзас-Сити и Милуоки только второе[14]14
Сведениями о социальной структуре Сент-Пола я обязан миссис Блэр Фландрау (писательнице Грейс Фландрау). Семейства Сент-Пола, упоминаемые в “Великом Гэтсби” (“Ты будешь у Ордуэев? У Херси? У Шульцев?” (пер. Е. Калашниковой), относятся не к старой аристократии с Востока, а к нуворишам.
[Закрыть].
Тем не менее Сент-Пол был типичным городом Северо-Запада, в котором уважаемый человек должен был что-то делать, иметь солидный и прибыльный бизнес, а Эдвард Фицджеральд – обходительный, но в то же время загадочный – ничем себя не проявил. Молли могла бы претендовать на то, чтобы ее приняли в высшем обществе – Макквилланы принадлежали к “добрым старым переселенцам”, тогда как менее знатные семьи за одно или два поколения пробивались на самый верх. Однако Молли никак нельзя было назвать привлекательной; ее считали “туповатой”, а внешность ее – довольно странной. Ее желтоватого оттенка кожа удивительно рано покрылась сеткой морщин, под блеклыми глазами появились темные пигментные пятна, а постриженные лесенкой волосы были притчей во языцех. Дочери говорили матерям: “Ради бога, причешись, а то ты похожа на миссис Фицджеральд”. Она одевалась – по выражению одного из современников – как огородное пугало. Все на ней висело мешком. Перья на древних шляпках обвисли, словно постоянно попадали под дождь, а в ту пору, когда носили широкие и длинные юбки, ее юбки были еще длиннее, так что подол вечно волочился по пыли. Она была широковата для своего роста и ходила вразвалку, а при разговоре растягивала слова. Встретив вас после долгого перерыва, она могла вместо приветствия воскликнуть: “Ой, как вы изменились!” – сопровождая свои слова мрачным взглядом, намекавшим, что изменения произошли явно не в лучшую сторону. Если же вы явно похорошели, она начинала критиковать вашу шляпку и предлагать свои услуги в выборе новой.
При всем при том Молли была доброй женщиной, а окружающие нередко проявляли к ней жестокость. Они называли ее ведьмой, смеялись над ее ботинками на пуговицах, которые она носила, расстегнув верхние пуговицы, – у нее отекали ноги, и только такая обувь избавляла ее от мучений. Главной ее надеждой был сын, которого она любила так, как может любить женщина, разочаровавшаяся в муже. Однако Фицджеральд стеснялся матери – из-за ее неумения себя вести и полного отсутствия вкуса. (В первом своем романе как образец матери он описал знатную даму; она тоже была эксцентричной, однако эта эксцентричность проявлялась в мебельной обивке из белой кожи, коврах из тигровых шкур, пекинесах, а также туканах, которые питались исключительно бананами.) Фицджеральд ненавидел, когда мать его баловала – уговаривала прилечь или принять горячую ванну, – а от ее сентиментальности его просто коробило. Она развесила в его комнате всевозможные изречения, например: “Мир будет судить о матери главным образом по тебе”.
К отцу, который обладал отсутствовавшим у матери изяществом, Скотт относился снисходительнее. По воскресеньям Эдвард Фицджеральд брал в руки трость, надевал визитку и серые перчатки; он очень гордился сыном, который стремился ему подражать. Но жизнь была сурова к Эдварду Фицджеральду. Неудачи терзали его, и бóльшую часть времени он выглядел старым и угрюмым. Разочарование он пытался заглушить спиртным и пил больше, чем следовало бы, хотя – следует отдать ему должное – при этом не становился агрессивным.
Таким образом, Фицджеральд любил отца, но не мог его уважать; и при этом он был вынужден уважать мать за то, что на ней держалась семья, но любить ее ему было трудно.
Родители оказались далеки от идеала, и Фицджеральд, будучи законченным перфекционистом, находил утешение в том, что представлял себя найденышем. В “Романтическом эгоисте” (“The Romantic Egotist”), первом варианте романа “По эту сторону рая” (“This Side of Paradise”), герой рассказывает, что его нашли на ступеньках крыльца с запиской, сообщавшей, что он потомок королей из династии Стюартов. В рассказе “Отпущение грехов” (“Absolution”) мальчик убежден, что он не сын своих родителей, а Джей Гэтсби – “второе я” Скотта Фицджеральда – возник из “его платонического представления о самом себе”. В позднем автобиографическом произведении “Дом автора” (“Author’s House”) Фицджеральд вспоминает “свою первую детскую любовь к себе, свое убеждение, что я не умру подобно другим людям и что я не сын своих родителей, а потомок короля, который властвует над всем миром”[15]15
Отношение Скотта Фицджеральда к семье перекликается с чувствами, которые испытывал к родным Джойс. Дома Джойс чувствовал “свою собственную бесплодную отчужденность”. “Он почти не ощущал кровной связи с ними, скорее какую-то таинственную связь молочного родства, словно он был приемыш, их молочный брат” (Портрет художника в юности. Пер. М. Богословской-Бобровой).
[Закрыть].
Осенью 1909 года, на втором году обучения в школе Сент-Пола, Фицджеральд начал публиковаться в школьном журнале. В его первом произведении “Тайна Рэймонда Мортгейджа” (“The Mystery of the Raymond Mortgage”) чувствовалось влияние Гастона Леру и Анны Кэтрин Грин, детективные рассказы которых он читал запоем и тщательно анализировал. Впоследствии он писал о том восторженном состоянии, в которое его привел литературный дебют.
Мне никогда не забыть то утро понедельника, когда должен был выйти номер. В субботу я в отчаянии бродил по типографии и довел до белого каления печатника своими просьбами дать экземпляр еще не сброшюрованного номера – но был вынужден удалиться, едва не расплакавшись. До понедельника я больше ни о чем не мог думать, и, когда на перемене доставили большую стопку журналов, я был так возбужден, что буквально подпрыгивал на стуле и бормотал: “Вот они! Вот они!” – чем вызвал удивление всей школы. Я прочел свой рассказ не меньше шести раз и весь день бродил по коридорам и подсчитывал количество тех, кто его читал, небрежно задавая вопрос: “А ты читал этот рассказ?”
В течение следующих двух лет Фицджеральд опубликовал еще три рассказа. Один из них под названием “Рид, на замену!” (“Reade, Substitute Right Half ”) повествует о том, как “белокурый юноша” выходит на поле, когда его команда проигрывает, и в одиночку вносит перелом в игру. В “Долге чести” (“A Debt of Honor”) генерал Ли помиловал заснувшего на посту солдата армии Конфедерации, а в битве при Чанселлорвилле этот солдат, жертвуя жизнью, совершил геройский поступок. “Комната с зелеными шторами” (“The Room with the Green Blinds”) – это смесь исторических фактов и вымысла. Фицджеральд представляет, что после убийства Линкольна Джону Уилксу Буту удается скрыться, и он много лет скрывается в разрушенном поместье на Юге. В конечном счете его ловят и казнят.
Весной 1911 года в жизни Фицджеральда появилось новое увлечение. Штаб-квартира его группы располагалась во дворе дома Эймса, номер 501 по Гранд-авеню. “Во всем этом было что-то детское, – вспоминал он. – …Двор вечно был погружен в густую тень, но здесь почти все время что-то цвело, слонялись терпеливые собаки, а в траве виднелись коричневые пролысины, оставленные колесами велосипедов и подошвами ног, использовавшимися для торможения”. Здесь дети играли в догонялки и прятки, делились секретами в сооруженном на дереве шалаше, демонстрировали свою ловкость на кольцах и турнике. Иногда мальчики выдергивали ленты из волос девочек и убегали, возвращая трофей лишь в обмен на поцелуй – легкое прикосновение губами к щеке. Именно здесь Фицджеральд испытал “первое слабое влечение пола”, впоследствии описанное в рассказах о Бэзиле Дьюке Ли, который и являет собой портрет художника в юности.
Лениво гарцуя на одном колесе, Бэзил подкатил к Имоджен Биссел. Должно быть, что-то в его лице привлекло ее, поскольку она посмотрела на него снизу вверх, посмотрела по-настоящему, и медленно улыбнулась. Она обещала через несколько лет стать настоящей красавицей, королевой выпускных балов. Сейчас ее большие карие глаза, крупный, прелестно очерченный рот и яркий румянец на узких скулах делали ее похожей на эльфа и раздражали тех, кто хотел, чтобы дети выглядели по-детски. Впервые в жизни он понял, что девочка – существо совершенно противоположное и в то же время неотъемлемое от него самого, и ощутил теплый холодок удовольствия, смешанного со страданием. Это было вполне определенное ощущение, и он тут же его для себя отметил. Внезапно Имоджен вобрала в себя весь этот летний вечер – ласковый воздух, тенистые кустарники, цветочные клумбы, оранжевый солнечный свет, голоса и смех, бренчание далекого рояля; вкус этих примет соединился с обликом Имоджен, улыбавшейся ему снизу вверх[16]16
Фицджеральд Ф. С. Собиратели компромата. Пер. Е. Петровой.
[Закрыть].
Прообразом Имоджен Биссел была Мари Херси. А Хьюберт Блэр, который в рассказе отбивает Имоджен у Бэзила, – это Рубен Уорнер. Он был на год младше Фицджеральда и обладал неким животным магнетизмом, чисто мужской привлекательностью, и более чувствительный и интеллектуальный Фицджеральд не мог с ним соперничать. Он был самоуверенным парнем, человеком действия – таким, каким всегда хотел стать Фицджеральд. Уорнер танцевал чечетку, играл на барабане, был отличным спортсменом, мастерски проделывал всякие трюки и фокусы – словом, был центром внимания. И Фицджеральду, подобно Бэзилу, пришлось с некоторой грустью признать, “что мальчики и девочки всегда будут слушать его, пока он говорит, внимая каждому слову, но никогда не посмотрят на него так, как на Хьюберта”.
Вспоминая эту наполненную страстью весну, последнюю весну в школе Сент-Пола, Фицджеральд писал: “Мое воображение бунтовало по утрам, когда свежий ветер задувал в открытые [в школе] окна, и длинными прохладными вечерами, когда я [с Бобби Шурмейером] шел в центр города к бирже и смотрел курс акций, а потом возвращался домой при романтическом свете фонарей. Двор [Эймса] стал нам неинтересен, и мы жаждали простора; бродя вечерами по полутемным улицам, мы мечтали и строили воздушные замки. В своих грезах мы уносились на Монмартр, где мы будем ужинать вместе, когда нам исполнится двадцать один, к международным интригам в атмосфере кафе, опасных женщин и тайных посланий”.
Летом Фицджеральд начал курить, и у него появились длинные брюки – в преддверии осени, когда он должен был отправиться на Восток в пансион[17]17
Сестра Фицджеральда рассказывала мне, что тетушка Аннабел Макквиллан отправила ее учиться в “Розмари-Холл”, но не оплатила пребывание Фицджеральда в Ньюмене, как считалось прежде. Тем не менее тетя Аннабел предложила оплатить учебу Фицджеральда в колледже, если он поступит в Католический университет Джорджтауна, выпускником которого был его отец.
[Закрыть], поскольку родители решили, что его следует дисциплинировать. Незадолго до отъезда его очаровала песня молодого композитора Ирвинга Берлина. Песня называлась “Alexander’s Ragtime Band”, и в ней чувствовалось биение нового века.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?