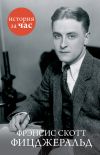Текст книги "Фрэнсис Скотт Фицджеральд"

Автор книги: Эндрю Тернбулл
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава четвертая
На дополнительных экзаменах в сентябре
Фицджеральд не набрал необходимых баллов, но, к счастью, в университете существовала апелляционная коллегия. Абитуриенты, немного не дотянувшие до проходного балла, могли обратиться в приемную комиссию и с помощью уговоров и “споров” все-таки пробиться в Принстон. Личное присутствие Фицджеральда оказалось гораздо убедительнее его экзаменационных работ. Среди приводимых им аргументов был и такой: сегодня у него день рождения, и было бы жестоко отказать ему в такой день. Как бы то ни было, комиссия приняла его. 24 сентября Фицджеральд телеграфировал матери:
ПРИНЯТ ВЫСЫЛАЙ ПОЖАЛУЙСТА НАКОЛЕННИКИ И БУТСЫ НЕМЕДЛЕННО ЧЕМОДАН ПОЗЖЕ.
С наколенниками и бутсами можно было не торопиться. В те времена игроки университетских команд были на одиндва дюйма ниже и соответственно легче, чем теперь, однако пять футов и семь дюймов роста и сто тридцать восемь фунтов веса и тогда было слишком мало для игрока средних способностей, как Фицджеральд. Один из сокурсников вспоминал, как он в черной майке команды школы Ньюмена с белыми полосками на рукавах отрабатывал перехваты мяча – энергичный, старательный юноша с развевающейся копной белокурых волос. Впоследствии Фицджеральд писал о “наплечниках, за один день разбитых первокурсником на футбольном поле Принстона”, но автору этих строк признавался, что продержался три дня и ушел едва ли не с почетом, заработав травму лодыжки. (Герой его романа “По эту сторону рая” сильно травмирует колено и выходит из строя до конца сезона.) Как бы то ни было, к великому сожалению Фицджеральда, прославиться на футбольном поле ему было не суждено. Следовало найти другой способ привлечь к себе внимание.
Между тем он оценил красоту Принстона, который в те времена был меньше и спокойнее, чем сегодня. Железнодорожные пути подходили прямо к подножию лестницы, а Нассау-стрит оставалась незамощеной. Стадион “Палмер” только строился и должен был открыться следующей осенью. Фицджеральда сразу же охватило благоговение перед этим студенческим городком, где “колледж Уидерспун, как отец в темных одеждах, осеняет своих ампирных детей Вигов и Клио, где Литл черной готической змеей сползает к Паттону и Койлеру, а те, в свою очередь, таинственно властвуют над тихим лугом, что отлого спускается до самого озера… и надо всем – устремленные к небу в четком синем взлете романтические шпили башен Холдер и Кливленд”[23]23
Фицджеральд Ф. С. По эту сторону рая. Пер. М. Лорие.
[Закрыть].
В один из сентябрьских вечеров, сидя на ступеньках общежития, Фицджеральд наблюдал за парадом старшекурсников, который он впоследствии описал в романе “По эту сторону рая”. В белых рубашках и брюках, взявшись за руки и вскинув головы, они маршировали по Юниверсити-плейс, распевая бравурную “Все назад – в Нассау-Холл” (“Going Back to Nassau Hall”), написанную три года назад.
Призрачная процессия была уже близко, и Эмори закрыл глаза. Песня взмыла так высоко, что выдержали одни тенора, но те победно пронесли мелодию через опасную точку и сбросили вниз, в припев, подхваченный хором. Во главе колонны шагал футбольный капитан, стройный и гордый, словно помнящий, что в этом году он должен оправдать надежды всего университета, что именно он, легковес, прорвавшись через широкие алые и синие линии, принесет Принстону победу[24]24
Фицджеральд Ф. С. По эту сторону рая. Пер. М. Лорие.
[Закрыть].
Капитан футбольной команды Принстона Хобарт Бейкер, полузащитник весом в сто шестьдесят семь фунтов, был настоящим Адонисом. В те времена товарищи Фицджеральда были еще больше склонны поклоняться кумирам, чем современная молодежь. Члены университетской футбольной команды приравнивались к полубогам, а “Хоби” Бейкер, капитан футбольной команды и звезда хоккея, был вознесен на недосягаемую высоту. Но Бейкер не слишком зазнавался. Время от времени он спускался с Олимпа, чтобы пообщаться с первокурсниками, и в октябре Фицджеральду даже удалось поговорить с ним.
Студенческие традиции предписывали первокурсникам держаться в определенных рамках. Им запрещалось покидать свои комнаты после девяти вечера, ходить по траве, курить трубку на территории студенческого городка; они должны были носить брюки без манжет, стоячие воротники, черные галстуки, туфли и подтяжки (тогда их носили все), а также черные шапочки. Первые десять дней считались “испытательным сроком” – не слишком тяжелым, но довольно унизительным. Второкурсники могли заставить их танцевать с закатанными до колен брюками или маршировать строем до здания столовой. Первокурснику, одетому в нарядный костюм в клетку, могли предложить снять пиджак и сыграть на нем в шашки с приятелем. Враждебность между новичками и второкурсниками достигала кульминации во время “штурма”, когда первокурсники штурмовали спортзал, защищаемый старшими. Эта забава проходила под наблюдением студентов старших курсов, но без травм все равно не обходилось. Во время учебы Фицджеральда в университете “штурм” запретили после того, как одного первокурсника затоптали до смерти его же товарищи. Испытательный срок для первокурсников к тому времени тоже отменили, правила в отношении одежды стали менее строгими.
И все же эти университетские обычаи, критикуемые как бессмысленные и глупые, создавали особую атмосферу и корпоративный дух, которые так нравились Фицджеральду. Из ограниченного мирка пансиона он попал в новую обстановку, и его жажда жизни и любопытство не знали границ. Он стремился видеть, знать, везде побывать, все почувствовать и попробовать. Страстное желание во всем участвовать и все испытать делало его очень привлекательным. Он торопился навстречу жизни, стремясь с головой погрузиться в нее и не желая ждать, пока она сама к нему придет.
В те годы разница между выходцами с Востока и Запада, между городскими и деревенскими, а также между выпускниками подготовительных и средних школ была заметнее, чем сегодня. Фицджеральд быстро усвоил принятые правила поведения и приспособился к ним. В общей столовой, где студенты питались первые два года, он быстро выявил лидеров и “знать” – в отличие от “зайцев” или “птиц”, как тогда называли низшие сословия. Он уважал тех, кого считал выше себя, но относился к ним без подобострастия. Например, он не пытался занять свободное место рядом со старостой курса, но запоминал тех, кто к этому стремился. Он подмечал все, в том числе такие мелочи, как отношение однокурсников к родителям, когда те приезжали в гости, – такой-то прогуливался по студенческому городку в обнимку с матерью, но почти не разговаривал с отцом. Такие наблюдения говорили Фицджеральду о многом.
Фицджеральд вместе с девятью другими первокурсниками, среди которых был Сап Донахью и еще несколько выпускников Ньюмена, жил в доме номер 15 по Юниверсити-плейс, известном как “Морг”. Устроившись в комнатах и купив всевозможные знамена, плакаты, подушки и курительные трубки, они усаживались в холле на первом этаже и наблюдали, как их однокурсники направляются в столовую. Это стало привычным занятием для начинающего писателя, которому никогда не надоедало изучать своих товарищей, подглядывать за ними и изобретательно испытывать их принципы и ценности. К чему стремится тот или иной студент? Удастся ли ему этого достичь? Откуда он приехал? Что с ним станет, если его лишить того или иного качества?
– Вон Том Хиллард! – восклицал Фицджеральд, когда мимо окна проходила группа студентов из школы СентПола. – Высоко метит.
Фицджеральд заранее узнал о клубах старшекурсников, в которые студентов приглашали весной на втором году обучения. До той поры говорить об этом считалось неприличным, но у Фицджеральда имелся список однокурсников с указанием клуба, который подходил каждому из них.
Жизнь в “Морге” была наполнена обычными для первокурсника развлечениями. Тут были и турниры по борьбе, и битвы на подушках, и бесконечные игры в покер. Бывали и ссоры, во время которых мировые проблемы разрешались к всеобщему удовлетворению. Когда выяснилось, что газ в дом подается сверху, живший на последнем этаже Фицджеральд в критические моменты стал перекрывать газ. Еще он имел обыкновение вваливаться к кому-нибудь в два или три часа ночи и заводить разговор, вышагивая перед зеркалом.
Отражение в зеркале внушало надежды – на него смотрел красивый, дерзкий, ни на кого не похожий блондин. Кто-то из товарищей даже сравнил его с героем мифов Нарциссом. Теперь он носил прямой пробор (в Ньюмене зачесывал волосы набок) и в официальных случаях приглаживал волосы, но остальное время они были слегка растрепаны – следствие неугомонного характера. Его бледная чистая кожа розовела на холоде или при физическом напряжении, хотя в ту пору ее несколько портили юношеские угри. Фицджеральд предпочитал костюмы фирмы “Brooks Brothers”; на первом курсе он носил серо-зеленый шерстяной костюм из ткани типа ирландского бобрика, который ему очень шел. Следуя моде, он отгибал кончики воротника на пуговицах, в результате чего пуговицы расстегивались и строгий галстук выпячивался под нужным углом.
Время от времени он вместе с приятелями отправлялся в Трентон – в бар или на эстрадное представление. Виски Фицджеральд впервые попробовал предыдущей весной и во время поездки в Нью-Йорк шокировал Сапа Донахью тем, что выпил несколько порций подряд. Опьянев, он стал дурачиться – взял Сапа за руку и начал обращаться с ним как с сыном, чем немало позабавил прохожих. Фицджеральд плохо переносил спиртное, но в студенческие годы пил мало. В те времена родители все еще обещали сыновьям золотые часы, если те будут воздерживаться от алкоголя до двадцати одного года. В студенческом городке любые спиртные напитки были запрещены, и на нетрезвых студентов смотрели с осуждением, поэтому Фицджеральд – как и большинство современников – ограничивался пивом в салунах на Нассау-стрит.
Он мечтал о сотрудничестве с юмористическим журналом “The Tiger” и с журналом “The Triangle”, где публиковались музыкальные комедии. После опубликования маленькой неподписанной заметки в первом номере “The Tiger” Фицджеральд засыпал журнал простенькими стишками, шутками на тему отношений мужчины и женщины и скетчами с претензией на юмор. Он поджидал редактора у дверей аудитории, совал ему рукописи на Нассау-стрит. Редактор, собиравшийся покинуть свой пост, устал сопротивляться и опубликовал второй фельетон Фицджеральда.
“The Triangle” оказался крепким орешком. Пачки предложенных Фицджеральдом стихов неизменно отвергались – журнал отдавал предпочтение песням, которые сочиняли известные старшекурсники. Проявив настойчивость, Скотт устроился осветителем в старое казино, где проходили репетиции спектаклей. Он все время сочинял, иногда вскакивая глубокой ночью и разбрасывая по полу исписанные листки, которые утром, не читая, отправлял в мусорную корзину. Учеба была у Фицджеральда на последнем месте. На первом курсе он пропустил 49 дней – максимум, превышение которого грозило наказанием. Он дремал на лекциях и ловко уклонялся от вопроса профессора, который иногда пропускал мимо ушей: “Все зависит от того, как на это посмотреть, сэр, – существует субъективная и объективная точка зрения”.
У Фицджеральда не было тяги к наукам, хотя во всех остальных отношениях колледж ему нравился. Его привлекала вечная конкуренция за влияние и статус, и он был уверен, что его таланты обязательно пробьют ему дорогу. Его волновала поэзия Принстона – яркие толпы на футбольных матчах, обрывки песен, разносящиеся по территории студенческого городка, мягкий свет фонарей на Нассау-стрит, ночной шепот на аллее перед Уидерспуном.
По пути домой на Рождество Фицджеральд ощутил прелесть родного края, чувство, которое так ярко описал в романе “Великий Гэтсби” (“The Great Gatsby”), – в отрывке перед самой концовкой, который вздымается подобно огромной океанской волне, смывая всю накопившуюся грязь и мерзость.
Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни – это поездки домой на рождественские каникулы, сперва из школы, поздней – из университета. Декабрьским вечером все мы, кому ехать было дальше Чикаго, собирались на старом полутемном вокзале Юнион-стрит; забегали наспех проститься с нами и наши друзья-чикагцы, уже закружившиеся в праздничной кутерьме. Помню меховые шубки девочек из пансиона мисс Такой-то или Такой-то, пар от дыхания вокруг смеющихся лиц, руки, радостно машущие завиденным издали старым знакомым, разговоры о том, кто куда приглашен (“Ты будешь у Ордуэев? У Херси? У Шульцев?”), длинные зеленые проездные билеты, зажатые в кулаке. А на рельсах, против выхода на платформу, – желтые вагоны линии Чикаго – Милуоки – Сент-Пол, веселые, как само Рождество.
И когда, бывало, поезд тронется в зимнюю ночь, и потянутся за окном настоящие, наши снега, и мимо поплывут тусклые фонари висконсинских полустанков, воздух вдруг становился совсем другой, хрусткий, ядреный. Мы жадно вдыхали его в холодных тамбурах на пути из вагона-ресторана, остро чувствуя, что кругом все родное, – но так длилось всего какой-нибудь час, а потом мы попросту растворялись в этом родном, привычно и нерушимо.
Вот это и есть для меня Средний Запад – не луга, не пшеница, не тихие городки, населенные шведами, а те поезда, что мчали меня домой в дни юности, и сани с колокольцами в морозных сумерках, и уличные фонари, и тени гирлянд остролиста на снегу, в прямоугольниках света, падающие из окон[25]25
Фицджеральд Ф. С. Великий Гэтсби. Пер. Е. Калашниковой.
[Закрыть].
Фицджеральд радовался дому и старым друзьям, но кругозор его расширился, и Сент-Пол теперь казался ему провинциальным. Ему хотелось встряхнуть этих людей, вывести из состояния самодовольства и самоуспокоенности. “Я намерен сделать вас персонажем моего рассказа, – говорил он девушке, сидевшей рядом с ним на званом обеде, намекая, что вот-вот начнет печататься. – Какой бы вы хотели себя видеть?” Гостью города он мог спросить: “Вы действительно самая богатая воспитанница пансиона?” – а для девушек из католических семей у него был приготовлен другой вопрос: “Вы верите в Бога?”
После каникул его ждала заслуженная кара в виде зимней сессии. Он провалил три экзамена, а четыре сдал с самыми низкими оценками и едва избежал отчисления. В марте он принялся за сценарий для “The Triangle”, к чему его побудил новый президент клуба Уокер Эллис. Этот блестящий студент третьего курса, выходец из богатой космополитической семьи из Нового Орлеана, казался Фицджеральду верхом совершенства.
К концу апреля у “The Triangle” остались всего два сценария, между которыми предстояло сделать выбор: Фицджеральда и студента второго курса Лоутона Кэмпбелла. Фицджеральд и Кэмпбелл не были знакомы, и Эллис изо всех сил старался держать их на расстоянии, используя друг против друга. 15 мая Кэмпбелл представил окончательный вариант. Они с Эллисом обсуждали его в комнате Эллиса, когда вдруг появился Фицджеральд, запыхавшийся после быстрого подъема по лестнице. Его волосы были растрепаны, глаза горели огнем – в них можно было прочесть самые разнообразные чувства: подозрение, нетерпение, любопытство, мягкий юмор, сочувствие, иронию. В руке он держал рукопись.
– Кэмпбелл уже здесь? – спросил он.
– И Кэмпбелл, и его пьеса, – ответил Эллис и познакомил соперников.
Они подружились, и следующие несколько недель Фицджеральд часто заглядывал к Кэмпбеллу, чтобы узнать, не объявили ли результаты конкурса. Фицджеральд не хотел рисковать: чтобы улучшить свой стиль, он погрузился в тексты классических комических опер Гилберта и Салливана, стал изучать диалоги Оскара Уайльда. В конечном счете победила его пьеса – в основном из-за стихов, самых оригинальных из всех, какие когда-либо предлагались “The Triangle”. Эллис переделал сценарий и поставил на нем свое имя, но Фицджеральд на своем экземпляре написал: “Автор текста и песен Ф. Скотт Фицджеральд, 1917 год. Редакция Уокера Эллиса, 1915 год”.
На первом курсе усилия Фицджеральда были сосредоточены на “The Triangle”, однако этим дело не ограничивалось. Совершенно случайно он познакомился с необыкновенно одаренным студентом. Вот как описывает их первую встречу сам Джон Пил Бишоп:
[Фицджеральд], как и я, только что приехал в Принстон. Столовая для первокурсников еще не работала, и мы оказались рядом за круглым столом в кафе “Павлин”. Я в первый раз отправился гулять один – поначалу ребята из одной школы старались держаться вместе. Совершенно случайно я сел рядом с этим парнем, и у нас быстро завязался разговор; вскоре все ушли, и мы остались вдвоем. На зеленую улицу снаружи опускались сентябрьские сумерки; зажегся свет, осветив стены, оклеенные обоями, на которых важно расхаживали крошечные павлины, волоча хвосты среди пышной зелени. Я узнал, что Фицджеральд написал пьесу, которую поставили в школьном театре. Со столов убрали посуду, и вокруг нас расселись другие студенты. Мы обсуждали книги: те, что прочел я (не так много), те, что прочел Фицджеральд (еще меньше), и те, которые он говорил, что прочел (их было гораздо, гораздо больше).
В романе “По эту сторону рая” Бишоп выведен под именем Томаса Парка Д’Инвильерса – парня со “скрипучим, добрым голосом” и внешностью ученого, который плохо разбирался в реалиях общества. Традиции Принстона предписывали не выказывать слишком серьезного отношения к учебе, но Бишоп был явным “книжным червем”. Хуже того – он писал стихи об увитых цветочными гирляндами фавнах и умирающих девах для интеллектуального “Nassau Lit” и играл в изысканных пьесах, ставившихся “Английской театральной ассоциацией”. Кое-кто из студентов считал его смешным, напыщенным британцем – за манеру растягивать гласные в словах.
Но для Фицджеральда он был доброжелательным, щедрым и вдохновляющим товарищем с неожиданной склонностью к сквернословию и грубым шуткам. Бишоп умел заразительно смеяться, откидывая голову. “Даже на первом курсе, – вспоминал один из преподавателей, – манера держаться и самообладание Джона делали его похожим на английского лорда”. Из-за перенесенной в детстве болезни он поступил в Принстон в двадцать один год и казался гораздо старше однокурсников – прямо-таки юный профессор. Он превосходно разбирался в литературе, особенно в поэзии, и поэтому оказал серьезное влияние на круг чтения Фицджеральда.
В отличие от того, что дал Бишоп Фицджеральду, определить то, что получил он сам, гораздо сложнее; возможно, именно об этом говорится в милом реквиеме “Часы” (“The Hours”), посвященном Фицджеральду:
Ты пришел, вселяя надежду, словно весна,
С волосами цвета нарцисса,
Вдохновенный, как ветер, когда леса без листвы,
А в молчании зреет песня.
Для западного мира лето 1914 года было таким же, как предыдущие. В эти последние мгновения викторианской безмятежности война казалась далекой и волнующей, и, когда в Европе начались военные действия, Фицджеральд следил за наступлением немцев на Париж с чисто спортивным интересом. Потом он почти забыл об этом, хотя, подобно Эмори из романа “По эту сторону рая”, “если бы война тут же кончилась, он разозлился бы, как человек, купивший билет на состязание в боксе и узнавший, что противники отказались драться”.
Фицджеральда больше интересовала его третья пьеса для Елизаветинского театрального клуба. Несмотря на изобилие таких фраз, как “Вне всякого сомнения, вы поняли, куда я клоню, или мне повторить?”, газеты назвали “Разрозненные чувства” (“Assorted Spirits”) “уморительным фарсом, исключительно тонким”. И вновь Фицджеральд собрал полный зал Молодежной христианской организации. Во время повторного спектакля в яхт-клубе в тот момент, когда в первом акте на сцене появился призрак, неожиданно с громким хлопком перегорели пробки и во всем здании погас свет. Женщины закричали, и могла начаться паника, но Фицджеральд прыгнул на сцену и удерживал публику импровизированным монологом, пока свет не зажегся вновь.
В сентябре Фицджеральд вернулся в Принстон и обнаружил, что отлучен от клуба “The Triangle”. В весеннюю сессию его оценки несколько улучшились, и он вполне удовлетворял критериям “достойного второкурсника”, но ему не разрешили играть в спектаклях и выезжать на гастроли в другие города. Отныне на репетициях он занимался сценографией и режиссурой. Кроме того, он переписывал и доводил до совершенства стихи, которые перекладывали на музыку.
Теперь он жил один в доме номер 107 по улице Паттон, в комнате-башенке, окна которой выходили на леса и поля, спускавшиеся к озеру Карнеги. “The Triangle” отнимал почти все его время, однако он продолжал наблюдать за однокурсниками и их занятиями и знал о них больше, чем они подозревали. В целом его оценка других людей была объективной и доброжелательной, хотя тех, кто ему не нравился, он мог уничтожить несколькими язвительными репликами. Учеба оставалась у него не на первом месте. На занятиях по химии он не обращал внимания на формулы и вместе со своим соседом сочинял стихи. Преподаватель английской литературы по прозвищу Рип Ван Винкль сумел произвести на него впечатление, и он посещал литературные вечера на квартире преподавателя, где студенты потягивали чай с ромом и читали стихи Шелли и Китса.
В декабре “The Triangle” отправился на гастроли – без Фицджеральда, который тем не менее разделил успех спектакля “Фу-ты ну-ты!” (“Fie! Fie! Fi-Fi!”). “Эта милая маленькая пьеска, – писала газета “Brooklyn Citizen”, – была анонсирована как музыкальная комедия, но это не совсем так, поскольку такое название присваивают бесчисленным бродвейским постановкам, не отличающимся подобной живостью, блестящим юмором и настоящей музыкой”. “Своим успехом, – отмечала “Baltimore Sun”, – постановка обязана по большей части прекрасным стихам Ф. С. Фицджеральда, который сочинил несколько превосходных “песен-скороговорок”. А газета “Louisville Post” сообщала следующее: “Слова песен написаны Ф. С. Фицджеральдом, которого уже теперь можно поставить в один ряд с самыми талантливыми авторами комических стихов в Америке”.
Похвалы вскружили Фицджеральду голову. “Успех “The Triangle”, – впоследствии признавался он однокурснику, – был самым худшим, что могло со мной произойти. Пока никто обо мне не знает, я довольно милый парень, но даже малая толика известности заставляет меня раздуваться, как жабу”.
Однажды Фицджеральда спросили, как ему удается заполучить самую красивую девушку на вечеринке, и он ответил: “Меня интересует только самое лучшее”. Поэтому не стоит удивляться, что во время рождественских каникул в СентПоле он стал флиртовать с Джиневрой Кинг из Чикаго, которая гостила в доме Мари Херси. Джиневра была ослепительно красивой брюнеткой с ярким румянцем, очень ценившимся в те времена, когда косметикой пользовались только актрисы. Ей было всего шестнадцать, и она училась в предпоследнем классе подготовительной школы Вестовер, но ей уже приходили пачки писем из Йеля, Гарварда и Принстона. Подобно Изабелле в романе “По эту сторону рая”, у нее была репутация “распущенной”, и ее считали способной на “очень сильные, хотя и недолговечные чувства”. Фицджеральд познакомился с ней за день до отъезда в Принстон, но не отпускал от себя все оставшиеся часы, такие короткие и волнующие. Отношения между Эмори и Изабеллой в романе “По эту сторону рая” отражают столкновение эгоистических натур Скотта и Джиневры. Сразу стало понятно, что Фицджеральд выделяется среди толпы поклонников Джиневры. Его считали трудной добычей, и он философствовал о “жизни” так, как этого не умели другие. Фицджеральд увлекся гораздо серьезнее – впервые в жизни он почувствовал, что попался.
По пути в Принстон он сочинил телеграмму, которую так и не отправил:
Дражайшая Джиневра, прошу прощения за неровный почерк, но рука у меня действительно нетвердая. Я только что выпил кварту сотерна и четыре порции “Бронкса”, чтобы отпраздновать встречу в поезде со своим однокурсником мистером Донахью.
После возвращения Фицджеральда в колледж у них с Джиневрой завязалась оживленная переписка. Джиневра обещала прислать ему фотографию в домашней обстановке, а взамен просила его снимок, потому что у нее остались лишь смутные воспоминания о льняных волосах, больших голубых глазах и коричневом вельветовом жилете, очень красивом. У Скотта уже появился повод для ревности. Он узнал, что после его отъезда из Сент-Пола Джиневра стала объектом внимания его старого соперника Рубена Уорнера, привлекательность которого усиливалась автомобилем “Stutz Bearcat”. Фицджеральд написал Уорнеру, требуя объяснений, однако ответ его не убедил:
Скотт, ты говоришь глупости, утверждая, что я вечно тебя обставляю, потому что мне точно известно, что ты ей нравишься больше, чем я. Черт возьми, это ты вечно меня обставляешь. Мы соперники, но в то же время остаемся друзьями. И это единственное утешение…
В среду утром мне позвонила Мари и спросила, не поеду ли я с ними покататься. Я согласился, и мы – я, Дж. К., Джонстон и Мари с миссис Херси и еще какой-то клушей в роли сопровождающей… Когда я увидел эту парочку, то сказал себе:
“Рубен, этот вечер для тебя потерян”. Но я все же стал сочинять план, как… (чтобы старухи не заметили). Готов поспорить, Дж. К. думала о том же.
Я размышлял уже минут десять, как вдруг Джиневра взяла муфту, положила на колени и сунула в нее руки… Я сидел как последний дурак, просто сидел – ты же знаешь, как трудно на что-то решиться. Тогда она (!!) толкнула меня своим милым локотком. Я посмотрел на нее, и она указала глазами на муфту. Вот так! Я сунул свою здоровенную лапу внутрь и наслаждался все оставшееся время. Когда я пожимал Дж. руку, она отвечала мне тем же… Потрясающе. Послушай, Скотт, я знаю, что ты никому об этом не расскажешь – правда? Потому что мы с тобой хотим здорово повеселиться следующим летом, если она приедет в Сент-Пол.
Доходившие до Фицджеральда слухи о других кавалерах выводили его из себя, но Джиневра утверждала, что он у нее на первом месте, и подтверждением тому, казалось, служили ее длинные письма. Она приглашала его посетить Вестовер, утверждая, что это было бы “счастье”. Разумеется, их встреча будет проходить в далеко не идеальных условиях – им придется сидеть в стеклянной гостиной под бдительным оком сопровождающей.
Фицджеральд приехал в один из февральских дней. Много лет спустя он описал свою встречу с Джиневрой в рассказе “Бэзил и Клеопатра” (“Basil and Cleopatra”):
Ослепительная и сияющая, еще более таинственная и желанная, чем прежде, несущая свои грехи, как звезды, Минни спустилась к нему в белом форменном платье, и его сердце екнуло от доброты ее глаз[26]26
Пер. Е. Петровой.
[Закрыть].
Джиневра считала визит Скотта огромным успехом и в следующем письме предложила писать друг другу каждый день, но Фицджеральд, мечты которого, как всегда, опережали реальность, был в отчаянии. Он писал Джиневре, что она устанет от его писем и они отдалятся друг от друга.
Он задавал ей немыслимые вопросы (“Опиши свое последнее любовное приключение”) и поговаривал о том, чтобы стать священником. Он морализировал: склонные к флирту девушки оказываются обделенными жизнью. Когда Джиневра приехала домой на весенние каникулы, ее рассказы о том, как она весело проводит время, были для него пыткой. “Даже теперь, – начинал он письмо, – ты можешь сидеть наедине с каким-нибудь “незнакомым чикагцем” с густыми темными волосами и ослепительной улыбкой”.
В марте студенты предпоследнего и последнего курсов начали обход второкурсников, приглашая их в университетские клубы. По вечерам Фицджеральд сидел в своей комнате вместе с Сапом Донахью и другими сокурсниками, ожидая шагов в холле, шарканья ног у двери и наконец стука. Перед представителями клубов, которые его привлекали, он разыгрывал милого, простодушного парня, очень общительного и не подозревающего о причине визита; тех же, кто был ему не нужен, он с удовольствием шокировал своим поведением. Уже известный старшекурсникам по работе в “The Triangle”, Фицджеральд нацелился на “Коттедж”, один из четырех “больших” клубов, президентом которого был Уокер Эллис. Возможно, он предпочел бы “Плющ” – “надменный и до ужаса аристократичный”, как он сам описывал его в романе “По эту сторону рая”, но “Коттедж” также рассматривал как достойную альтернативу. В конечном счете, рассмотрев предложения от клубов “Колпак и мантия”, “Квадрат” и “Пушка”, он вместе с Сапом Донахью отправился в “Коттедж” и напился до бесчувствия, празднуя это событие.
В “Коттедже” он оказался в разношерстной и не очень дружной компании. Возможно, ему было бы комфортнее в “Квадрате”, маленьком приятном клубе, где обосновался Джон Пил Бишоп и другие любители литературы с его курса, но Фицджеральд никогда не жалел о сделанном выборе. В Принстоне большие клубы всегда привлекали к себе внимание лидеров и тех, кто чем-то выделялся среди остальных, а Фицджеральд, как всегда, стремился пробиться на самый верх.
К этому времени Джиневра вернулась в относительное уединение Вестовера и Фицджеральд, успешно обосновавшись в “Коттедже”, решил, что пришло время пригласить ее на бал второкурсников. Джиневра очень обрадовалась, хотя и не знала, сможет ли мать сопровождать ее в поездке. Но надежда оставалась… Через несколько недель она написала, что мать в это время занята, Фицджеральд не стал обижаться, хотя его истинные чувства отразились в четверостишии Браунинга, которое он выписал себе в альбом:
Не знали мы жизни даров,
Не знали судьбы участья:
Слез, смеха, постов, пиров,
Волнений – ну, словом, счастья.
В качестве компенсации Джиневра пригласила его пойти с ней в театр, когда закончатся занятия в школе. Тем не менее их отношения принимали бурный характер. Фицджеральду казалось, что Джиневра поглядывает на других, тогда как все его мечты были связаны только с ней. В припадке дурного настроения он написал, что устал от нее, что она безвольна, что он сначала идеализировал ее, но вскоре понял свою ошибку. Джиневра ответила, что не виновата в том, что ее идеализировали, и Фицджеральд смягчился.
Если не считать сложных отношений с Джиневрой, та весна выдалась счастливой. Возможно, именно трудности в романтических отношениях с девушкой привели к серьезному изменению литературных пристрастий Фицджеральда. Сап Донахью вспоминал, как Фицджеральд влетел в комнату с книгой Фрэнсиса Томпсона “Небесная гончая” (“Hound of Heaven”), которую он только что прочел. В такие моменты Фицджеральд бывал вне себя от возбуждения. Литература была для него чем-то вроде наркотика: он мог ночами читать и писать в своей комнате-башенке, пока пепельницы не переполнялись окурками, а потом шел через погруженный в темноту студенческий городок по Нассау-стрит, чтобы перекусить картофельной соломкой с молоком в ресторанчике “Джо”.
Его имя стало появляться в “Nassau Lit”. В апрельском номере была напечатана его одноактная пьеса “Тенистые лавры” (“Shadow Laurels”), в которой рассказывается о французе, пытающемся расспросить о давно умершем отце в одном из винных погребков Парижа. Отец был пьяницей и гулякой, но доброй душой – нечто вроде невоспетого Франсуа Вийона. В рассказе “Суд Божий” (“The Ordeal”), опубликованном в июньском номере, Фицджеральд рассказывает об искушениях послушника, готовящегося принять монашеский обет. Столкновение духовных добродетелей и земных пороков показано с такой силой, что невольно возникает подозрение о религиозных сомнениях самого Фицджеральда.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?