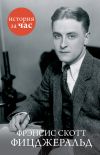Текст книги "Фрэнсис Скотт Фицджеральд"

Автор книги: Эндрю Тернбулл
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Однажды, когда солдаты его роты пожаловались на плохое питание, Фицджеральд вскочил на лошадь и заставил подчиненных совершить двойной марш-бросок по изнуряющей жаре. Это исключительное по своей жестокости наказание едва не привело к бунту; Фицджеральда отстранили от командования штабной ротой и назначили командиром минометного взвода. Во время маневров его взвод обстрелял – к счастью, болванками – группу солдат на противоположном склоне холма, однако Фицджеральд сумел и отличиться, когда в реке Таллапус затонула баржа и нужно было спасать не умеющих плавать солдат[36]36
Восемнадцать лет спустя Фицджеральд использовал эпизод с баржей в рассказе “На фронт я не попал…”.
[Закрыть]. В целом он был добросовестным офицером, по-своему заботившимся о безопасности и благополучии подчиненных, но его благие намерения часто оборачивались своей противоположностью. Так, например, рядовому составу не разрешалось тратить более пяти долларов в месяц на облигации “Займа свободы”. Фицджеральд так увлекся, что убедил некоторых солдат подписаться на сумму, вдвое превышавшую их месячное жалованье, и начальству пришлось потратить несколько дней, чтобы замять дело. “В целом мы относились к Фицджеральду примерно так, – вспоминал один из служивших с ним офицеров. – Если нам ставили важную задачу и в помощь выделяли Фицджеральда, мы предпочитали обходиться без него. Это вовсе не означало, что мы испытывали к нему враждебность. Наоборот, большинству из нас он нравился”.
В августе издательство “Scribners” вернуло роман, похвалив за оригинальность и сопроводив конкретными предложениями по его совершенствованию. Фицджеральд тут же принялся за работу, и к середине октября исправленная версия “Романтического эгоиста” отправилась в “Scribners”. На этот раз рукопись отвергли окончательно – несмотря на энтузиазм редактора по имени Максвелл Перкинс. Какое-то время Фицджеральду пришлось довольствоваться одной любовью – без славы.
Как бы то ни было, ухаживание за Зельдой принесло ему определенную известность. В любой компании она сразу же становилась центром внимания. Если танец казался ей скучным, она могла пройтись колесом по залу или попросить оркестр сыграть стремительный шотландский танец и исполнить соло. Во время поездки в Оберн на выходные она натерла ноги и попросила у своего кавалера теннисные туфли, а когда ее избрали королевой бала, вальсировала при свете прожекторов в этой хлюпающей и спадающей с ног обуви. Казалось, она все делает ради внешнего эффекта, но на самом деле это было не так. Ее выходки просто позволяли ей выпустить пар, были актом самовыражения – тем более приятным, что разыгрывались исключительно для себя самой.
Война в Европе заканчивалась, и Фицджеральд отчаянно хотел успеть на нее. Джон Пил Бишоп, только что прибывший на фронт, описывал, как их “патруль захватил трех пленных в настоящей рукопашной схватке”. В октябре дивизия Фицджеральда получила приказ о передислокации в Европу, и 26 октября он отправился на Север в качестве интенданта авангарда. Задержавшись в Принстоне, Фицджеральд не присутствовал при разгрузке в Хобокене, в результате чего было потеряно амуниции на несколько тысяч долларов. Отправку задержала эпидемия гриппа, а когда Фицджеральд с пристегнутой к ремню каской наконец ступил на борт транспортного судна, приказ отменили, и ему пришлось возвращаться в казармы Кэмп-Миллз на Лонг-Айленде. Затем было подписано перемирие, и война закончилась. К величайшему сожалению Фицджеральда, ему так и не пришлось участвовать в боях[37]37
В 1930 г. Фицджеральд так описывал свое отношение к войне: “Я не помню, чтобы я боялся идти на войну. Во-первых, я был католиком, а значит, верил в рай; во-вторых, я считал, что написал великий роман; в-третьих, в порту погрузки, где все и закончилось, я был так влюблен в Зельду, что не мог думать ни о чем другом. Я даже не боялся, что не справлюсь со своими обязанностями, хотя был уверен, что всех пехотных офицеров убивают, – вот почему я писал роман в лагере”. (Цитата из сна, который он записал для Маргарет Иглов.)
[Закрыть].
Джон Пил Бишоп, оказавшийся в окопах, смотрел на все это несколько иначе. “Мы живы… – писал он. – Мы будем жить; возможно, мы будем бедны, но, Господи, мы будем свободны… Скажи честно, ты поселился бы со мной в мансарде (можно и в подвале, но мансарда звучит лучше) где-нибудь поблизости от Вашингтон-Сквер? Мы будем снова бродить по Принстону благоухающими майскими ночами?.. Мы… вскарабкаемся по лестнице на Уидерспун и будем орать, чтобы нас услышали внизу, на Нассау. Мы будем декламировать Китса, прогуливаясь в сумерках по зеленой Будино-стрит, а потом вернемся к себе, чтобы говорить всю ночь напролет”.
В Кэмп-Миллз Фицджеральд вел себя так странно, что командование запретило ему покидать территорию, а когда пришло время возвращаться в Кэмп-Шеридан, его нигде не могли найти. Прошел слух, что днем раньше он уехал в Принстон. Когда же его подразделение вечером прибыло на вокзал Вашингтона, на соседнем пути они увидели вагон, а в нем – Фицджеральда с двумя девушками и бутылкой вина. Он рассказывал всем, будто позаимствовал частный локомотив, заявив властям, что ему нужно передать секретные документы президенту Вильсону. Это была одна из его многочисленных выдумок, превратившихся в легенду.
Несмотря на этот проступок, его назначили адъютантом генерала Дж. А. Райана, командира 17-й пехотной бригады. “Этой милой синекурой”, как впоследствии выражался Фицджеральд, он был обязан своей приятной внешности и принстонскому образованию. Фактически он исполнял обязанности секретаря генерала. Во время парада его сбросила лошадь, и генерал приставил к нему сержанта, чтобы тот обучал его верховой езде, но в целом служба оказалась совсем не обременительной.
В январе от пневмонии неожиданно умирает монсеньор Фэй, и Фицджеральд пишет Шейну Лесли, что “мой маленький упорядоченный мирок со смертью одного человека разбился вдребезги”. Теперь ему будет не хватать успокаивающего присутствия Фэя, его сердечности и глубокого понимания! “У меня такое чувство, – писал он Лесли, – словно его мантия каким-то образом опустилась на меня, – наверное, это желание воссоздать атмосферу, которую он вокруг себя создавал”.
В феврале в полку Фицджеральда началась демобилизация, и первым со службы уволили офицера, растратившего небольшую сумму казенных денег. Вторым стал Фицджеральд. Нет, он не совершил ничего недостойного – просто без него можно было легко обойтись. “Как офицера, – признавался один из его сослуживцев, – Фицджеральда можно заменить кем угодно”.
Он демобилизовался 18 февраля и сразу же отправился в Нью-Йорк – в погоне за счастьем. Он уже сделал предложение Зельде, но девушка медлила с ответом, желая убедиться, что он способен содержать семью. Тем временем она не прогоняла и других поклонников. Зельда по-прежнему была королевой балов, и самыми опасными соперниками Фицджеральда стали летчики из Кэмп-Тейлора, которые снижались, пролетая над ее домом[38]38
Ошибочно предполагалось, что одним из соперников Фицджеральда был гольфист Бобби Джонс. Мистер Джонс писал мне, что мог быть знаком с Зельдой, но был на несколько лет ее младше и никак за ней не ухаживал.
[Закрыть].
По прибытии в Нью-Йорк Фицджеральд отправил Зельде телеграмму:
МИЛАЯ С ВОСТОРГОМ И УВЕРЕННОСТЬЮ СООБЩАЮ ЧТО ВСЕ ВЕЛИКОЛЕПНО ЭТОТ МИР ИГРА И ПОКА Я УВЕРЕН В ТВОЕЙ ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗМОЖНО Я ПРЕБЫВАЮ В КРАЮ ЧЕСТОЛЮБИЯ И УСПЕХА ВЕРЮ И НАДЕЮСЬ ЧТО МОЯ МИЛАЯ СКОРО БУДЕТ СО МНОЙ.
Глава седьмая
Четыре месяца после увольнения из армии Фицджеральд называл самыми яркими в своей жизни.
Нью-Йорк сверкал так, словно в первый день творения. Возвращающиеся войска маршировали по Пятой авеню, и навстречу им на Север и Восток устремлялись девушки, – это была величайшая нация, и атмосфера была пропитана праздником.
Сунув под мышку сочиненные для “The Triangle” стихи, он обежал редакции газет, но работы нигде не получил. Затем он познакомился с рекламным агентом, который направил его в агентство “Barron Collier”, где требовался сотрудник для сочинения рекламы в стихах. За девяносто долларов в месяц Фицджеральд придумывал рекламные слоганы, которыми расписывали трамваи. Много лет спустя он смеялся над успехом, который имела его реклама фабрики-прачечной в Маскатине в штате Айова. “За нее я получил прибавку к жалованью, – вспоминал он. – Возможно, это малость сложновато, сказал босс, но совершенно очевидно, что в рекламном деле вас ждет большое будущее. Скоро стены этой конторы станут вам тесны”.
Фицджеральд жил в доме номер 200 по Клермонт-авеню в районе Морнингсайт-Хайтс – “одна комнатка в высоком, ужасном многоквартирном доме у черта на куличках”, – но воображение уже рисовало ему номер для новобрачных, который он будет делить с Зельдой. Она присоединится к нему, как только он будет готов – то есть сможет обеспечить ей минимум комфорта. “Мне ненавистна мысль о жалком, бесцветном существовании, – писала она, – потому что скоро ты станешь любить меня все меньше и меньше”. Фицджеральд сообщил о своих намерениях ее родителям, а Зельда в свою очередь написала его матери, получив в ответ “всего лишь маленькую милую записку, непереводимую, но в которой она называла меня Зельдой”. В марте Фицджеральд послал Зельде обручальное кольцо.
Недели разлуки растягивались в месяцы, и жизнь Фицджеральда становилась невыносимой. Работа была скучной, и он никак не мог пристроить пьесы, рассказы, стихи, скетчи и шутки, которые сочинял в свободное время. Каждый вечер он спешил к себе домой и находил отвергнутую рукопись, которую тут же отправлял в другой журнал. Затем он сочинял что-нибудь новое, отсылал рукопись и заканчивал день бутылкой спиртного.
Однажды он столкнулся с Полом Дики, сочинявшим музыку на его стихи для “The Triangle”, и предложил попытать счастья на “улице луженых кастрюль”[39]39
Улица луженых кастрюль – собирательное название американской коммерческой музыкальной индустрии. Первоначально название относилось к 28-й улице на Манхэттене в Нью-Йорке, где с 1900 г. были сосредоточены ведущие музыкальные издательства, торговые и рекламные агентства, специализирующиеся на развлекательной музыке. – Примеч. пер.
[Закрыть], но Дики предпочел заняться семейным бизнесом. Фицджеральд часто ужинал в Йельском клубе, который временно объединился с Принстонским. Однажды, потягивая мартини в холле второго этажа, он объявил, что выбросится в окно. Никто не стал его останавливать – наоборот, ему указали на стеклянные двери, идеально подходившие для этой цели, и такая реакция, похоже, охладила его пыл. Выпив еще один коктейль, он стал жаловаться на свои несчастья. Двадцати долларов, которые он зарабатывал в неделю, едва хватало на дамское белье, которое он покупал в подарок Зельде. Кто-то заметил, что он, возможно, не стоит двадцати долларов в неделю, а если белье кажется ему слишком дорогим, не стоит его покупать. Но Фицджеральд считал себя жертвой несправедливости и на протяжении всего ужина рассказывал собеседникам о глупости и бессмысленности рекламного дела.
Часть свободного времени он тратил на поиски квартиры, и, когда неряшливая хозяйка квартиры в Гринвич-Виллидж сказала, что он может приводить девушек, он растерялся. Зачем ему приводить к себе девушек? У него есть девушка… Или нет? Письма Зельды оставляли почву для сомнений. Она упоминала о других мужчинах и описывала вечеринки, по всей видимости доставлявшие ей удовольствие. “Меня всегда интересовало, почему принцесс заточали в башнях”, – писал ей Фицджеральд, а в апреле Зельда ответила: “Скотт, у тебя такие милые письма, но я чертовски устала читать, что тебя “всегда интересовало, почему принцесс заточали в башнях”, – эта фраза повторяется в шести последних письмах. Наверное, так много писать ужасно трудно, и многие твои письма выглядят натянутыми. Я знаю, дорогой, что ты меня любишь, и я тоже люблю тебя больше всего на свете, но, если так будет продолжаться и дальше, мы просто не сможем поддерживать эту сумасшедшую переписку”.
На следующий день Фицджеральд поехал в Монтгомери, но ничего не добился. Зельда его очень любит, но не выйдет за него замуж. Он вернулся в “Barron Collier’s” в состоянии нервного истощения и принес с собой револьвер, который заметил кто-то из сотрудников агентства и незаметно похитил. Фицджеральд объяснил боссу свой прогул тем, что неотложные семейные дела требовали его присутствия в СентПоле, но затем во всем сознался и попросил его уволить. “Вы были необычайно добры, – заявил Фицджеральд, – но я не в состоянии приспособиться к рутине рекламного бизнеса и не заслужил снисхождения”. Босс посоветовал ему идти домой и немного поспать. На следующее утро Фицджеральд пришел на работу в бодром расположении духа.
Надежды возродило письмо Зельды, которая благодарила его за визит. “Сегодняшний день я провела на кладбище… – писала она, – пытаясь отомкнуть ржавую железную дверь склепа, встроенного в склон холма, – склепа, чисто вымытого дождем, поросшего поздними немощными водянисто-голубыми цветами, может быть выросшими из чьих-то мертвых глаз, липкими на ощупь, издающими запах гнили… Мне захотелось почувствовать, что значит “Уильям Рефорд, 1864”. Почему это могилы наводят людей на мысль о тщете жизни? Я столько слышала об этом, и Грей[40]40
Грей Томас – автор знаменитой “Элегии, написанной на сельском кладбище” (1751), проникнутой мыслью о смерти, перед которой все равны. – Примеч. пер.
[Закрыть] пишет так убедительно, но сама я не вижу ничего безнадежного в том, что какое-то время прожила на свете… Все эти поверженные колонны, сцепленные руки, голубки и ангелы дышали романтикой прошлого… Было бы приятно, если бы через сто лет кто-то молодой стал гадать, какие у меня были глаза, карие или синие, – разумеется, ни те ни другие, – я от души надеюсь, что моя могила будет производить впечатление очень, очень давнишней… Разве не странно, что из длинного ряда надгробий солдатам Гражданской войны только два или три вызвали у него мысль об умершей любви и умерших любовниках, хотя они были точь-в-точь такие же, как и остальные, во всем, вплоть до облепившего их желтоватого мха? Старая смерть так прекрасна, так упоительно приятна. Мы умрем вместе, я знаю, любимый мой”[41]41
Рассказ Зельды о кладбище почти дословно перенесен в роман “По эту сторону рая”.
[Закрыть].
Когда Фицджеральд писал, что век джаза начался с майских бунтов 1918 года, он, по-видимому, думал не об антисоциалистических демонстрациях, а о собственных ночных кутежах, возвестивших о начале десятилетия, летописцем которого он стал. После танцев, устраиваемых студентами Йеля в “Дельмонико”, он вместе со студентом третьего курса из Принстона по имени Портер Гиллеспи отправляется в ресторан “Чилдз” на пересечении 59-й улицы и Бродвея, где трезвеет расходящаяся после танцев публика. Сначала Фицджеральд сидит один, перемешивая мелко порубленное мясо, вареные яйца и кетчуп в шляпе Гиллеспи. Когда это занятие ему наскучивает, он подходит к одному из студентов Йеля, заводит с ним разговор, съедает его яйцо-пашот или пшеничные хлопья, пожимает ему руку и удаляется. Вскоре Фицджеральда рвет, и его выставляют из ресторана. Заканчивая есть, Гиллеспи наблюдает, как Фицджеральд пытается на четвереньках проскользнуть в ресторан каждый раз, когда открывается дверь.
На рассвете они возвращаются в “Дельмонико”, снимают с двери гардеробной таблички “Вход” и “Выход”, прикрепляют к рубашкам на груди и начинают представляться как “мистер Вход” и “мистер Выход”. Разбудив друзей в отеле “Билтмор” телефонным звонком, они направляются в старый отель “Манхэттен” и заказывают шампанское на завтрак. “Платишь ты, – говорит Фицджеральд Гиллеспи. – У твоего отца хватит на это денег”; таким способом Фицджеральд пытается выяснить, действительно ли отец Гиллеспи богат. Когда им отказываются подать шампанское, Фицджеральд подходит к священнику и спрашивает его: “Святой отец, вы можете представить что-либо более унизительное, чем отказ подать шампанское в воскресенье утром?” В конце концов им удается раздобыть шампанское в отеле “Коммодор”, и утро заканчивается тем, что они катают пустые бутылки по Пятой авеню среди спешащих в церковь прихожан.
Впоследствии Фицджеральд поместил выходки “мистера Входа” и “мистера Выхода” в рассказ под названием “Первое мая”, в котором также отразилось его отчаяние и ощущение краха. Не в состоянии найти работу иллюстратора, Гордон Стеррет опустился до того, что живет на подачки друзей (так глубоко сам Фицджеральд никогда не падал). В Стеррете воплотился ужас Фицджеральда – ужас поэта – перед нищетой, созвучный замечанию Эдгара По, который говорил, что никогда бы не поместил героя “Ворона” в атмосферу бедности, потому что “бедность банальна и противоречит идее Красоты”. Рассказ “Первое мая” – блестящий срез общества, отразивший самые разные стороны суматошной городской жизни. Здесь есть и студенты, и впервые вывезенные в свет девушки – эту среду Фицджеральд хорошо знал, – а также клерки, официанты, продавщицы, полицейские и вернувшиеся с войны солдаты. Нападение толпы на социалистическую газету отражает реальный разгром “New York Call”. А самоубийство Стеррета в конце рассказа напоминает смерть студента Принстона, застрелившегося при сходных обстоятельствах.
В дальнейшем Фицджеральд получил возможность охватить весь широкий спектр событий, но в ту пору все его мысли были направлены на завоевание Зельды. Ее письма с описаниями праздников, устраиваемых женскими организациями, и визитов в мужские колледжи не вызывали особого энтузиазма. Фицджеральд разрывался между двумя мирами. “Когда в субботу вечером я призраком слонялся по отелю “Плаза”, – вспоминал он, – или отправлялся на роскошные вечеринки на восток, в район шестидесятых улиц, или вместе со студентами Принстона сидел в баре “Билтмор”, меня неотступно преследовала другая жизнь – моя убогая комната в Бронксе, квадратный фут, который я занимаю в подземке, навязчивое ожидание письма из Алабамы – придет ли оно и что в нем будет? – мои поношенные костюмы, моя бедность, моя любовь”.
Второй раз Фицджеральд приехал в Монтгомери в мае, а третий – в июне, но Зельда была непреклонна. Скотт умолял ее и даже разразился длинным монологом, исполненным жалости к себе, и в конце концов Зельда решила порвать с ним. Ее пугала лихорадочная спешка Фицджеральда, а также то обстоятельство, что он не любил свою работу. И еще она была слишком честолюбива, и перспектива жить в двухкомнатной квартире и одеваться в A & P нисколько ее не привлекала. Зельда любила Фицджеральда, и отказать ему ей было очень трудно, но после разрыва вернулась к своим балам и развлечениям без видимых признаков грусти или подавленности.
Фицджеральд писал другу, что для него это огромная трагедия, и, если Зельда не передумает, он никогда не женится. Вернувшись в Нью-Йорк, он уволился с работы – предупредил он, как водится, еще за месяц, – и пил несколько недель подряд, что легло в основу одного из самых ярких эпизодов романа “По эту сторону рая”. 1 июля, когда вступил в силу сухой закон, Фицджеральд протрезвел и задумался, как жить дальше. В отчаянии, в котором он пребывал последний месяц, был лишь один лучик света. После ста двадцати двух уведомлений об отказе, которые Скотт прикреплял к бордюру по периметру комнаты, журнал “Smart Set” купил один рассказ, уплатив за него тридцать долларов. Беда в том, что рассказ был написан два года назад для “Nassau Lit”, а поскольку все более поздние сочинения были отвергнуты, напрашивался вывод, что в двадцать два года пик творчества уже пройден.
Фицджеральд все еще возлагал надежды на роман, но всю весну пребывал в ситуации, сходной с известной головоломкой про лису, гуся и мешок бобов: если он перестанет работать над романом, то потеряет девушку. Теперь, поскольку девушка все равно потеряна, Скотт решил вернуться к родителям в Сент-Пол и сосредоточиться на книге.
Как бы то ни было, бедность его была относительной, и он всегда мог рассчитывать на поддержку родителей. Во время учебы в школе и в колледже они снабжали его деньгами – ничтожные суммы, по его мнению, поскольку он мечтал о роскошной жизни вельможи эпохи Возрождения. Мать надеялась, что он сделает карьеру в армии, а отец хотел, чтобы Скотт занялся бизнесом, однако оба поддерживали сына в его сомнительном предприятии. Тем не менее особой щедрости они не проявляли, опасаясь, что он снова выкинет какойнибудь фортель. Желание избавиться от этой унизительной зависимости заставляло его работать еще упорнее.
Он не стал тратить время зря и принялся методично трудиться, прикрепив к занавеске в своей комнате на верхнем этаже график окончания глав. Для такого молодого и импульсивного человека он оказался на удивление организованным и профессиональным, когда дело касалось работы. Он перекроил старый материал и добавил новый, отчасти взяв его из написанных весной и отвергнутых издательствами рассказов. Под углами ковра в его комнате скопились горы окурков – он засовывал их туда и придавливал каблуком; когда у него кончались сигареты, он доставал окурок и снова поджигал его. Вдохновение влекло его в неведомые дали, и голова его превратилась в настоящий калейдоскоп удивительных образов и ярких красок. Когда кто-то из друзей, читая рукопись, спросил, что означает определенное слово, Фицджеральд ответил: “Черт его знает, но ведь оно тут явно на месте!” Он работал круглые сутки, забывая о еде – молоко и сэндвичи ему приносили прямо в комнату. Родители ему не мешали, и он был им за это благодарен – мать отвечала на телефонные звонки и не позволяла друзьям отрывать его от работы.
К концу июля он закончил первый вариант рукописи. “Если та книжка [“Романтический эгоист”], – писал он в издательство “Scribners”, – была вроде запеканки, куда валят без разбору все оставшееся от ужина, то теперь я попытался написать настоящий роман, и, кажется, мне это удалось… Если я пришлю рукопись к 20 августа и вы рискнете ее напечатать (самонадеянно полагаю, что так и будет), выйдет ли книга к октябрю и как вообще определяется срок публикации?”
Тем летом он часто встречался с преподобным Джо Бэрроном, самым молодым священником, когда-либо рукоположенным в епархии Сент-Пола. В двадцать четыре года он стал старшим воспитателем в семинарии Святого Павла, а теперь, в возрасте тридцати одного года, это был плотный розовощекий мужчина с голубыми глазами и волнистыми рыжеватыми волосами. Приезжая домой на зимние каникулы из Принстона, Фицджеральд часто заглядывал в семинарию к преподобному Джо, чтобы посоветоваться по поводу своих сочинений. Откинувшись в глубоком кожаном кресле и обернув сутаной мерзнущие ноги, преподобный Джо пускался в рассуждения о самых разных предметах как духовного, так и земного свойства. Фицджеральду импонировал его острый, журналистский ум; священник был остроумен и общителен, но в то же время тверд в вопросах веры. Преподобному Бэррону казалось, что этот блестящий, еще неопределившийся юноша отходит от церкви, чем навлекает на себя опасность. Когда Фицджеральд высказался насчет иконоборчества – намеком, но все же с мягким упреком, Бэррон выслушал его, а затем спокойно сказал: “Не валяйте дурака, Скотт”[42]42
Возможно, Фицджеральд считал, что религия мешает литературному успеху. До него известности добился лишь один писатель-католик ирландского происхождения, Питер Финли Данн (см.: Cowley. The Literary Situation. С. 153).
[Закрыть].
В тот период религией Фицджеральда был его роман. Он писал Эдмунду Уилсону: “Мой католицизм – стыдно сказать – сейчас не больше чем воспоминание. Хоть нет, больше, но все равно, в церковь я не хожу, прозрачных четок не перебираю и не бурчу над ними бог весть что”. Уилсон собирался издать сборник рассказов о войне разных авторов, придерживавшихся разных точек зрения, и предложил Фицджеральду принять в нем участие. “Бога ради, Кролик, – ответил Фицджеральд, – пиши роман и не трать время на редактирование сборников, а то это войдет у тебя в привычку. Пишу глупо и бессвязно, но ты меня поймешь”. Бессвязные глупости не могли повлиять на бывшего наставника из “Nassau Lit”. “За меня не беспокойся, – отвечал Уилсон. – Я не пишу романа, хотя пишу почти все остальное – и кое-что публикую. Надеюсь, это письмо не является образцом твоего нынешнего литературного стиля: оно похоже на попытку шестилетнего ребенка написать передовицу в журнале… Что касается названий, все они мне представляются неудачными”. (Фицджеральд просил у Уилсона совета, какое из трех названий выбрать для романа: “Воспитание личности”, “Романтический эгоист” или “По эту сторону рая”.)
3 сентября Фицджеральд отправил роман в “Scribners”; его переполняла радость. “На этот раз это глубоко продуманное, законченное целое, – писал он, – и мне кажется, что это самое наполненное (в лучшем смысле этого слова) из всех, что были опубликованы в этой стране за последние годы”. Ожидая вердикта издательства, он устроился на работу в железнодорожное депо “Northern Pacific”. Ему велели приходить в старой одежде, и он вырядился в тенниску и грязные белые фланелевые брюки – довольно экзотический костюм на фоне остальных рабочих, одетых в комбинезоны. В его обязанности входил ремонт крыш товарных вагонов, и, когда он сел, а не опустился на колени, чтобы забивать гвозди, бригадир отругал его, посчитав, что он отлынивает от работы.
Суровые испытания продлились недолго. 16 сентября он получил заказное письмо из “Scribners”, в котором сообщалось, что роман “По эту сторону рая” принят к печати.
“Книга настолько необычна, – писал Максвелл Перкинс, – что трудно предсказать, как она будет продаваться, но все мы готовы пойти на риск и будем энергично ее продвигать”. В тот день Фицджеральд был пьян, но не от вина. Его переполняло пьянящее ощущение бурлящей молодости. Он уволился из “Northern Pacific” и бегал по улицам, останавливая автомобили и рассказывая всем, кто соглашался слушать, о том, какое счастье ему привалило. Через несколько дней он написал восторженное письмо Алиде Бигелоу, своей знакомой из колледжа Смита:
В доме ниже среднего,
Что на улице выше средней,
В комнате под крышей
В голове много мыслей,
Я напишу Алиде Бигелоу,
Сочиню для Алиды Бигелоу,
Как первейший дуралей.
(Эта строка не рифмуется пока.)
(22 сентября 1919 года)
Что за день!
Стоп!
Старый пень,
Мистер Рок,
Запомни день.
Что за день?
С временем
Спорить лень,
Мистер Рок?
Мистер Скотт,
Так много забот,
Так что вот
Спорить лень
В этот день.
Отметь, Скотт,
Этот день:
Хоть и лень,
Ты лучше заверь,
Точку поставь.
В рифму теперь.
Самой прекрасной, слишком добродетельной, но неотразимо очаровательной Алиде: “Скрибнерс” приняли мою книгу. Разве я не умница?
Но радость моя полностью испорчена одним произведением, романом под названием “Соль” господина Ч. Г. Норриса, – это самое потрясающее реалистическое произведение, заставляющее понять, что наша сила духа не более чем старая металлическая пепельница. Его можно поставить в один ряд с “Повестью о старых женщинах”.
Конечно, я все равно считаю Уолпола слабым писателем. Прочти “Соль”, юная девушка, и ты узнаешь, какой может быть жизнь.
Несколько дней я пребывал в полном отчаянии и три дня в этой юдоли слез. Я бреду дальше, всегда усталый, часто пьяный, не раскаиваясь в своих грехах, – но день ото дня становлюсь все более терпимым к себе, закаляя свою чистую душу нечестивым юмором, и избегаю только зубочисток, пафоса и бедности, трех вещей, которые невозможно простить.
Прежде чем мы встретимся снова, я надеюсь, ты вдоволь попробуешь крепких напитков и перецелуешь множество молодых людей при оранжево-желтом цвете луны – эти вещи очищают от тех предрассудков, которые уступают железной поступи нашего века. Я ужасно несчастен, выгляжу как дьявол, прославлюсь через полтора месяца и умру через два. Надеюсь, ты все такая же. С мучительным уважением,
Ф. Скотт Фицджеральд
P. S. Если хочешь, можешь выставить это письмо на аукцион среди девочек своего колледжа – при условии, что вырученные деньги пойдут Обществу утопления армянских эрдельтерьеров.
Шучу!
Ф. С. Ф.
Теперь каждое утро он просыпался в мире, наполненном “невыразимой радостью и обещаниями”. Он умолял издательство выпустить книгу как можно скорее, самое позднее к Рождеству: “Я сейчас в том возрасте, когда дорожишь каждым месяцем и каждый успех воспринимаешь, словно приплюсованное очко в матче, где приз – счастье, а противник – время”. Одновременно он пишет рассказы и продает их издательствам “Smart Set” и “Scribners”. Надеясь пробиться в “Saturday Evening Post”, где платят самые высокие гонорары, он отправляет несколько произведений Полу Риверу Рейнолдсу, известному в НьюЙорке литературному агенту.
В минуту радостного волнения Фицджеральд пишет Зельде и просит разрешения навестить ее. Ответ был дружеским, но сдержанным. Она “только что пришла в себя после бурного романа с квартербеком команды Оберна”, здоровье и расположение духа у нее замечательные, но по части ума ему покажется, что она несколько сдала. Зельда пишет, что будет рада видеть его, и просит привезти кварту джина – за все лето она не выпила ни капли. После его последнего визита горничная выгребла из ее комнаты груду бутылок, так что в этом отношении его репутация уже испорчена.
В ноябре Фицджеральд приехал в Монтгомери, и Зельда согласилась выйти за него замуж. Однажды они забрели на кладбище и, гуляя среди надгробий конфедератов, пережили минуты необычайного душевного подъема; Зельда сказала, что Скотт никогда не поймет ее чувств к этим могилам, а он ответил, что очень хорошо понимает ее и напишет об этом, – и действительно написал, в рассказе “Ледяной дворец” (“The Ice Palace”). После его отъезда Зельда призналась ему в письме:
Я терпеть не могу так говорить, но я не думаю, что была сильно уверена в тебе сначала… Это так здорово чувствовать, что ты действительно что-то – хоть что-нибудь – можешь делать. И мне жутко нравится ощущать, что, может быть, я могу, пусть немного, помочь в этом.
Победа была сладостной, хотя и не такой, какой могла быть полгода назад, когда Зельда отвергла его. Фицджеральд уже не мог возродить в своей душе волнения первой любви, и теперь, будучи профессиональным писателем, он не только восхищался словами и поступками Зельды, но и подспудно стремился использовать их в будущих произведениях. Но когда в письме Зельде он сравнил их с двумя стариками, утратившими самое дорогое, она возразила, что они его еще не обрели.
Жар, нежность, эмоциональная сила, на которую мы способны, – все это растет, ширится, и, поскольку мы становимся разумнее и мудрее, замок нашей любви возводится на прочном основании. Первая страсть не может длиться вечно, но породившие ее чувства живы… Это как мыльные пузыри – они лопаются, но вместо них надуваются новые, не менее красивые, а потом тоже лопаются – пока не закончатся вода и мыло… Думаю, то же самое будет с нами.
Из Монтгомери Фицджеральд вернулся в Нью-Йорк, где снял роскошный номер в отеле “Никербокер”, продав к тому времени рассказ в “Saturday Evening Post”. Однажды вечером к нему заглянули три выпускника Принстона, которых он знал еще по Сент-Полу; он был не совсем трезв, и несколько посыльных помогали ему одеваться. Повсюду были разбросаны двадцати– и пятидесятидолларовые купюры, а по пути вниз Фицджеральд сунул деньги в карман пиджака и жилета, чтобы они были видны всем. Прежде чем покинуть отель, друзья незаметно забрали у него почти все деньги и оставили на хранение кассиру. Фицджеральд настойчиво предлагал отвести их к “своему бутлегеру” – в то время их еще было мало – и купить каждому бутылку виски. Когда Фицджеральд вернулся в отель, то получил выговор от администратора – он забыл закрыть водопроводный кран, устроив небольшой потоп.
Люди и вечеринки были постоянным искушением для Фицджеральда, однако он знал, что такое дисциплина. Во время рождественской недели в Сент-Поле он не пошел на бал-маскарад и остался работать дома, хотя друзья постоянно звонили ему, рассказывая, как много он теряет. Один известный в городе человек, сообщали они, нарядился верблюдом и вместе с таксистом, который играл роль задней части животного, заявился на чужую вечеринку. Весь следующий день Фицджеральд собирал факты, а затем сел за стол и за 21 час сочинил рассказ в 12 тысяч слов. Приступив к работе в восемь утра, он закончил первый вариант к семи вечера, переписал до половины пятого ночи, а в пять отправил в издательство. “Saturday Evening Post” заплатила за “Спину верблюда” 500 долларов. Легко и просто.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?