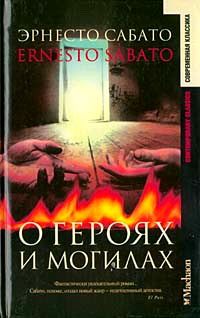Читать книгу "О героях и могилах"
X
Эта веснушчатая девочка – она; ей одиннадцать лет, и волосы у нее рыжеватые. Она худенькая, задумчивая, но задумчивость ее какая-то мрачная, жесткая – как если бы ее мысли были не чем-то отвлеченным, но обезумевшими, жалящими змеями. Эта девочка такой и осталась в некоем темном уголке ее «я», и теперь она, молчаливая и напряженно-внимательная восемнадцатилетняя Алехандра, стараясь не спугнуть видение, отходит в сторону и рассматривает его осторожно и с любопытством. Этой игре она предается довольно часто, размышляя над своей судьбой. Игра нелегкая, в ней множество трудностей, здесь все хрупко и готово вот-вот исчезнуть – так, по словам спиритов, бывает с материализацией духа: надо уметь ждать, терпеливо, сосредоточившись, отвлечься от посторонних или игривых мыслей. Тень возникает постепенно, и ее появление надо оберегать, сохраняя полное молчание и чрезвычайную осторожность: какая-нибудь мелкая промашка, и тень скроется, исчезнет в тех краях, откуда начала появляться. Но теперь она здесь: она явилась, вот она со своими рыжими косами и веснушками разглядывает все вокруг боязливым, сосредоточенным взором, готовая к драке и к оскорблениям. Алехандра смотрит на нее со смесью нежности и вражды, как смотрят на младших сестер и братьев, на которых срывают злость, вызванную собственными недостатками, и кричат: «Не грызи ногти, ты, скотина!»
– На улице Исабель-ла-Католика есть разрушенный дом. Верней, был, потому что его не так давно снесли, чтобы построить завод по производству холодильников. Много лет он стоял пустой – то ли был предметом тяжбы, то ли чьим-то наследством. Кажется, он принадлежал Мигенсам, и когда-то это была очень симпатичная вилла, вероятно, вроде нашей. Помню, стены дома были светло-зеленые, цвета морской волны, сплошь облупившиеся, будто от проказы. Я тогда была очень возбуждена, и мысль убежать и спрятаться в заброшенном доме давала мне ощущение силы, какое, наверно, бывает у солдат, идущих в атаку, несмотря на страх, а может, это уже какой-то особый, перешедший в свою противоположность страх. Я об этом где-то читала. А ты? Говорю тебе это потому, что я ужасно боялась темноты – можешь себе представить, что меня ждало в заброшенном доме. Я заранее сходила с ума, я видела бандитов, врывавшихся с фонарями в мою комнату, или молодчиков из масорки с окровавленными головами в руках (Хустина постоянно рассказывала нам истории про масорку). Я проваливалась в колодцы, полные крови. Я даже не знаю, видела я это во сне или наяву, думаю, это были галлюцинации, я все видела, бодрствуя, потому что помню так ясно, словно переживаю сейчас. Я начинала вопить, и тут прибегала бабушка Элена, понемногу успокаивала меня, – кроватка моя еще долго тряслась от моей дрожи; это были приступы безумия, настоящие приступы.
Что и говорить, мои планы спрятаться ночью в пустом полуразрушенном доме были, конечно, безумием. И теперь я думаю, что замышляла это для того, чтобы моя месть стала более жестокой. Я чувствовала, что это будет чудесная месть, тем более чудесная и беспощадная, чем страшнее окажется опасность, которой я себя подвергну. Ты понял? Ну, словно я думала – а может, и впрямь думала – «пусть увидят, что я терплю из-за своего отца!». Забавная вещь, но после той ночи мой страх внезапно превратился в безумную храбрость. Не правда ли, любопытно? Как объяснить подобное явление? Это было что-то вроде безумного высокомерия перед лицом любой опасности, реальной или воображаемой. Впрочем, я всегда была смелой, и, когда проводила каникулы в сельской усадьбе семейства Карраско старых дев, подруг моей бабушки Элены, я привыкла там ко всяким отчаянным приключениям: скакала галопом по бездорожью на кобылке, которую мне дали и которую я сама окрестила полюбившимся мне именем Презренье. Было у меня охотничье ружье двадцать второго калибра и маленький револьвер. Я отлично плавала и, несмотря на все запреты и заклинания, уплывала далеко в море, где мне не раз приходилось туго во время прибоя (забыла тебе сказать, что усадьба старушек Карраско находилась на морском берегу, вблизи Мирамара [18]18
Мирамар – курортный городок вблизи Буэнос-Айреса. – Прим. перев.
[Закрыть]). И однако по ночам я дрожала от страха перед воображаемыми чудищами. Ну, в общем, я, как уже говорила, решила сбежать и спрятаться в доме на улице Исабель-ла-Католика. Дождалась темноты, чтобы незаметно перелезть через ограду (ворота были заперты на висячий замок). Но, вероятно, кто-то меня увидел и, хотя сперва не придал этому значения – можешь себе представить, сколько мальчишек из любопытства проделывали то же, что я в ту ночь, – однако, когда пошел слух о моем исчезновении и вмешалась полиция, тот человек, видимо, вспомнил, что видел, как я лезу, и рассказал об этом. Но если дело и было так, то открылось все лишь через несколько часов после моего бегства, потому что полиция появилась в доме только в одиннадцать часов. Так что у меня было вдоволь времени натерпеться страху. Соскочив с ограды, я пошла вглубь, за дом, через бывшие ворота для въезда карет, пробиралась среди сорняков и старых ящиков, натыкалась на кучи мусора, на зловонные трупы кошек и собак. Да, забыла тебе сказать, что я прихватила фонарик, складной ножик и маленький револьвер, подаренный дедушкой Панчо, когда мне исполнилось десять лет. Короче, через ворота я вышла на задний двор. Там была галерея, вроде нашей. На окнах, выходивших в галерею, были жалюзи, но жалюзи эти сгнили, некоторые вообще отвалились. Вероятно, в доме иногда ночевали бродяги, бездомные, а может, и жили какое-то время. И откуда могла я знать, не явился ли туда переспать кто-нибудь из них в эту ночь. Светя фонариком, я осмотрела окна и двери с задней стороны дома и наконец обнаружила дверь, в которой не хватало одной доски. Я толкнула дверь, она подалась, хотя с трудом и со скрипом – похоже было, что ее очень давно никто не открывал. Тут я с ужасом подумала, что, наверно, даже бродяги не решаются посещать этот дом, пользующийся дурной славой. На минуту я заколебалась, у меня мелькнула мысль, что, может, лучше бы не заходить в дом, а провести ночь в галерее. Но было очень холодно. Придется зайти и даже развести огонь, как поступали герои в виденных мною фильмах. Я подумала, что лучше всего это сделать на кухне – там каменный пол, и на плитах пола можно разложить хороший костер. Кстати, я надеялась, что огонь спугнет крыс, к ним я всегда питала отвращение. Кухня, как и все прочее в доме, была в полном разорении. У меня не хватило духу лечь на пол, даже насобирав соломы, – ведь тогда ко мне легко могла подкрасться крыса. Я решила, что лучше лечь на плиту. Кухня была устроена по-старинному, тоже вроде нашей, такие теперь увидишь только в деревенских домах – с плитой и духовкой. Что до остальных помещений дома, их я решила обследовать завтра – в этот ночной час, в темноте, у меня на это не хватало храбрости, да и незачем было. Первой моей задачей было собрать в саду что-нибудь для костра: обломки ящиков, щепки, солому, бумагу, валявшиеся сухие сучья и наломать веток с засохшего дерева, которое я приметила. Все это я сложила в кучу возле кухонной двери, чтобы дым не шел внутрь. После нескольких попыток дело пошло на лад, и едва я увидела в темноте огонек, сразу согрелась и телом, и душой. Тотчас достала из сумки еду, села на ящик возле костра и с аппетитом поела бутерброды с маслом и с колбасой, а потом сладкое из батата. На моих часиках было только восемь! Мне не хотелось думать о том, что меня ждет в долгие ночные часы.
Полиция явилась в одиннадцать. Уж не знаю, точно ли – как я сказала – кто-то видел, что какой-то мальчик лез через ограду. Возможно, кто-то из соседей заметил огонь или дым моего костра или свет фонарика, когда я бродила возле дома. Как бы то ни было, полиция явилась, и, должна тебе признаться, ее появление меня обрадовало. Думаю, если бы мне пришлось провести там целую ночь, когда снаружи все стихает и действительно чувствуешь, что город спит, я бы и впрямь сошла с ума от беготни крыс и кошек, от воя ветра и других шумов, которые мое воображение приписало бы невесть каким призракам. И когда пришла полиция, я не спала, а, дрожа от страха, сидела скрючившись на плите.
Слов нет описать, что творилось дома, когда меня привели. Бедный дедушка Панчо с глазами, полными слез, все допытывался у меня, почему я совершила такое безумство. Бабушка Элена меня журила и в то же время исступленно ласкала. Что ж до тети Тересы – на самом-то деле двоюродной бабушки, – проводившей все время в бдениях у покойников да в ризницах, она кричала, что меня надо поскорей отдать в пансион, в колледж на авениде Монтесде-Ока. Семейный совет, видимо, продолжался далеко за полночь, я еще долго слышала, как они там спорят. На другой день я узнала, что бабушка Элена в конце концов согласилась с мнением тети Тересы, скорей всего – как я теперь думаю, – она просто боялась, как бы я вдруг не повторила свою выходку, и еще она знала, что я очень люблю сестру Теодолину. На все их предложения я, естественно, отвечать отказалась, сидела, запершись в своей комнате. Но, по сути, перспектива покинуть дом была для меня не неприятна: я думала, что отец таким образом лучше почувствует мою месть.
Не знаю, что тут повлияло: поступление в колледж, дружба с сестрой Теодолиной или мой душевный кризис – возможно, все вместе. Но я отдалась религии с той же страстью, с какой увлекалась плаваньем или верховой ездой: как будто речь шла о жизни моей или смерти. Так было со мной до пятнадцати лет. Что-то вроде безумия – с тем же неистовством, с каким она плавала в море ночью, даже в бурные ночи, – будто бросалась плыть в непроглядный мрак религии, окруженная тьмою, гонимая неукротимой душевной бурей.
Вот падре Антонио: он говорит о страстях Христовых, с жаром описывает муки, унижения и кровавую жертву на Кресте. Падре Антонио высокого роста, и – странное дело – он похож на ее отца. Алехандра плачет, сперва молча, затем все громче, плач переходит в судорожные рыдания. Она убегает. Перепуганные монахини бегут за ней. Вот рядом с нею сестра Теодолина, она утешает плачущую, потом подходит падре Антонио, тоже с намерением ее успокоить. Пол подымается и опускается под ее ногами, как дно лодки. Пол вздымается как морской вал, комната почему-то увеличивается, потом все начинает кружиться – сперва медленно, потом все быстрее. Алехандру прошибает пот. Падре Антонио подходит к ней, рука его огромная, рука его касается ее щеки, это как прикосновение теплой мерзкой летучей мыши. И она падает, будто сраженная сильным электрическим разрядом.
– Что с тобой, Алехандра? – кричит Мартин, бросаясь к ней.
Она рухнула на пол и лежит, словно окаменев, не дышит, лицо ее становится фиолетовым, и вдруг начинаются судороги.
– Алехандра! Алехандра!
Но она его не слышала, не чувствовала его рук – только стонала и кусала губы.
Но вот, как постепенно стихающий шторм, стоны стали реже, звучали все слабей и жалобней, тело понемногу успокаивалось и наконец обмякло, стало как мертвое. Тогда Мартин взял ее на руки и отнес в комнату, уложил на кровать. Прошел час или больше, Алехандра открыла глаза, осмотрелась вокруг, будто пьяная. Потом села, провела ладонями по лицу, словно пытаясь себя освежить, и довольно долго сидела молча. Видно было, что она в полном изнеможении.
Наконец она встала, нашла таблетки, проглотила.
Мартин с испугом смотрел на нее.
– Нечего на меня так смотреть. Если хочешь быть моим другом, придется тебе привыкнуть к таким сценам. Ничего особенного не случилось.
Она нашарила на столике сигарету, закурила. Долго отдыхала и молчала, потом спросила:
– О чем я тебе рассказывала?
Мартин ей напомнил.
– Я, знаешь, теряю память.
Продолжая курить, она задумалась и после паузы прибавила:
– Выйдем, мне надо подышать воздухом. Оба облокотились на балюстраду террасы.
– Значит, я тебе рассказывала о том, как бежала из дому.
Она затянулась, помолчала.
– Меня ничем не запугаешь, говорила сестра Теодолина. Целыми днями она терзала меня, анализировала мои чувства, мои реакции. После того, что случилось при падре Антонио, я предалась истязаниям плоти: часами стояла на коленях на битом стекле, капала себе горячим свечным воском на руки, даже резанула по руке бритвой. И когда сестра Теодолина со слезами умоляла сказать, почему я это сделала, я ничего ей не ответила – в общем, сама не знала и, кажется, до сих пор не знаю. Сестра Теодолина толковала мне, что я не должна делать такие вещи, что Богу неугодны крайности и что такие выходки говорят о чудовищной, сатанинской гордыне. Тоже новость! Но это было сильней меня, непобедимей всех доводов. Сейчас ты узнаешь, чем это сумасшествие кончилось.
Алехандра задумалась.
– Вот странно, – сказала она, помолчав, – я стараюсь вспомнить весь тот год, а вспоминаются только отдельные сцены, одна, другая. А с тобой такое бывает? Вот сейчас я прямо чувствую ход времени, будто оно течет по моим жилам вместе с кровью, с биениями сердца. Но когда пытаюсь вспомнить прошлое, у меня нет этого чувства – вижу отдельные застывшие сцены, как на фотографиях.
Память ее состоит из осколков существования, статических и неизменных: они не объединены, по сути, временной последовательностью, и события, хронологически далекие друг от друга, оказываются связаны странными узлами симпатии и антипатии. Либо же они всплывают на поверхность сознания, соединенные глупейшими, однако мощными скрепами, вроде какой-нибудь песенки, шутки или взаимной ненависти. Вот, например, теперь нитью, соединяющей их и вытягивающей одно за другим, стало яростное стремление найти что-то абсолютное в этом ее душевном смятении, сочетающем такие слова, как «отец», «Бог», «пляж», «грех», «чистота», «море»,«смерт ъ».
– Я вижу себя в летний день и слышу, как бабушка Элена говорит: «Алехандру надо отправить в деревню, ей необходимо уехать отсюда, подышать воздухом». Странно, я помню, что в эту минуту у бабушки на пальце был серебряный наперсток.
Она рассмеялась.
– Почему ты смеешься? – с недоумением спросил Мартин.
– Да так, ничего особенного. Отправили меня, значит, в усадьбу старушек Карраско, дальних родственниц бабушки Элены. Не помню, говорила ли я тебе, что она была не из семьи Ольмосов, а урожденная Лафитт. Добрейшая женщина, вышла замуж за моего дедушку Патрисио, сына дона Панчо. Когда-нибудь я тебе расскажу и о дедушке Патрисио, он-то умер. Ну вот, как я сказала, старушки Карраско были троюродными сестрами бабушки Элены. Обе незамужние, типичные старые девы, даже имена у них были нелепые: Эрмелинда и Росалинда. Это были святые, а я к ним относилась с полным безразличием, ну как к мраморной плите или к коробке с иголками и нитками, – я даже не слушала, когда они говорили. Они были такие наивные, что, случись им хоть одну секунду читать мои мысли, они бы от страха умерли. И мне очень нравилось ездить к ним: там у меня была полная свобода, я могла скакать на своей кобылке к самому морю, потому что усадьба как раз подходила к воде, чуть южнее Мирамара. Кроме того, я жаждала быть одна, плавать, ездить верхом, чувствовать, что я одна перед лицом беспредельной природы, и я уходила подальше от пляжа, где теснилась мерзкая, ненавистная мне толпа. Я уже целый год не видела Маркоса Молину, это тоже меня будоражило. Год-то был такой значительный! Я хотела высказать ему свои новые мысли, сообщить о моем грандиозном плане, привить ему свою пылкую веру. Тело мое томилось от избытка сил, я и всегда была сорванцом, но в то лето силы мои, казалось, умножились, однако подъем этот был иного рода. Здорово досталось Маркосу в то лето. Ему было пятнадцать, на год больше, чем мне. Красивый, атлетически сложенный мальчик. Как я теперь думаю, он станет образцовым отцом семейства и, наверно, возглавит какую-нибудь секцию Католического Действия [19]19
Католическое Действие – организация католиков-мирян, задача которой всемерно помогать церкви. – Прим. перев.
[Закрыть]. Ты не думай, он не был слишком робок, просто славный парень, но закоснелого католического воспитания: искренний, в меру простоватый и спокойный. Теперь представь: едва я приехала в усадьбу, как вцепилась в него и принялась уговаривать, чтобы мы вместе отправились в Китай или на Амазонку, когда нам исполнится по восемнадцать лет. В качестве миссионеров – понятно? Оба мы ездили верхом, уезжали по берегу довольно далеко на юг. А то садились на велосипеды или часами ходили пешком. В долгих беседах, пылая энтузиазмом, я пыталась внушить ему, сколько величия в той деятельности, какую я ему предлагаю. Я говорила о падре Дамиане и его трудах среди прокаженных Полинезии, рассказывала истории миссионеров в Китае и в Африке и историю монахинь, которых убили индейцы в Мату-Гросу [20]20
Мату-Гросу (-ду-Сул) – штат на юго-западе Бразилии. – Прим. перев.
[Закрыть]. Мне тогда казалось высшим блаженством погибнуть мученической смертью. Я представляла себе, как дикари хватают нас, как они меня раздевают донага, привязывают веревками к дереву и потом с воплями и плясками приближаются ко мне, острым каменным ножом рассекают грудь и вырывают окровавленное сердце. Алехандра умолкла, зажгла потухшую было сигарету и продолжала:
– Маркос был верующий, но, слушая меня, молчал. И наконец признался, что, конечно, гибель миссионеров, которые умирают и страдают за веру, прекрасна, но он не чувствует себя способным на это. И во всяком случае, он думает, что может служить Богу и более скромными делами – просто быть добрым человеком и никому не причинять зла. Его слова меня возмутили.
– Ты трус! – в бешенстве воскликнула я.
Подобные сцены, с некоторыми вариациями, повторились два или три раза.
Он, конечно, чувствовал себя оскорбленным, униженным. Я в такие моменты резко поворачивала кобылку и, хлеща ее, возвращалась назад галопом, полная ярости и презрения к этому жалкому типу. Но на другой день снова бралась за свое, снова толковала ему о том же. До сих пор не понимаю, что меня побуждало настаивать – Маркос, в общем-то, отнюдь не вызывал у меня восхищения. Но я была как одержимая и не оставляла его в покое.
– Ну же, Алехандра, – добродушно говорил он, кладя свою ручищу мне на плечо, – хватит тебе проповедовать, пошли купаться.
– Нет! Стой! – восклицала я, как если бы он пытался увильнуть от данного обещания. И снова твердила то же.
Иногда я говорила с ним о браке.
– Я никогда не выйду замуж, – объясняла я ему. – А если выйду, детей заводить не буду.
Когда я это сказала в первый раз, он посмотрел на меня с удивлением.
– А ты знаешь, как получаются дети? – спросила я его.
– Более или менее, – ответил он, покраснев.
– Ну, если знаешь, ты должен понимать, какое это свинство.
Я произнесла эти слова очень твердо, почти злобно, как если бы то был еще один аргумент в пользу моей идеи о миссионерстве и мученичестве.
– Я-то поеду, но я должна ехать с кем-то, понимаешь? Мне надо за кого-то выйти замуж, иначе меня будут искать с полицией и не выпустят из страны. Вот я и подумала, что могу выйти замуж за тебя. Смотри: мне теперь четырнадцать лет, а тебе пятнадцать. Когда мне будет восемнадцать, я окончу колледж, и мы поженимся, по специальному разрешению. Никто не может запретить нам пожениться. А в крайнем случае сбежим, и тогда им придется дать согласие. И мы с тобой уедем в Китай или на Амазонку. Ну, что ты думаешь? Поженимся-то мы только ради того, чтобы можно было спокойно уехать – понял? – а не для того, чтобы заводить детей, я же тебе объяснила. У нас никогда не будет детей. Мы всегда будем вместе, будем ездить по разным диким краям, но друг к другу даже не притронемся. Это же прекрасно, правда?
Он с удивлением посмотрел на меня.
– Мы не должны избегать опасности, – продолжала я. – Мы должны смело идти ей навстречу и победить. Ты не думай, у меня бывают искушения, но я сильная, я могу с ними совладать. Представляешь себе, как это замечательно – жить вместе многие годы, спать в одной постели, даже видеть друг друга голыми и победить соблазн коснуться друг друга и поцеловаться?
Маркос смотрел на меня испуганно.
– Все, что ты говоришь, кажется мне безумием, – возразил он. – Кроме того, разве Бог не повелел иметь в супружестве детей?
– Я сказала тебе, у меня никогда не будет детей! – выкрикнула я. – И предупреждаю, ты никогда ко мне не прикоснешься и никто, никто не прикоснется!
Охваченная ненавистью, я начала раздеваться.
– Сейчас ты сам убедишься! – вскричала я, словно бросая вызов.
Когда-то я прочитала, что китайцы надевают девочкам на ноги железные колодки, чтобы не росли ступни, а сирийцы, кажется, туго бинтуют детям головы, чтобы придать им особую форму. И когда у меня начали расти груди, я перевязывала их длинной, метра в три, полоской ткани, которую отрезала от простыни: обкручивалась ею несколько раз, немилосердно стягивая. Но грудь все равно росла – как растения, которые пробиваются из трещин в камне и в конце концов ломают его. В общем, скинув с себя блузку, юбку и трусики, я принялась раскручивать повязку. Маркос в ужасе не мог отвести глаз от моего тела. Он походил на птицу, загипнотизированную змеей.
Раздевшись догола, я легла на песок и крикнула ему:
– Ну, теперь ты раздевайся! Докажи, что ты мужчина!
– Алехандра! – пролепетал Маркос. – Все, что ты делаешь, – это безумие и грех!
Заикаясь, он все бормотал про грех, но не сводил с меня глаз, а я кричала ему «баба», «слюнтяй» со все большим презрением. Пока он, стиснув зубы, не начал в бешенстве раздеваться. Но когда он все с себя снял, энергия его, казалось, иссякла, и, со страхом глядя на меня, он застыл в неподвижности.
– Ляг сюда, – приказала я.
– Алехандра, это безумие и грех.
– Ну-ка, ляг сюда! – снова приказала я. В конце концов он повиновался.
Лежа навзничь на горячем песке, друг подле друга, мы оба смотрели в небо. Наступило тяжелое молчание, слышался только плеск волн по камням да кричали, носясь над нами, чайки. Я слышала дыхание Маркоса – как будто после долгого бега.
– Видишь, как это просто? – заметила я. – Так мы можем держаться всегда.
– Никогда, никогда! – закричал Маркос, резко вскакивая, точно спасаясь от страшной опасности.
Он быстро оделся, повторяя: «Никогда, никогда! Ты сумасшедшая, совсем сумасшедшая!»
Я ничего не сказала, только удовлетворенно улыбалась. Я чувствовала себя бесконечно сильной. И самым будничным тоном бросила ему:
– Если б ты ко мне притронулся, я бы тебя убила своим ножом.
Маркос окаменел от ужаса. Потом внезапно пустился бежать по направлению к Мирамару.
Лежа на боку, я смотрела, как он удаляется. Потом поднялась, побежала к воде. Я долго плавала, ощущая, как соленая вода ласкает мое голое тело. Каждая частица моей плоти словно вибрировала в лад с мировой душой.
Несколько дней Маркос не показывался в Пьедра-Негра. Я думала, что он испугался, а может, и заболел. Но прошла неделя, и он появился снова, какой-то присмиревший. Я сделала вид, будто ничего не произошло, мы пошли гулять, как обычно. И вдруг я ему сказала:
– Ну что, Маркос? Ты подумал о нашем браке? Маркос остановился, серьезно взглянул на меня и твердо произнес:
– Я женюсь на тебе, Алехандра. Но только не так, как ты говорила.
– Что? – воскликнула я. – Что ты болтаешь?
– Я женюсь, чтобы иметь детей, как все люди.
Я почувствовала, что глаза мои наливаются кровью, я вдруг увидела все в красном цвете. Ничего не сознавая, я бросилась на Маркоса. Борясь, мы упали на землю. И хотя Маркос был сильней меня и старше на год, я сперва ему не уступала, наверно потому, что ярость удваивала мои силы. Помню, в какой-то момент я даже подмяла его под себя, била по животу коленями. Из носу у меня шла кровь, мы рычали, как два смертельных врага. Наконец Маркос поднатужился и вывернулся из-под меня. Вскоре он уже был на мне. Его руки сжимали меня, он выворачивал мне кисти, словно клещами. Я не могла шевельнуться, я чувствовала, что его лицо все ближе к моему лицу. И вот он меня поцеловал.
Я укусила его, и он откинул голову с воплем боли. Затем разжал руки, вскочил и побежал прочь.
Я поднялась, но, странное дело, не погналась за ним: я ошеломленно смотрела, как он бежит. Проводя рукой по губам, я их потерла, будто очищая от грязи. И постепенно ярость снова стала подниматься во мне, как кипящая в кастрюле вода. Тогда я скинула одежду и бросилась в море. Плавала долго, наверно, несколько часов, и заплывала далеко.
Когда волны меня поднимали, я испытывала странное наслаждение. Я чувствовала себя одновременно могучей и одинокой, несчастной и одержимой демонами. И плыла. Плыла до тех пор, пока не выбилась из сил. Тогда, перейдя на брасс, я вернулась к берегу.
Долго я лежала, отдыхая, прижимаясь спиной к теплому песку, глядя, как парят чайки. Спокойные, неподвижные облака высоко-высоко в небе наполняли сумерки дивным покоем, а меж тем в мыслях моих бушевал хаос, яростные ветры гнали их и рвали в клочья: глядя в свою душу, я, казалось, видела, как она мечется, подобно лодке в бурю.
Домой я возвратилась уже затемно, полная смутной злобы против всего света и против себя самой. Меня осаждали преступные мысли. Главное, ненавистно мне было то, что наша борьба и поцелуй доставили мне удовольствие. Уже лежа в постели и глядя в потолок, я ощущала некое неведомое мне чувство, от которого кожа горела, словно в лихорадке. Интересно, что при этом самого Маркоса я почти не вспоминала (я же тебе говорила, он мне казался глуповатым и никогда не вызывал восторга); скорее, то было смутное ощущение в коже и в крови, воспоминание о сжимавших меня руках, о тяжести, налегшей на мои груди и бедра. Не знаю, как тебе объяснить – ну, словно во мне боролись две враждебные силы, и их борьба, которую я неспособна была понять, пугала меня и внушала ненависть. И ненависть эту как бы питала та самая лихорадка, от которой трепетала моя кожа и которая копилась в сосцах моих грудей.
Я не могла уснуть. Посмотрела на часы – было около двенадцати. Не задумываясь, я оделась и, как бывало не раз, вылезла через окно моей комнаты в садик. Не помню, говорила ли я тебе, что у старушек Карраско был еще домик в самом Мирамаре, где они проводили порой целые недели или уикэнд. В то время мы как раз жили там.
Почти бегом я направилась к дому Маркоса (хотя поклялась, что никогда больше с ним не встречусь).
Его комната во втором этаже выходила на улицу. Я свистнула, как прежде, и подождала.
Он не отвечал. Я подобрала с земли камешек, бросила его в окно – оно было открыто – и опять посвистела. Наконец Маркос выглянул и с удивлением спросил, что случилось.
– Вылезай, – сказала я. – Я хочу с тобой поговорить.
Думаю, что до самой этой минуты я не понимала, что хочу его убить, хотя предусмотрительно захватила свой складной ножик.
– Я не могу, Алехандра, – сказал он. – Отец очень сердится, и, если услышит, будет беда.
– Если ты не спустишься, – со злобным спокойствием возразила я, – будет еще хуже, потому что тогда я к тебе поднимусь.
Он секунду поколебался, видимо, взвешивая последствия, потом сказал, чтобы я его подождала. Вскоре он появился, выйдя с черного хода. Я пошла впереди него.
– Куда ты идешь? – с тревогой спросил он. – Что ты задумала?
Не отвечая, я шла все вперед к пустырю, который был недалеко от их дома. Маркос плелся за мной, будто на буксире.
Дойдя до пустыря, я резко обернулась и спросила:
– Почему ты меня сегодня поцеловал?
Мой голос, поза или что другое, вероятно, напугали его – он не мог слова выговорить.
– Отвечай, – жестко сказала я.
– Прости меня, – пролепетал он, – я нечаянно…
Возможно, он заметил, как блеснуло лезвие ножа, а может, сработал инстинкт самосохранения, но он почти в тот же миг накинулся на меня и обеими руками схватил мою правую руку, вынуждая бросить ножик. Наконец ему удалось вырвать его, и он забросил ножик далеко в заросли сорняков. Плача от злости, я побежала искать ножик, но, конечно, дело было безнадежное в этих зарослях, да еще в темноте. Тогда я побежала по склону к морю: у меня появилась мысль заплыть далеко и утопиться. Маркос бежал следом, возможно, догадываясь о моем намерении, и вдруг я почувствовала, что он ударил меня по затылку. Я потеряла сознание. Как потом я узнала, он меня отнес на руках до дома сестер Карраско, положил у двери и позвонил, а когда увидел, что в доме зажигают свет и идут открывать, убежал. Можно считать, что он поступил жестоко, скандал был ужасный. Но что другое мог сделать бедняга Маркос? Останься он рядом со мною, лежащей без чувств в полночь, когда старухи думали, что я сплю в своей постели, ты представляешь, что бы началось? В такой ситуации он поступил очень разумно. Но все равно, шум поднялся невероятный. Когда я пришла в себя, обе сестры, горничная, кухарка, все как есть, стояли надо мной с одеколоном, веерами и прочим. Они рыдали и причитали, словно случилась неслыханная трагедия. Осыпали меня вопросами, стонали, крестились, приговаривали «Боже мой», суетились…
Это была катастрофа.
Как ты понимаешь, давать объяснения я отказалась.
Приехала удрученная горем бабушка Элена, она напрасно пыталась выведать у меня, что произошло. А у меня началась лихорадка, и почти все лето я проболела.
Только к концу февраля я стала подниматься.
Я как бы онемела, ни с кем не разговаривала. Отказывалась ходить в церковь – сама возможность исповедаться в моих мыслях приводила меня в ужас.
Когда мы вернулись в Буэнос-Айрес, тетя Тереса (не помню, говорила ли я тебе об этой старой истеричке, которая всю жизнь только и знала, что ходить на бдения да по церквам, и все ее разговоры были о болезнях и лекарствах), так вот, тетя Тереса, когда увидела меня, сказала:
– Вылитый папочка. Такая же пропащая будешь. Я рада, что ты не моя дочь.
Я вышла от нее с бешеной ненавистью к этой старой идиотке. Но странная вещь, еще большую ненависть, чем к ней, я питала к своему отцу – фраза тетушки, ударив по мне, отлетела как бумеранг к отцу, а потом снова вернулась ко мне.
Я сказала бабушке Элене, что хочу в колледж, что ни дня не проведу в этом доме. Она обещала поговорить с сестрой Теодолиной, попросить, чтобы меня как-нибудь приняли до начала учебного года. Не знаю, как они там договаривались, но меня каким-то образом приняли. В тот же вечер я стала на колени возле своей кровати и попросила Бога, чтобы тетя Тереса умерла. Я просила его с яростным рвением и повторяла просьбу несколько месяцев каждый вечер перед сном, а также в долгие часы молитв у алтаря. Все это время, несмотря на уговоры сестры Теодолины, я отказывалась от исповеди: у меня была довольно хитрая мысль – сперва вымолить смерть тетке, а уж потом исповедаться: иначе (думала я), если я исповедуюсь раньше, придется признаться в моих замыслах и меня вынудят от них отказаться.
Однако тетя Тереса не умерла. Напротив, когда я вернулась домой на каникулы, старуха казалась здоровей прежнего. Должна тебе сказать, хотя она все время хныкала и глотала таблетки всех цветов радуги, здоровье у нее было железное. Высшим наслаждением для нее было говорить о больных и о покойниках. Она входила в столовую или в гостиную и с восторгом объявляла: