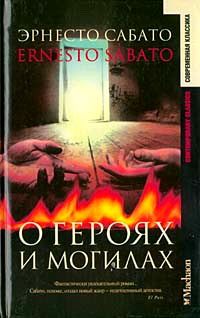Читать книгу "О героях и могилах"
– Лучше бы его убили в Кебрачо-Эррадо, – пробормотал старик.
Мартин недоуменно взглянул на Алехандру.
– Это он про полковника Асеведо – понимаешь? Если бы полковника убили в Кебрачо-Эррадо, ему бы не отрубили голову тогда, когда он надеялся увидеть свою жену и дочь.
«Лучше бы меня убили в Кебрачо-Эррадо», – думает полковник Бонифасио Асеведо во время бегства на север – у него-то на уме другие обстоятельства, обстоятельства, которые ему кажутся ужасными (это безнадежное бегство, отчаяние, лишения, полный разгром), но на самом деле они несравненно менее ужасны, чем те, в которых он окажется через двенадцать лет, в тот миг, когда у самого своего дома ощутит на горле лезвие ножа.
Мартин увидел, что Алехандра подходит к полке, и вскрикнул, но она со словами «не будь трусом» достала коробку, сняла крышку и показала ему голову полковника – Мартин прикрыл руками глаза, а она, ставя все на место, сухо засмеялась.
– В Кебрачо-Эррадо, – бормотал старик, кивая.
– Таким образом, – объяснила Алехандра, – опять получается, что я родилась чудом.
Потому что, если бы ее прадедушку прапорщика Селедонио Ольмоса убили в Кебрачо-Эррадо, как его брата и его отца, она бы не родилась и в эту минуту не находилась бы здесь, в этой комнате, вспоминая прошлое. Крикнув в ухо дедушке «расскажи ему про голову» и бросив Мартину, что ей надо уйти, она исчезла прежде, чем он сообразил побежать за нею (возможно, оттого, что был как бы оглушен), и оставила его со стариком, все повторявшим «про голову, вот именно, про голову» и кивавшим, как болванчик. Затем его нижняя челюсть задвигалась сильнее, задрожала, уста промямлили что-то невнятное (возможно, он что-то повторял про себя, как школьники повторяют урок), и он наконец произнес:
– Это масорка, это они бросили голову, швырнули ее через окно в гостиную. Соскочили с коней, сами хохочут, орут от радости, подошли к окну и закричали: «Арбузы, хозяйка! Свеженькие арбузы!» И когда изнутри открыли окно, они забросили в дом окровавленную голову дяди Бонифасио. Лучше бы его тоже убили в Кебрачо-Эррадо, как дядю Панчито и дедушку Патрисио. Я так думаю.
Так думал и полковник Лсеведо во время бегства на север по ущелью Умауака со ста семьюдесятью четырьмя товарищами (и одной женщиной), спасаясь от преследователей, оборванный, удрученный, потерпевший поражение, но не ведающий, что проживет еще двенадцать лет на чужбине в ожидании минуты, когда сможет вернуться и увидеть жену и дочь.
– Они кричали «свеженькие арбузы», а то была голова, мой мальчик. И бедняжка Энкарнасьон, когда ее увидела, упала как мертвая и через несколько часов скончалась, не придя в себя. А бедняжка Эсколастика, одиннадцатилетняя девчушка, решилась ума. Вот так.
И, качая головой, он задремал, а Мартин стоял, парализованный тихим, непонятным ужасом, посреди этой темной комнаты, рядом со столетним старцем, с головой полковника Асеведо в коробке, чувствуя, что где-то поблизости бродит сумасшедший. Он подумал: надо бы уйти. Но боязнь встретиться с сумасшедшим мешала ему пошевельнуться. И тогда он себе сказал, что лучше дождаться возвращения Алехандры, что она скоро придет, должна скоро прийти, она же знает, что ему тут с этим стариком делать нечего. У него было ощущение, что мало-помалу его засасывает какой-то кошмар, в котором все нереально и абсурдно. Со стен на него смотрели изображенные Прилидиано Пуэйрредоном [29]29
Пуэйрредон, Педро Прилидиано (1823 – 1873) – аргентинский живописец и график. – Прим. перев.
[Закрыть] господин и дама с высоким гребнем в волосах. Словно бы души воинов, конкистадоров, безумцев, правителей и священников незримо заполняли помещение и тихонько меж собой беседовали: рассказывали истории завоеваний, побед, схваток, гибели от копий и ножей.
– Сто семьдесят пять человек.
Он посмотрел на старика – отвисшая нижняя челюсть, подрагивая, подтверждала: «Сто семьдесят пять человек».
И одна женщина. Но старик этого не знает или не желает знать. Вот все, что осталось от гордогоЛегиона после восьмисот лиг отступления и разгрома, после двух лет разочарований и многих смертей. Колонна из ста семидесяти пяти несчастных, молчаливых мужчин (и одной женщины), скачущих галопом на север, все дальше на север. Неужели не доберутся? Да есть ли она, страна Боливия, за этим нескончаемым ущельем? Октябрьское солнце жжет нестерпимо, труп генерала разлагается. Ночной холод примораживает гной и сдерживает полчища червей. И снова день и стрельба в арьергарде, и по пятам скачут копейщики Орибе.
Запах, страшный трупный запах от тела генерала.
Голос, поющий
в ночной тишине:
Белая голубка,
летишь ты в дали,
всем расскажи,
что убит Лавалье.
– Орнос их оставил, черт возьми. Сказал «я присоединюсь к армии Паса» [30]30
Пас, Хосе Мария (1791 – 1854) – аргентинский генерал, унитарий. – Прим. перев.
[Закрыть]. И оставил их, а с ним и команданте Окампо, черт возьми. И Лавалье смотрит, как они уходят с его людьми на восток, только пыль клубится. И мой отец говорил, что у генерала на глазах были слезы, когда он смотрел, как уходят два его эскадрона. Оставалось у него сто семьдесят пять человек.
Старик опять кивнул и задумался, продолжая качать головой.
– Негры Орноса любили, крепко любили. И папа в конце концов подружился с Орносом. Орнос приезжал сюда, в усадьбу, они пили мате [31]31
Мате – распространенный в Южной Америке напиток, изготавливающийся из листьев и стеблей вечнозеленого дерева или кустарника («парагвайский чай»). – Прим. перев.
[Закрыть], вспоминали поход.
Он снова забормотал что-то непонятное, челюсть отвисла, старик промямлил что-то про команданте Орноса и полковника Педернеру. Потом умолк. Спит он или думает? А может быть, в нем теплится скрытая, тихая жизнь, которая сродни вечности, – как в ящерицах в течение долгих зимних месяцев.
Педернера думает: двадцать пять лет походов, битв, побед и поражений. Но в те времена мы знали, за что сражаемся. Мы сражались за свободу континента, за Великую Родину. А теперь… Столько крови пролилось на американскую землю, столько рассветов встречали мы в отчаянии, столько слышали воплей братоубийственной войны… Вот сейчас нагрянет Орибе, готовый рубить нам головы, пронзать нас копьями, уничтожать всеми способами. А не он ли сражался рядом со мной в Андской армии? Свирепый, жестокий генерал Орибе. Где же правда? Какое прекрасное было время! Как горделиво красовался Лавалье в своем мундире майора гренадеров, когда мы входили в Лиму! Тогда все было понятней, все было красиво, как наши мундиры…
Он закашлялся, казалось, вот-вот уснет, но внезапно снова заговорил:
– Потому что про Лавалье, сынок, можно говорить все что угодно, но ни один порядочный человек не станет отрицать его честность, истинное мужество, рыцарский дух, бескорыстие. Да, ни один.
Я дрался в ста пяти битвах за свободу этого континента. Я сражался на земле Чили под командованием генерала Сан-Мартина [32]32
Сан-Мартин, Хосе де (1778 – 1850) – национальный герой Аргентины, один из руководителей Войны за независимость; освободил территорию Аргентины, Чили и Перу от испанского господства и возглавил первое правительство Перу (1821 – 1822). – Прим. перев.
[Закрыть], и в Перу под началом генерала Боливара. И еще я воевал против имперских войск на бразильской территории. И потом, в эти два злополучных года, прошел в боях всю нашу бедную родину вдоль и поперек. Возможно, я совершал непоправимые ошибки, и худшая из них – это расстрел Доррего [33]33
Доррего, Мануэль (1778 – 1828) – аргентинский военный и политический деятель. В 1820 и 1827 гг. губернатор провинции Буэнос-Айрес. Был свергнут мятежниками во главе с Лавалье и расстрелян. – Прим. перев.
[Закрыть]. Но кто владеет истиной? Ничего я не знаю кроме того, что эта жестокая земля – моя земля и что здесь мне суждено было сражаться и погибнуть. Труп мой разлагается на моем боевом коне, и это все, что я знаю.
– Да, ни один, – сказал старик, кашляя и перхая, как бы задумавшись и со слезящимися глазами повторяя «да, ни один», все кивая головой, словно соглашаясь с невидимым собеседником.
Задумавшись и со слезящимися глазами. Всматриваясь в свою реальность, в единственную реальность.
Реальность, которая строилась по удивительнейшим законам.
– Дело было в 1832-м, как рассказывал мой отец, именно так. И должен тебе сказать, что в истории с улучшением породы скота были и «за» и «против». Затеял все это англичанин Миллер со своим знаменитым быком Таркино, в году 1830-м. Вот именно, со знаменитым Таркино в усадьбе «Ла Каледония».
Старик снова захихикал и закашлял, неловко вытирая платком слезящиеся глаза.
– О чем я тебе говорил?
– О породистых быках.
– Вот-вот, о быках.
Он с минуту покашлял, покивал, затем продолжил:
– Семья Эваристо так нам никогда и не простила. Никогда. Даже когда отрубили голову моему дяде. В общем, наша семья разделилась из-за этого тирана. Никто тогда не мог спать спокойно. И можешь себе представить, какой страх был у нас в доме – когда папа вступил в Легион, мать ведь осталась одна. И дедушка мой дон Патрисио тоже туда отправился – я тебе рассказывал историю дона Патрисио? – и мой двоюродный дед Бонифасио, и дядя Панчито. Так что в усадьбе остался только дядя Сатурнино, самый младший, совсем мальчик. А то одни женщины. Одни женщины.
Он снова провел платком по слезящимся глазам, покачал головою и стал как будто засыпать. Но вдруг сказал:
– Шестьдесят лиг. И люди Орибе гонятся по пятам. И отец рассказывал, что тогда, в октябре, солнце сильно пекло. Тело генерала быстро разлагалось, после двух дней скачки галопом вонь шла невыносимая. А до границы еще оставалось сорок лиг. Пять дней, сорок лиг. Только ради того, чтобы спасти голову и кости Лавалье. Только ради этого, сынок. Потому что они проиграли, ничего уже нельзя было сделать: о том, чтобы воевать против Росаса, и думать нечего. А ведь у мертвого генерала могли отрубить голову да насадить ее на копье, чтобы его опозорить и послать Росасу. Да еще с запиской: вот, мол, голова дикаря, гнусного, мерзкого пса-унитария Лавалье. Так что надо было любой Ценой спасти тело генерала, добраться до Боливии, все семь дней отстреливаясь от преследователей. Шестьдесят лиг бешеной скачки. Почти без отдыха.
Я команданте Алехандро Данель, сын майора Данеля из армии Наполеона. Помню отца, как он возвращался с Великой Армией, ехал верхом по саду Тюильри или по Елисейским полям. Как сейчас вижу Наполеона с эскортом его ветеранов, легендарных мамелюков. И потом, когда все кончилось, когда Франция перестала быть краем Свободы, я мечтал сражаться против угнетателей других народов, и я приплыл к этим берегам вместе с Брюи, Вьелем, Барделем, Брандсеном и Раухом, которые когда-то были соратниками Наполеона. Бог мой, сколько лет прошло, сколько было битв, сколько побед и поражений, сколько смертей, сколько крови пролито! В тот день 1825 года я увидел его, и он показался мне подобным величественному орлу во главе своего полка кирасир. И тогда я отправился с ним на войну в Бразилию, и, когда он был ранен у Иербаля [34]34
Йербаль – река в Аргентине. – Прим. перев.
[Закрыть], я подобрал его и вместе со своими людьми вез его восемьдесят лиг через реки и горы, преследуемый неприятелем, как сейчас… И больше никогда с ним не разлучался… И вот теперь, после восьмидесяти лиг безнадежного бегства, я еду рядом с его разлагающимся трупом, еду в никуда…
Старик очнулся и снова заговорил:
– Кое-что я видел сам, о другом слышал от папы, но особенно от матери, потому что отец был молчалив, говорил редко. И когда приезжали пить мате генерал Орнос или полковник Окампо и вспоминали былое и походы Легиона, папочка обычно только слушал да время от времени приговаривал: «Вот дела-то!»
Голова старика закачалась, и вдруг он громко захрапел.
Мартин снова обернулся к дверям, но там все было тихо. Где же Алехандра? Что она делает в своей комнате? Он еще подумал, что не ушел лишь ради того, чтобы старик не остался один, а тот его и не слышит, возможно, даже и не видит: существуя в какой-то темной, таинственной стране, он не думал ни о себе, ни о ком другом из ныне живущих, отгороженный годами, глухотою и дальнозоркой памятью о прошлом, которое стояло перед ним, как непроницаемая стена сновидений, – он жил как бы на дне колодца, вспоминая негров, скачки верхом, отрубленные головы и эпизоды походов Легиона. Мартин остался здесь не из почтения к старику, нет, его словно бы сковала боязнь переступить границы той своеобразной реальности, где обретались старик, сумасшедший Бебе и даже сама Алехандра. Реальности таинственной, болезненной, несвязной и эфемерной, как сновиденья, и такой же поразительной. Однако Мартин встал наконец со стула, к которому чуть ли не прирос, и, пробираясь между рухлядью, начал осторожненько отходить от старика под бдительными взорами предков на стенах, озираясь на полку с коробкой. Так он дошел до двери и остановился, не решаясь ее открыть. Приложился ухом к щели, и ему почудилось, что по ту сторону, поджидая его, стоит сумасшедший с кларнетом в руке. Мартин даже ощутил его дыхание. Испугавшись, он возвратился, снова сел на стул и вдруг услышал: – Всего тридцать пять лиг.
Да, осталось тридцать пять лиг. Три дня скачки галопом по ущелью с трупом, разбухшим и издающим зловоние далеко вокруг, сочащимся жуткой влагой разложения. Вперед, все вперед, с несколькими бойцами, постреливающими в арьергарде. От Жужуя [35]35
Жужуй – город на севере Аргентины, административный центр одноименной провинции. – Прим. перев.
[Закрыть] до Уакалеры двадцать четыре лиги. Всего лишь тридцать пять лиг, говорят они, чтобы себя подбодрить. Всего лишь четыре или пять дней скачки, если повезет.
В ночной тишине слышится топот копыт – кавалькада призраков. Вперед, на север.
– Потому что в ущелье солнце очень пекло, сынок, это же высоко в горах, воздух там чистый-чистый. Так что после двух дней скачки труп разбух и вонь была слышна далеко вокруг, говорил отец, а на третий день пришлось отделить мясо от скелета, вот как.
Полковник Педернера приказывает сделать остановку и обращается к отряду: труп разложился, зловоние ужасное. Надо отделить мясо и сохранить скелет. А также сердце, говорит кто-то. Но главное – голову: Орибе не удастся захватить голову, опозорить генерала.
Кто возьмется это сделать? Кто сможет это сделать?
Это сделает полковник Алехандро Данель.
И они снимают с коня зловонный труп генерала. Кладут его на берегу речки Уакалера, полковник Да-нелъ опускается рядом на колени и достает походный нож. Сквозь слезы глядит он на обнаженное, обезображенное тело своего командира. И стоящие кругом люди в лохмотьях также глядят сквозь слезы, и лица их суровы и задумчивы.
И вот нож медленно вонзается в прогнившую плоть.
ХІІІ
Мартин ждал, время шло, а старик не просыпался. Теперь-то он заснул всерьез, подумал Мартин и тихонько, стараясь не шуметь, поднялся и пошел к той двери, через которую с Алехандрой входил. Ему было очень страшно, потому что уже рассвело и первые лучи осветили комнату дона Панчо. Пугала мысль, что он может столкнуться с дядей Бебе или что уже встала служанка, старуха Хустина. И тогда – что он им скажет?
«Я пришел с Алехандрой», – скажет он.
Потом он подумал, что в этом доме, наверно, ни на что не обращают внимания и нечего опасаться каких-то неприятностей. Кроме, пожалуй, встречи с безумным, с дядей Бебе.
В коридоре, куда вела эта дверь, он услышал – или ему только почудилось? – не то шорох, не то шаги. Положив руку на клямку, чувствуя сильное сердцебиение, Мартин, притаясь, выжидал. Донесся дальний свисток поезда. Приставив ухо к двери, Мартин с тревогой прислушался: все было тихо, и он уже собрался открыть дверь, как вновь раздался легкий шорох, на сей раз вполне отчетливый: то были осторожные, медленные шаги, как если бы кто-то приближался к той же двери с другой стороны.
«Это сумасшедший», – с волнением подумал Мартин и на миг отшатнулся от двери, опасаясь, как бы ее внезапно не открыли и не застали его в такой подозрительной позе.
Довольно долго он стоял, не зная, что предпринять: было боязно открыть дверь и столкнуться с сумасшедшим, но в то же время он все оглядывался на дона Панчо, опасаясь, что тот проснется и будет его искать.
Наконец Мартин решил, что уж лучше второе – пусть старик просыпается. Тогда если сумасшедший войдет, то увидит Мартина с ним, и Мартин сможет объяснить свое присутствие. Или сумасшедшему, возможно, и не надо давать никаких объяснений.
Он вспомнил слова Алехандры, что сумасшедший этот тихий, что он всего лишь играет на кларнете, без конца повторяет одну фиоритуру. Но ходит ли он свободно по дому? Или заперт в одной из комнат, как была заперта Эсколастика, как водилось в этих старинных домах?
Так думал он, продолжая прислушиваться.
Но, не слыша больше никаких звуков, успокоился и снова припал ухом к двери, настороженно
пытаясь уловить любой подозрительный шелест или шорох – нет, теперь ничего не слышно.
Очень медленно Мартин стал поворачивать клямку. Это было громоздкое устройство, каким пользовались в старину: сама клямка была сантиметров десять. При повороте она ужасно скрипела, как ему показалось. И он подумал, что если сумасшедший бродит тут поблизости, он непременно услышит и насторожится. Но что остается делать в таком положении? И уже более решительно, чувствуя, что отступать некуда, Мартин отворил дверь.
И чуть не вскрикнул.
Перед ним, прямой и неподвижный, стоял сумасшедший. Это был мужчина за сорок, обросший давно не бритой щетиной, в поношенной одежде, без галстука, со всклокоченной шевелюрой. На нем была спортивная, когда-то синяя куртка и брюки из серой фланели. Сорочка расстегнута, и вообще весь костюм мятый и грязный. В опущенной правой руке дядя Бебе держал свой пресловутый кларнет. Лицо изможденное, с тем отсутствующим выражением и застывшим, затуманенным взглядом, какие часто бывают у безумных; худое угловатое лицо с серо-зелеными глазами Ольмосов и большим орлиным носом, а вся голова огромная и вытянутая, как дирижабль.
Страх парализовал Мартина, он не мог вымолвить ни слова.
Сумасшедший долго и молча смотрел на него, потом, ничего не говоря, повернулся несколькими мягкими мелкими рывками и засеменил по коридору, направляясь, видимо, в свою комнату.
Мартин чуть не бегом кинулся в противоположную сторону, во двор, уже ярко освещенный утренним солнцем.
Старая-престарая индианка стирала в тазике. «Хустина», – подумал Мартин, опять пугаясь.
– Добрый день, – сказал он, стараясь говорить спокойно и как можно более естественно.
Старуха не ответила. «Может, она глухая, как дон Панчо», – подумал Мартин.
Однако несколько секунд, которые показались Мартину бесконечными, она провожала его загадочным, непроницаемым взглядом. Потом снова взялась за стирку.
Остановившийся было в нерешительности, Мартин понял, что надо вести себя смелей, и направился к винтовой лестнице, ведущей в бельведер.
Подойдя к двери, он постучал.
Через несколько секунд, не слыша ответа, постучал снова. Ответа опять не было. Тогда, приблизив губы к замочной скважине, он громко позвал Алехандру. Опять подождал, но никто не ответил.
Мартин подумал, что она, возможно, спит.
Он понял, что лучше всего уйти. Однако тут же поймал себя на том, что идет к окну бельведера. Шторы на окне не были опущены. Мартин заглянул внутрь, пытаясь разглядеть Алехандру в полутемном помещении, но, когда глаза привыкли, он с удивлением обнаружил, что ее там нет.
С минуту он не мог сообразить, что делать, в голове не было ни одной связной мысли. Потом он все же вернулся к лестнице и стал осторожно по ней спускаться, пытаясь хоть что-нибудь понять.
Пройдя по заднему двору и по запущенному саду, он наконец очутился на улице.
Неуверенным шагом брел Мартин по пустырю в сторону авениды Монтес-де-Ока, чтобы там сесть на автобус. Но, пройдя немного, остановился и посмотрел назад, на дом Ольмосов. В душе царило смятение, он не мог ни на что решиться.
И повернул обратно, даже сделал несколько шагов по направлению к дому, затем снова остановился. Поглядел на ржавую изгородь, словно ожидая чего-то. Чего? При дневном свете огромный дом выглядел еще нелепей – обветшалые, обшарпанные стены, заросли сорняков в саду, заржавевшая ограда и покосившаяся дверь являли собой еще более резкий, чем ночью, контраст с фабрикой и ее трубами. Наверно, так же нелепо выглядит привидение днем.
Взгляд Мартина остановился на бельведере, который там, наверху, показался ему одиноким и таинственным, как сама Алехандра. «Боже мой! – сказал он себе. – Да что же это такое?»
Ночь, проведенная в этом доме, представлялась теперь, при свете дня, неким сном: бессмертный старик, голова команданте Асеведо в шляпной коробке, сумасшедший дядюшка с кларнетом и отсутствующим взглядом, старуха индианка, глухая или же ко всему безразличная, даже не потрудившаяся осведомиться, кто он и что тут делает этот посторонний человек, выходящий из их дома и поднимающийся на бельведер, история капитана Элмтриза, невероятная история Эсколастики и ее безумия, но главное – сама Алехандра.
Он стал размышлять не торопясь: идти на Монтес-де-Ока и сесть в автобус показалось ему сейчас невозможным. Лучше уж пойти пешком по улице Исабель-ла-Католика до Мартин-Гарсиа; на этой старинной улице он понемногу соберется с мыслями, что-нибудь себе уяснит.
Больше всего его удивляло и тревожило исчезновение Алехандры. Где она провела ночь? Может, она повела его к дедушке, чтобы от него отделаться? Да нет, тогда бы она попросту отпустила его, когда он после рассказа о Маркосе Молине и о миссиях на Амазонке, после всех этих пляжных историй хотел уйти. Почему ж она его не отпустила в тот момент?
Да, все было непредсказуемо – возможно, и для нее самой. Быть может, ей вздумалось уйти именно тогда, когда он был с доном Панчо. Но в таком случае, почему она его об этом не предупредила? Впрочем, подробности не так уж важны. Важно, что Алехандра провела ночь не в своем бельведере. Стало быть, можно предположить, что у нее есть другое место для ночлега. И, видимо, место привычное, ведь не было никаких оснований думать, что в эту ночь произошло что-то из ряду вон выходящее.
Или она просто отправилась побродить по улицам?
Да, да, подумал он с внезапным облегчением, почти с радостью: конечно, она вышла побродить, подумать, проветриться. Такая уж она: непредсказуемая и беспокойная, странная, может бродить ночью по пустынным улицам пригорода. А почему бы нет? Разве не в парке они познакомились? Разве не любила она сидеть на этих скамьях, где они встретились в первый раз?
Да, все было возможно.
Почувствовав облегчение, он прошел несколько кварталов. Как вдруг вспомнил то, что уже и прежде казалось ему странным, а теперь вновь вызвало тревогу: смущение Алехандры, когда она всего однажды произнесла имя Фернандо и сразу же словно раскаялась; и еще ее реакция, когда он упомянул о слепых. Что для нее это значило? Без сомнения, что-то важное, она тогда остановилась как вкопанная. Может, загадочный Фернандо он-то и есть слепой? И во всяком случае, кто он, этот Фернандо, которого она явно не хотела упоминать, как бы одержимая страхом, запрещающим иным народам произносить имя божества?
И снова Мартин подумал с грустью, что их разделяют темные бездны и, вероятно, всегда будут разделять.
Но тут его вновь озарила надежда – почему ж она подошла к нему в парке? И разве не сказала, что он ей нужен, что их объединяет нечто очень важное?
Нерешительно пройдя несколько шагов, он остановился и вперил взор в мостовую, словно спрашивая себя: но для чего ж я могу быть ей нужен?
Им владела безумная любовь к Алехандре и печалило то, что она-то, видимо, не пылает взаимностью. И если он, Мартин, ей нужен, это все же совсем не то чувство, которое он испытывает к ней.
От этих мыслей голова шла кругом.