Текст книги "Карамазовы"
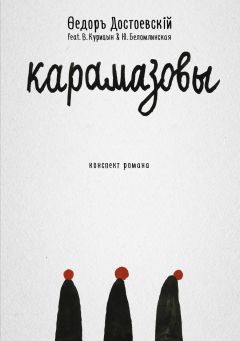
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц)
Часть восьмая
Предварительное следствие
Не давала никогда, никогда
Петр Ильич Перхотин, которого мы оставили стучащимся изо всей силы в крепкие запертые ворота дома купчихи Морозовой, кончил, разумеется, тем, что наконец достучался. Заслышав такой неистовый стук в ворота, Феня, столь напуганная часа два назад и все еще от волнения и «думы» не решавшаяся лечь спать, была испугана теперь вновь почти до истерики: ей вообразилось, что стучится опять Дмитрий Федорович (несмотря на то, что сама же видела, как он уехал), потому что стучаться так «дерзко» никто не мог, кроме его. Она бросилась к проснувшемуся дворнику, уже шедшему на стук к воротам, и стала было молить его, чтобы не впускал. Но дворник опросил стучавшегося и, узнав, кто он и что хочет он видеть Федосью Марковну по весьма важному делу, отпереть ему наконец решился. Войдя к Федосье Марковне все в ту же кухню, Петр Ильич начал ее расспрашивать и вмиг попал на самое главное: то есть что Дмитрий Федорович, убегая искать Грушеньку, захватил из ступки пестик, а воротился уже без пестика, но с руками окровавленными. «И кровь еще капала, так и каплет с них, так и каплет!» – восклицала Феня, очевидно сама создавшая этот ужасный факт в своем расстроенном воображении. Но окровавленные руки видел и сам Петр Ильич, хотя с них и не капало, и сам их помогал отмывать, да и не в том был вопрос, скоро ль они высохли, а в том, куда именно бегал с пестиком Дмитрий Федорович, то есть наверно ли к Федору Павловичу, и из чего это можно столь решительно заключить? На этом пункте Петр Ильич настаивал обстоятельно и хотя в результате твердо ничего не узнал, но все же вынес почти убеждение, что никуда Дмитрий Федорович и бегать не мог, как в дом родителя, и что, стало быть, там непременно должно было нечто произойти. Расспросив еще кой о чем, Петр Ильич вышел из дома еще в большем волнении и беспокойстве, чем как вошел в него.
Злобно топнув ногой в землю и опять себя выбранив, немедленно бросился в новый путь, но уже не к Федору Павловичу, а к госпоже Хохлаковой. Если та, думал он, ответит на вопрос: она ли дала три тысячи давеча, в таком-то часу, Дмитрию Федоровичу, то в случае отрицательного ответа он тут же и пойдет к исправнику, не заходя к Федору Павловичу; в противном же случае отложит все до завтра и воротится к себе домой.
Было ровно одиннадцать часов, когда он вступил в дом госпожи Хохлаковой. Горничная, удивленно оглядев его, пошла докладывать. Госпожа Хохлакова была поражена, подумала, расспросила, каков он с виду, и узнала, что «очень прилично одеты-с, молодые и такие вежливые». Заметим в скобках и мельком, что Петр Ильич был довольно-таки красивый молодой человек и сам это знал о себе. Госпожа Хохлакова решилась выйти. Была она уже в своем домашнем шлафроке и в туфлях, но на плечи она накинула черную шаль. «Чиновника» попросили войти в гостиную, в ту самую, в которой давеча принимали Митю. Хозяйка вышла к гостю со строго вопросительным видом и, не пригласив сесть, прямо начала с вопроса: «Что угодно?»
– Я решился обеспокоить вас, сударыня, по поводу общего знакомого нашего Дмитрия Федоровича Карамазова, – начал было Перхотин, но только что произнес это имя, как вдруг в лице хозяйки изобразилось сильнейшее раздражение. Она чуть не взвизгнула и с яростью прервала его.
– Долго ли, долго ли будут меня мучить этим ужасным человеком? – вскричала она исступленно. – Как вы смели, милостивый государь, как вы решились обеспокоить незнакомую вам даму в ее доме и в такой час… и явиться к ней говорить о человеке, который здесь же, в этой самой гостиной, всего три часа тому, приходил убить меня, стучал ногами и вышел, как никто не выходит из порядочного дома. Знайте, милостивый государь, что я на вас буду жаловаться, что я не спущу вам, извольте сей же час оставить меня… Я мать, я сейчас же… я… я…
– Убить! Так он и вас хотел убить?
– А разве он кого-нибудь уже убил? – залюбопытствовалась госпожа Хохлакова.
– Соблаговолите выслушать, сударыня, только полминуты, и я в двух словах разъясню вам все, – с твердостью ответил Перхотин. – Сегодня, в пять часов пополудни, господин Карамазов занял у меня, по-товарищески, десять рублей, и я положительно знаю, что у него денег не было, а сегодня же в девять часов он вошел ко мне, неся в руках на виду пачку сторублевых бумажек, примерно в две или даже в три тысячи рублей. Руки же у него и лицо были все окровавлены, сам же казался как бы помешанным. На вопрос мой, откуда взял столько денег, он с точностью ответил, что взял их сейчас пред тем от вас и что вы ссудили его суммою в три тысячи, чтоб ехать будто бы на золотые прииски…
В лице госпожи Хохлаковой вдруг выразилось необычайное и болезненное волнение.
– Боже! Это он старика отца своего убил! – вскричала она, всплеснув руками. – Никаких я ему денег не давала, никаких! О, бегите, бегите!.. Не говорите больше ни слова! Спасайте старика, бегите к отцу его, бегите!
– Позвольте, сударыня, итак, вы не давали ему денег? Вы твердо помните, что не давали ему никакой суммы?
– Не давала, не давала! Я ему отказала, потому что он не умел оценить. Он вышел в бешенстве и затопал ногами. Он на меня бросился, а я отскочила… И я вам скажу еще, как человеку, от которого теперь уж ничего скрывать не намерена, что он даже в меня плюнул, можете это себе представить? Но что же мы стоим? Ах, сядьте… Извините, я… Или лучше бегите, бегите, вам надо бежать и спасти несчастного старика от ужасной смерти!
– Но если уж он убил его?
– Ах, Боже мой, в самом деле! Так что же мы теперь будем делать? Как вы думаете, что теперь надо делать?
Петр Ильич встал и объявил, что пойдет теперь прямо к исправнику и все ему расскажет, а там уж как тот сам знает.
– Ах, это прекрасный, прекрасный человек, я знакома с Михаилом Макаровичем. Непременно, именно к нему. Как вы находчивы, Петр Ильич, и как хорошо это вы все придумали; знаете, я бы никак на вашем месте этого не придумала! Знаете, не поехать ли мне самой с вами?..
– Н-нет-с, а вот если бы вы написали вашею рукой сейчас три строки, на всякий случай, о том, что денег Дмитрию Федоровичу никаких не давали, то было бы, может быть, не лишнее… на всякий случай…
– Непременно! – восторженно прыгнула к своему бюро госпожа Хохлакова. – И знаете, вы меня поражаете, вы меня просто потрясаете вашею находчивостью и вашим умением в этих делах… Вы здесь служите? Как это приятно услышать, что вы здесь служите…
И, еще говоря это, она быстро начертала на полулисте почтовой бумаги три крупные следующие строчки:
Никогда в жизни моей я не давала взаймы несчастному Дмитрию Федоровичу Карамазову (так как он все же теперь несчастен) трех тысяч рублей сегодня, да и никаких других денег никогда, никогда! В том клянусь всем, что есть святого в нашем мире.
Хохлакова.
– Вот эта записка! – быстро обернулась она к Петру Ильичу. – Идите же, спасайте. Это великий подвиг с вашей стороны.
И она три раза его перекрестила. Она выбежала провожать его даже до передней.
– Как я вам благодарна! Вы не поверите, как я вам теперь благодарна за то, что вы зашли ко мне к первой. Как это мы с вами не встречались? Мне очень лестно бы было вас принимать и впредь в моем доме. О, я так люблю молодежь! Я влюблена в молодежь. Молодые люди – это основание всей теперешней страждущей нашей России, вся надежда ее… О, идите, идите!..
Но Петр Ильич уже выбежал, а то бы она его так скоро не выпустила. Впрочем, госпожа Хохлакова произвела на него довольно приятное впечатление, даже несколько смягчившее тревогу его о том, что он втянулся в такое скверное дело. Вкусы бывают чрезвычайно многоразличны, это известно. «И вовсе она не такая пожилая, – подумал он с приятностью, – напротив, я бы принял ее за ее дочь».
Тревога
Исправник наш Михаил Макарович Макаров, отставной подполковник, переименованный в надворные советники, был человек вдовый и хороший. Пожаловал же к нам всего назад лишь три года, но уже заслужил общее сочувствие тем, главное, что «умел соединить общество». Гости у него не переводились, и, казалось, без них он бы и сам прожить не мог. Каждый вечер играли в карты, хоть бы на одном только столике. В эту минуту как раз у него сидели за ералашем прокурор и наш земский врач, Варвинский, молодой человек, только что к нам прибывший из Петербурга, один из блистательно окончивших курс в петербургской медицинской академии. Прокурор же, то есть товарищ прокурора, но которого у нас все звали прокурором, Ипполит Кириллович, был у нас человек особенный, не старый, всего лишь лет тридцати пяти, но сильно наклонный к чахотке, при сем женатый на весьма толстой и бездетной даме, самолюбивый и раздражительный, при весьма солидном, однако, уме и даже доброй душе.
В соседней комнате, с барышнями, сидел и наш молодой судебный следователь Николай Парфенович Нелюдов, всего два месяца тому прибывший к нам из Петербурга. Потом у нас говорили и даже дивились тому, что все эти лица как будто нарочно соединились в вечер преступления вместе в доме исполнительной власти.
Петр Ильич, войдя к исправнику, вдруг увидал, что там все уже знают. Карты бросили, все стояли и рассуждали, и даже Николай Парфенович прибежал от барышень и имел самый боевой и стремительный вид. Петра Ильича встретило ошеломляющее известие, что старик Федор Павлович действительно и в самом деле убит в этот вечер в своем доме, убит и ограблен. Узналось же это только сейчас пред тем, следующим образом.
Марфа Игнатьевна, супруга поверженного у забора Григория, спавшая крепким сном на своей постеле, вдруг пробудилась. Способствовал тому страшный эпилептический вопль Смердякова, лежавшего в соседней комнатке без сознания, – тот вопль, которым всегда начинались его припадки падучей и которые всегда, во всю жизнь, страшно пугали Марфу Игнатьевну и действовали на нее болезненно. Спросонья она вскочила и почти без памяти бросилась в каморку к Смердякову. Но там было темно, слышно было только, что больной начал страшно храпеть и биться. Тут Марфа Игнатьевна закричала сама и начала было звать мужа, но вдруг сообразила, что ведь Григория-то на кровати, когда она вставала, как бы и не было. Она подбежала к кровати и ощупала ее, но кровать была в самом деле пуста. Стало быть, он ушел, куда же? Она выбежала на крылечко и робко позвала его с крыльца. Ответа, конечно, не получила, но зато услышала среди ночной тишины откуда-то как бы далеко из сада какие-то стоны. Она прислушалась; стоны повторились опять, и ясно стало, что они в самом деле из саду. «Господи, словно как тогда Лизавета Смердящая!» – пронеслось в ее расстроенной голове. Робко сошла она со ступенек и разглядела, что калитка в сад отворена. «Верно, он, сердечный, там», – подумала она, подошла к калитке и вдруг явственно услышала, что ее зовет Григорий, кличет: «Марфа, Марфа!» – слабым, стенящим, страшным голосом. «Господи, сохрани нас от беды», – прошептала Марфа Игнатьевна и бросилась на зов и вот таким-то образом и нашла Григория. Но нашла не у забора, не на том месте, где он был повержен, а шагов уже за двадцать от забора. Потом оказалось, что, очнувшись, он пополз и, вероятно, полз долго, теряя по нескольку раз сознание и вновь впадая в беспамятство. Она тотчас заметила, что он весь в крови, и тут уж закричала благим матом. Григорий же лепетал тихо и бессвязно: «Убил… отца убил… чего кричишь, дура… беги, зови…» Но Марфа Игнатьевна не унималась и все кричала и вдруг, завидев, что у барина отворено окно и в окне свет, побежала к нему и начала звать Федора Павловича. Но, заглянув в окно, увидала страшное зрелище: барин лежал навзничь на полу, без движения. Светлый халат и белая рубашка на груди были залиты кровью. Свечка на столе ярко освещала кровь и неподвижное мертвое лицо Федора Павловича. Тут уж в последней степени ужаса Марфа Игнатьевна бросилась от окна, выбежала из сада и ринулась сломя голову на зады к соседке Марье Кондратьевне. Обе соседки, мать и дочь, тогда уже започивали, но на неистовый стук в ставни и крики Марфы Игнатьевны проснулись и подскочили к окну. Марфа Игнатьевна бессвязно, визжа и крича, звала на помощь. Как раз в эту ночь заночевал у них скитающийся Фома. Мигом подняли его, и все трое побежали на место преступления. Дорогою Марья Кондратьевна припомнила, что давеча, в девятом часу, слышала страшный и пронзительный вопль на всю окрестность из их сада – и это именно был, конечно, тот самый крик Григория, когда он, вцепившись руками в ногу сидевшего уже на заборе Дмитрия Федоровича, прокричал: «Отцеубивец!» «Завопил кто-то один и вдруг перестал», – показывала, бежа, Марья Кондратьевна. Прибежав на место, где лежал Григорий, обе женщины с помощью Фомы перенесли его во флигель. Зажгли огонь и увидали, что Смердяков все еще не унимается и бьется в своей каморке, скосил глаза, а с губ его текла пена. Голову Григория обмыли водой с уксусом, и от воды он совсем уже опамятовался и тотчас спросил: «Убит аль нет барин?» Обе женщины и Фома пошли тогда к барину и, войдя в сад, увидали на этот раз, что не только окно, но и дверь из дома в сад стояла настежь отпертою, тогда как барин накрепко запирался сам с вечера каждую ночь вот уже всю неделю и даже Григорию ни под каким видом не позволял стучать к себе. Увидав отворенную эту дверь, все они тотчас же, обе женщины и Фома, забоялись идти к барину, «чтобы не вышло чего потом». А Григорий, когда воротились они, велел тотчас же бежать к самому исправнику. Тут-то вот Марья Кондратьевна и побежала и всполошила всех у исправника. Прибытие же Петра Ильича упредила всего только пятью минутами, так что тот явился уже не с одними своими догадками и заключениями, а как очевидный свидетель, еще более рассказом своим подтвердивший общую догадку о том, кто преступник (чему, впрочем, он, в глубине души, до самой этой последней минуты, все еще отказывался верить).
Решили действовать энергически. Помощнику городового пристава тотчас же поручили набрать штук до четырех понятых, проникли в дом Федора Павловича и следствие произвели на месте. Земский врач, человек горячий и новый, сам почти напросился сопровождать исправника, прокурора и следователя. Намечу лишь вкратце: Федор Павлович оказался убитым вполне, с проломленною головой. Как раз отыскали и пестик, выслушав от Григория, которому подана была возможная медицинская помощь, довольно связный, хотя и прерывавшимся голосом переданный рассказ о том, как он был повержен. Стали искать с фонарем у забора и нашли брошенный прямо на садовую дорожку, на самом виду, медный пестик. В комнате, в которой лежал Федор Павлович, никакого особенного беспорядка не заметили, но за ширмами, у кровати его, подняли с полу большой, из толстой бумаги конверт с надписью: «Гостинчик в три тысячи рублей ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти», а внизу было приписано: «и цыпленочку». На конверте были три большие печати красного сургуча, но конверт был уже разорван и пуст. Надо было спешить в Мокрое. Задерживало, однако, всех следствие, обыск в доме Федора Павловича, формы и проч. Все это требовало времени, а потому и отправили часа за два прежде себя в Мокрое станового Маврикия Маврикиевича Шмерцова, как раз накануне поутру прибывшего в город за жалованьем. Маврикию Маврикиевичу дали инструкцию: прибыв в Мокрое и не поднимая никакой тревоги, следить за «преступником» неустанно до прибытия надлежащих властей. И только уже в пятом часу утра, почти на рассвете, прибыло все начальство: исправник, прокурор и следователь в двух экипажах и на двух тройках. Доктор же остался в доме Федора Павловича, имея в предмете сделать наутро вскрытие трупа убитого, но, главное, заинтересовался именно состоянием больного слуги Смердякова: «Такие ожесточенные и такие длинные припадки падучей, повторяющиеся беспрерывно в течение двух суток, редко встретишь, и это принадлежит науке», – проговорил он в возбуждении отъезжавшим своим партнерам, и те его поздравили, смеясь, с находкой.
Хождение души по мытарствам мытарство первое
Итак, Митя сидел и диким взглядом озирал присутствующих, не понимая, что ему говорят. Вдруг он поднялся, вскинул вверх руки и громко прокричал:
– Неповинен! В этой крови неповинен! В крови отца моего неповинен… Хотел убить, но неповинен! Не я!
Но только что он успел прокричать это, как из-за занавесок выскочила Грушенька и так и рухнулась исправнику прямо в ноги.
– Это я, я, окаянная, я виновата! – прокричала она раздирающим душу воплем, вся в слезах, простирая ко всем руки. – Это из-за меня он убил!.. Это я его измучила и до того довела! Я и того старичка покойничка бедного измучила, со злобы моей! Я виноватая, я первая, я главная, я виноватая!
– Да, ты виноватая! Ты главная преступница! Ты неистовая, ты развратная, ты главная виноватая, – завопил, грозя ей рукой, исправник, но тут уж его быстро и решительно уняли. Прокурор даже обхватил его руками.
– Это уж совсем беспорядок будет, Михаил Макарович, – вскричал он, – вы положительно мешаете следствию… дело портите… – почти задыхался он.
– Меры принять, меры принять, меры принять! – страшно закипятился и Николай Парфенович. – Иначе положительно невозможно!..
– Вместе судите нас! – продолжала исступленно восклицать Грушенька, все еще на коленях. – Вместе казните нас, пойду с ним теперь хоть на смертную казнь!
– Груша, жизнь моя, кровь моя, святыня моя! – бросился подле нее на колени и Митя и крепко сжал ее в объятиях. – Не верьте ей, – кричал он, – не виновата она ни в чем, ни в какой крови и ни в чем!
Он помнил потом, что его оттащили от нее силой несколько человек, а что ее вдруг увели и что опамятовался он, уже сидя за столом.
– Выпейте воды! – мягко сказал следователь.
– Выпил, господа, выпил… но… что ж, господа, давите, казните, решайте судьбу! – воскликнул Митя со страшно неподвижным выпучившимся взглядом на следователя.
– Итак, вы положительно утверждаете, что в смерти отца вашего, Федора Павловича, вы невиновны? – мягко, но настойчиво спросил следователь.
– Невиновен! Виновен в другой крови, в крови другого старика, но не отца моего. И оплакиваю! Убил, убил старика, убил и поверг… Но тяжело отвечать за эту кровь другою кровью, страшною кровью, в которой неповинен… Страшное обвинение, господа, точно по лбу огорошили! Но кто же убил отца, кто же убил? Кто же мог убить, если не я? Чудо, нелепость, невозможность!..
– Да, вот кто мог убить… – начал было следователь, но прокурор Ипполит Кириллович, переглянувшись со следователем, произнес, обращаясь к Мите:
– Вы напрасно беспокоитесь за старика слугу Григория. Он жив, очнулся и, несмотря на тяжкие побои, причиненные ему вами, кажется, останется жив несомненно, по крайней мере по отзыву доктора.
– Жив? Так он жив! – завопил вдруг Митя, всплеснув руками. Все лицо его просияло. – Господи, благодарю Тебя за величайшее чудо, содеянное Тобою мне, грешному и злодею, по молитве моей!.. Да, да, это по молитве моей, я молился всю ночь!.. – и он три раза перекрестился. Он почти задыхался.
– Так вот от этого-то самого Григория мы и получили столь значительные показания на ваш счет, что… – стал было продолжать прокурор, но Митя вдруг вскочил со стула.
– Одну минуту, господа, ради Бога одну лишь минутку; я сбегаю к ней…
– Позвольте! В эту минуту никак нельзя! – даже чуть не взвизгнул Николай Парфенович и тоже вскочил на ноги. Митю обхватили люди с бляхами на груди, впрочем, он и сам сел на стул…
– Господа, как жаль! Я хотел к ней на одно лишь мгновение… хотел возвестить ей, что смыта, исчезла эта кровь, которая всю ночь сосала мне сердце, и что я уже не убийца! Господа, ведь она невеста моя! – восторженно и благоговейно проговорил он вдруг, обводя всех глазами. – О, благодарю вас, господа! О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновение!.. Этот старик – ведь он носил меня на руках, господа, мыл меня в корыте, когда меня, трехлетнего ребенка, все покинули!
– Итак, вы… – начал было следователь.
– Позвольте, господа, позвольте еще одну минутку, – прервал Митя, поставив оба локтя на стол и закрыв лицо ладонями, – дайте же чуточку сообразиться, дайте вздохнуть, господа. Все это ужасно потрясает, ужасно, не барабанная же шкура человек, господа!
– Вы бы опять водицы… – пролепетал Николай Парфенович.
Митя отнял от лица руки и рассмеялся. Взгляд его был бодр, он весь как бы изменился в одно мгновение. Изменился и весь тон его: это сидел уже опять равный всем этим людям человек, всем этим прежним знакомым его, точно так, как если бы все они сошлись вчера, когда еще ничего не случилось, где-нибудь в светском обществе.
– Вы, Николай Парфеныч, искуснейший, как я вижу, следователь, – весело рассмеялся вдруг Митя, – но я вам теперь сам помогу. О, господа, я воскрешен… Господа, господа, я не претендую на равенство, я ведь понимаю же, кто я такой теперь пред вами сижу. На мне лежит… если только показания на меня дал Григорий… то лежит – о, конечно уж лежит – страшное подозрение! Ужас, ужас – я ведь понимаю же это! Но к делу, господа, я готов, и мы это в один миг теперь и покончим, потому что, послушайте, послушайте, господа. Ведь если я знаю, что я не виновен, то, уж конечно, в один миг покончим! Так ли? Так ли?
Митя говорил скоро и много, нервно и экспансивно и как бы решительно принимая своих слушателей за лучших друзей своих.
– Итак, мы пока запишем, что вы отвергаете взводимое на вас обвинение радикально, – внушительно проговорил Николай Парфенович и, повернувшись к писарю, вполголоса продиктовал ему, что надо записать.
– Записывать? Вы хотите это записывать? Что ж, записывайте, я согласен, даю полное мое согласие, господа… Стойте, стойте, запишите так: в буйстве виновен, в тяжких побоях, нанесенных бедному старику, виновен. Ну там еще про себя внутри, в глубине сердца своего, виновен – но это уже не надо писать, – повернулся он вдруг к писарю, – это уже моя частная жизнь, господа, эти глубины-то сердца то есть… Но в убийстве старика отца – невиновен! Это дикая мысль! Это совершенно дикая мысль!.. Я вам докажу, и вы убедитесь мгновенно. Вы будете смеяться, господа, сами будете хохотать над вашим подозрением!
– Успокойтесь, Дмитрий Федорович, – напомнил следователь, как бы, видимо, желая победить исступленного своим спокойствием. – Прежде чем будем продолжать допрос, я бы желал слышать от вас подтверждение того факта, что, кажется, вы не любили покойного Федора Павловича, были с ним в какой-то постоянной ссоре… Здесь по крайней мере, четверть часа назад, вы, кажется, изволили произнести, что даже хотели убить его: «Не убил, – воскликнули вы, – но хотел убить!»
– Я это воскликнул? Ох, это может быть, господа! Да, к несчастию, я хотел убить его, много раз хотел… к несчастию, к несчастию! Господа, – вдруг воскликнул он, – я хочу знать, я даже требую от вас, господа: где он убит? Как он убит, чем и как? Скажите мне, – быстро спросил он, обводя прокурора и следователя глазами.
– Мы нашли его лежащим на полу, навзничь, в своем кабинете, с проломленною головой, – проговорил прокурор.
– Страшно это, господа! – вздрогнул вдруг Митя и, облокотившись на стол, закрыл лицо правою рукой.
– Мы будем продолжать, – прервал Николай Парфенович. – Итак, что же тогда руководило вас в ваших чувствах ненависти? Вы, кажется, заявляли публично, что чувство ревности?
– Ну да, ревность, и не одна только ревность.
– Споры из-за денег?
– Ну да, и из-за денег.
– Кажется, спор был в трех тысячах, будто бы недоданных вам по наследству.
– Какое трех! Больше, больше, – вскинулся Митя, – больше шести, больше десяти, может быть. Я всем говорил, всем кричал! Но я решился, уж так и быть, помириться на трех тысячах. Мне до зарезу нужны были эти три тысячи… так что тот пакет с тремя тысячами, который, я знал, у него под подушкой, приготовленный для Грушеньки, я считал решительно как бы у меня украденным, вот что, господа, считал своим, все равно как моею собственностью…
Прокурор значительно переглянулся со следователем и успел незаметно мигнуть ему.
– Мы к этому предмету еще возвратимся, – проговорил тотчас следователь, – вы же позволите нам теперь отметить и записать именно этот пунктик: что вы считали эти деньги, в том конверте, как бы за свою собственность.
– Пишите, господа, я ведь понимаю же, что это опять-таки на меня улика, но я не боюсь улик! Господа, у меня голова болит, – страдальчески поморщился он, – видите, господа, мне не нравилась его наружность, что-то бесчестное, похвальба и попирание всякой святыни, насмешка и безверие, гадко, гадко! Но теперь, когда уж он умер, я думаю иначе.
– Как это иначе?
– Не иначе, но я жалею, что так его ненавидел.
– Чувствуете раскаяние?
– Нет, не то чтобы раскаяние, этого не записывайте. Сам-то я нехорош, господа, вот что, сам-то я не очень красив, а потому права не имел и его считать отвратительным, вот что! Это, пожалуй, запишите.
Проговорив это, Митя стал вдруг чрезвычайно грустен. Уже давно постепенно с ответами на вопросы следователя он становился все мрачнее и мрачнее. И вдруг как раз в это мгновение разразилась опять неожиданная сцена. Дело в том, что Грушеньку хоть давеча и удалили, но увели не очень далеко, всего только в третью комнату от той голубой комнаты, в которой происходил теперь допрос. Это была маленькая комнатка в одно окно, сейчас за тою большою комнатой, в которой ночью танцевали и шел пир горой. Там сидела она, а с ней пока один только Максимов, ужасно пораженный, ужасно струсивший и к ней прилепившийся, как бы ища около нее спасения. У ихней двери стоял какой-то мужик с бляхой на груди. Грушенька плакала, и вот вдруг, когда горе уж слишком подступило к душе ее, она вскочила, всплеснула руками и, прокричав громким воплем: «Горе мое, горе!» – бросилась вон из комнаты к нему, к своему Мите, и так неожиданно, что ее никто не успел остановить. Митя же, заслышав вопль ее, так и задрожал, вскочил, завопил и стремглав бросился к ней навстречу, как бы не помня себя. Но им опять сойтись не дали, хотя они уже увидели друг друга. Его крепко схватили за руки: он бился, рвался, понадобилось троих или четверых, чтоб удержать его. Схватили и ее, и он видел, как она с криком простирала к нему руки, когда ее увлекали. Когда кончилась сцена, он опомнился опять на прежнем месте, за столом, против следователя, и выкрикивал, обращаясь к ним:
– Что вам в ней? Зачем вы ее мучаете? Она невинна, невинна!..
Его уговаривали прокурор и следователь. Так прошло некоторое время, минут десять; наконец в комнату поспешно вошел отлучившийся было Михаил Макарович и громко, в возбуждении, проговорил прокурору:
– Она удалена, она внизу, не позволите ли мне сказать, господа, всего одно слово этому несчастному человеку? При вас, господа, при вас!
– Сделайте милость, Михаил Макарович, – ответил следователь, – в настоящем случае мы не имеем ничего сказать против.
– Дмитрий Федорович, слушай, батюшка, – начал, обращаясь к Мите, Михаил Макарович, и все взволнованное лицо его выражало горячее, отеческое почти сострадание к несчастному, – я твою Аграфену Александровну отвел вниз сам и передал хозяйским дочерям, и с ней там теперь безотлучно этот старичок Максимов, и я ее уговорил, слышь ты? – уговорил и успокоил, внушил, что тебе надо же оправдаться, так чтоб она не мешала, чтоб не нагоняла на тебя тоски, не то ты можешь смутиться и на себя неправильно показать, понимаешь? Ну, одним словом, говорил, и она поняла. Она, брат, умница, она добрая, она руки у меня, старого, полезла было целовать, за тебя просила. Сама послала меня сюда сказать тебе, чтоб ты за нее был спокоен, да и надо, голубчик, надо, чтоб я пошел и сказал ей, что ты спокоен и за нее утешен. Так как же ей сказать, Дмитрий Федорович, будешь сидеть спокоен аль нет?
Добряк наговорил много лишнего, но горе Грушеньки, горе человеческое, проникло в его добрую душу, и даже слезы стояли в глазах его. Митя вскочил и бросился к нему.
– Простите, господа, позвольте, о, позвольте! – вскричал он. – Ангельская, ангельская вы душа, Михаил Макарович, благодарю за нее! Буду, буду спокоен, весел буду, передайте ей по безмерной доброте души вашей, что я весел, смеяться даже начну сейчас, зная, что с ней такой ангел-хранитель, как вы. Слышали ее крики: «С тобой хоть на казнь!» А что я ей дал, я, нищий, голяк, за что такая любовь ко мне, стою ли я, неуклюжая, позорная тварь и с позорным лицом, такой любви, чтоб со мной ей в каторгу идти? За меня в ногах у вас давеча валялась, она, гордая и ни в чем неповинная! Как же мне не обожать ее, не вопить, не стремиться к ней, как сейчас? О, господа, простите! Но теперь, теперь я утешен!
И он упал на стул и, закрыв обеими ладонями лицо, навзрыд заплакал. Но это были уже счастливые слезы. Он мигом опомнился. Старик исправник был очень доволен, да, кажется, и юристы тоже: они почувствовали, что допрос вступит сейчас в новый фазис. Проводив исправника, Митя просто повеселел.
– Ну, господа, теперь ваш, ваш вполне.
Допрос начался вновь.









































