Текст книги "Карамазовы"
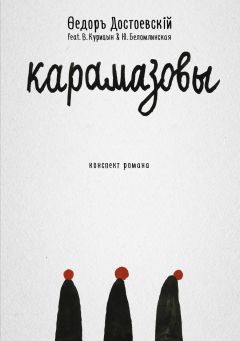
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
Рассказчик остановился. Иван все время слушал его в мертвенном молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смердяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но больше косился в сторону. Кончив рассказ, он, видимо, сам взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался пот. Нельзя было угадать, чувствует ли он раскаяние или что.
– Стой, – подхватил, соображая, Иван. – А дверь-то? Если отворил он дверь только тебе, то как же мог видеть ее прежде тебя Григорий отворенною?
Замечательно, что Иван спрашивал самым мирным голосом, даже совсем как будто другим тоном, совсем не злобным, так что если бы кто-нибудь отворил к ним теперь дверь и с порога взглянул на них, то непременно заключил бы, что они сидят и миролюбиво разговаривают о каком-нибудь обыкновенном, хотя и интересном предмете.
– Что Григорий Васильевич будто бы видел, что дверь отперта, то это ему только так почудилось, – искривленно усмехнулся Смердяков. – Ведь это, я вам скажу, не человек-с, а все равно что упрямый мерин: и не видал, а почудилось ему, что видел, – вот его уж и не собьете-с. Это уж нам с вами счастье такое выпало, что он это придумал, потому что Дмитрия Федоровича несомненно после того вконец уличат.
– Ну… ну, тебе, значит, сам чорт помогал! – воскликнул опять Иван Федорович. – Нет, ты не глуп, ты гораздо умней, чем я думал…
Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. Но так как стол загораживал дорогу и мимо стола и стены почти приходилось пролезать, то он только повернулся на месте, что твой балерун, и сел опять. То, что он не успел пройтись, может быть, вдруг и раздражило его, так что он почти в прежнем исступлении вдруг завопил:
– Слушай, несчастный, презренный ты человек! Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то потому только, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде. Бог видит, – поднял Иван руку кверху, – может, и я был виновен, может, действительно я имел тайное желание, чтоб… умер отец, но я не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал! Я все скажу на суде, все. Но мы явимся вместе с тобою! И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свидетельствовал – принимаю и не боюсь тебя; сам все подтвержу! Но и ты должен пред судом сознаться! Должен, должен, вместе пойдем!
Иван проговорил это торжественно и энергично, и видно было уже по одному сверкающему взгляду его, что так и будет.
– Больны вы, я вижу-с, совсем больны-с. Желтые у вас совсем глаза-с, – произнес Смердяков, но совсем без насмешки, даже как будто соболезнуя.
– Вместе пойдем! – повторил Иван. – А не пойдешь – все равно я один сознаюсь.
Смердяков помолчал, как бы вдумываясь.
– Ничего этого не будет-с, и вы не пойдете-с, – решил он наконец безапелляционно. – Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем признаетесь. А пуще того бесполезно будет, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил-с никогда, а что вы или в болезни какой (а на то и похоже-с), али уж братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все равно меня как за мошку насекомую считали всю вашу жизнь. Ну и кто ж вам поверит, ну и какое у вас есть хоть одно доказательство?
– Слушай, эти деньги ты показал мне теперь, конечно, чтобы меня убедить…
– Эти деньги с собою возьмите-с и унесите, – вздохнул Смердяков.
– Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил? – с большим удивлением посмотрел на него Иван.
– Не надо мне их вовсе-с, – дрожащим голосом проговорил Смердяков, махнув рукой. – Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве, али пуще того за границей, такая мечта была-с, а пуще все потому, что «все позволено». Это вы вправду меня учили-с, ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе.
– Своим умом дошел? – криво усмехнулся Иван.
– Вашим руководством-с.
– А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?
– Нет-с, не уверовал-с, – прошептал Смердяков.
– Так зачем отдаешь?
– Полноте… нечего-с! – махнул опять Смердяков рукой. – Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожены, сами-то-с? Показывать на себя даже хотите идти… Только ничего того не будет! Не пойдете показывать! – твердо и убежденно решил опять Смердяков.
– Увидишь! – проговорил Иван.
– Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться – это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить. Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с.
– Я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен! – проговорил пораженный Иван, как-то вдруг по-новому глядя на Смердякова.
– От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги-то-с.
Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обертывая их ничем.
– Завтра их на суде покажу, – сказал он.
– Никто вам там не поверит-с, благо денег-то у вас и своих теперь довольно, взяли из шкатунки да и принесли-с.
Иван встал с места.
– Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне на завтра нужен!
– А что ж, убейте-с. Убейте теперь, – вдруг проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. – Не посмеете и этого-с, – прибавил он, горько усмехнувшись, – ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!
Последний раз глянуть
– До завтра! – крикнул Иван и двинулся идти.
– Постойте… покажите мне их еще раз.
Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них секунд десять.
– Ну, ступайте, – проговорил он, махнув рукой. – Иван Федорович! – крикнул он вдруг ему вслед опять.
– Чего тебе? – обернулся Иван уже на ходу.
– Прощайте-с!
– До завтра! – крикнул опять Иван и вышел из избы.
Метель все еще продолжалась. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. «Это что-то физическое», – подумал он, усмехнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим все последнее время! Решение было взято «и уже не изменится», со счастьем подумал он. Дойдя до своего дома, он вдруг остановился под внезапным вопросом: «А не надо ль сейчас, теперь же пойти к прокурору и все объявить?» Вопрос он решил, поворотив опять к дому: «Завтра всё вместе!» – прошептал он про себя, и, странно, почти вся радость, все довольство его собою прошли в один миг. Старуха хозяйка принесла ему самовар, он заварил чай, но не прикоснулся к нему. Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилен. Стал было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его всего более; усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Наконец взгляд его пристально направился в одну точку.
Чорт. Кошмар Ивана Федоровича
Там вдруг оказался сидящим некто, Бог знает как вошедший. Это был известного сорта русский джентльмен, лет уже немолодых, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженой бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил. Белье, длинный галстух в виде шарфа – все было так, как и у всех шиковатых джентльменов, но белье, если вглядеться ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт. Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить, равно как и мягкая белая пуховая шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил с собою гость. Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек-помещиков, процветавших при крепостном праве, очевидно видавший свет и порядочное общество, но мало-помалу с обеднением после веселой жизни в молодости и недавней отмены крепостного права, обратившийся вроде как бы в приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый складный характер, да еще и ввиду того, что все же порядочный человек, которого при ком угодно можно посадить у себя за стол, хотя, конечно, на скромное место. Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Часов на нем не было, но был черепаховый лорнет на черной ленте. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Федорович злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и именно сидел как приживальщик, только что сошедший сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину компанию, но смирно молчавший ввиду того, что хозяин занят и об чем-то нахмуренно думает. Вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность.
– Послушай, – начал он Ивану Федоровичу, – ты извини, я только чтобы напомнить: ты ведь к Смердякову пошел с тем, чтоб узнать про Катерину Ивановну, а ушел, ничего об ней не узнав, верно, забыл…
– Ах да! – вырвалось вдруг у Ивана, и лицо его омрачилось заботой. – Да, я забыл… Впрочем, теперь все равно, все до завтра, – пробормотал он про себя. – Я теперь точно в бреду… ври что хочешь, мне все равно! Ты меня не приведешь в исступление, как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно… Я хочу ходить по комнате… Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что это я, я сам говорю, а не ты! Не знаю только, спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву? Вот я обмочу полотенце холодною водой и приложу к голове, и авось ты испаришься.
Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате.
– Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на «ты», – начал было гость.
– Дурак, – засмеялся Иван, – что ж я, «вы», что ли, стану тебе говорить. Я теперь весел, только в виске болит… и темя… только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом!
– Приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ей-Богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз…
– Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, – как-то яростно даже вскричал Иван. – Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно прострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых…
Тут надо пояснить. «Приживальщик», явившийся к Ивану, был не кто иной, как чорт собственной персоной. Отчего он избрал именно такой вид для своих явлений – ведомо ему одному. Так или иначе, он являлся Ивану уже дважды или трижды и все норовил говорить по душам, но Иван чорта всерьез принимать не хотел. Тот, однако же, лез и без мыла:
– Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у фонаря, когда ты вскинулся на Алешу и закричал ему: «Ты от него узнал! Почему ты узнал, что он ко мне ходит?» Это ведь ты про меня вспоминал. Стало быть, одно маленькое мгновеньице ведь верил же, верил, что я действительно есмь, – мягко засмеялся джентльмен.
– Да, это была слабость природы… но я не мог тебе верить. Я не знаю, спал ли я или ходил прошлый раз. Я, может быть, тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву…
– А зачем ты давеча с ним так сурово, с Алешей-то? Он милый; я пред ним за старца Зосиму виноват.
– Молчи про Алешу! Как ты смеешь, лакей! – опять засмеялся Иван.
– Бранишься, а сам смеешься – хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз, и я понимаю отчего: это великое решение…
– Молчи про решение! – свирепо вскричал Иван.
– Понимаю, понимаю, ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя в жертву…
– Молчи, я тебе пинков надаю!
– Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков. Шутки в сторону: мне ведь все равно, бранись, коли хочешь, но все же лучше быть хоть каплю повежливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей, ну что за слова!
– Браня тебя, себя браню! – опять засмеялся Иван. – Ты – я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю… и ничего не в силах сказать мне нового!
– Если я схожусь с тобою в мыслях, то это делает мне только честь, – с деликатностью и достоинством проговорил джентльмен.
– Только всё скверные мои мысли берешь, а главное – глупые. Ты глуп и пошл. Нет, я тебя не вынесу! Что мне делать, что мне делать! – проскрежетал Иван.
– Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом и чтобы меня так и принимали, – в припадке некоторой чисто приживальщицкой и уже вперед уступчивой и добродушной амбиции начал гость. – Я беден, но… не скажу, что очень честен, но… обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Ей-Богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу как придется, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренно – о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и попами париться. Моя мечта – это воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал – войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-Богу так. Тогда предел моим страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил: весной оспа пошла, я пошел и в воспитательном доме себе оспу привил, – если б ты знал, как я был в тот день доволен: на братьев славян десять рублей пожертвовал!.. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не по себе, – помолчал немного джентльмен. – Я знаю, ты ходил вчера к тому доктору… Что тебе доктор сказал?
– Дурак! – отрезал Иван.
– Зато ты-то как умен. Ты опять бранишься? Я ведь не то чтоб из участия, а так. Пожалуй, не отвечай. Теперь вот ревматизмы опять пошли…
– Дурак, – повторил опять Иван.
– Ты все свое, а я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю.
– У чорта ревматизм?
– Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь… из галлюцинации твоей. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Ну вот так и теперь.
– Лжешь! Твоя цель именно уверить, что ты сам по себе, а не моя галлюцинация! И вот ты теперь подтверждаешь сам, что ты сон!
– По азарту, с каким ты отвергаешь меня, – засмеялся джентльмен, – я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь.
– Дурак! На сотую долю не верю!
– Но на тысячную веришь. Гомеопатические-то доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь, ну на десятитысячную…
– Ни одной минуты! – яростно вскричал Иван. – Я, впрочем, желал бы в тебя поверить! – странно вдруг прибавил он.
– Эге! Вот, однако, признание!
– Оставь меня, ты стучишь в моем мозгу как неотвязный кошмар, – болезненно простонал Иван, в бессилии пред своим видением, – мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно! Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!
– Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, «гремя и блистая», с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости: как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый чорт? Я вот думал давеча, собираясь к тебе, для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке, но побоялся. Ты избил бы меня только за то, как я смел прицепить на фрак Льва и Солнце, а не прицепил по крайней мере Полярную звезду али Сириуса. И все ты о том, что я дурак. Но Бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра. И вот по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, рявкну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему… По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге. Раз человечество отречется поголовно от Бога, то само собою падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом Божеской, титанической гордости и явится человеко-Бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную…
Иван сидел, зажав себе уши руками и смотря в землю, но начал дрожать всем телом. Голос продолжал:
– Где стану я, там сейчас же будет первое место… «все дозволено», и шабаш! Санкцию дам. А то таков наш русский современный человечек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил… А мы им мюмзиков, мюмзиков пошибче… Гость говорил, очевидно увлекаясь своим красноречием, все более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина. Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора.
– Ах, но это же глупо, наконец! – воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю. – Сам же меня считает за сон и кидается стаканами в сон! Это по-женски! А ведь я так и подозревал, что ты делал только вид, что заткнул свои уши, а ты слушал… Что же до мюмзиков, хочешь подробнее…
В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Иван Федорович вскочил с дивана.
– Слышишь, лучше отвори, – вскричал гость, – это брат твой Алеша с самым неожиданным и любопытным известием, уж я тебе отвечаю!
– Молчи, обманщик, я прежде тебя знал, что это Алеша, я его предчувствовал, и уж конечно он не даром, конечно с «известием»!.. – воскликнул исступленно Иван.
– Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой…
Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну, но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался, как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался все больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Обе свечки почти догорели, стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял пред ним на столе, а на противоположном диване никого не было. Стук в оконную раму хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас только мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно. Иван Федорович бросился к окну и отворил форточку.
– Алеша, я ведь не велел приходить! – свирепо крикнул он брату. – В двух словах: чего тебе надо? В двух словах, слышишь?
– Смердяков повесился, – ответил со двора Алеша именно что в двух словах.









































