Читать книгу "Кто есть кто"
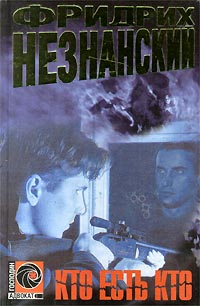
Автор книги: Фридрих Незнанский
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
7
Она просидела в одиночке двое суток. Затем ее снова перевели в шестнадцатую камеру.
Вера потеряла в темноте счет времени. Ей все время было холодно, бил озноб, раскалывалась голова, саднило в горле. Попав в нагретый, влажный воздух общей камеры, в первую минуту она почувствовала себя счастливой.
Оглядевшись по сторонам, Вера выбрала из общей массы заключенных женщину лет сорока, с более-менее внушающим доверие лицом. Она сидела, по-турецки поджав под себя ноги, и с отрешенным видом вязала на спичках вместо спиц что-то из розовой шерсти. Шерстяной пуловер с одним распущенным рукавом, послуживший, видимо, источником нитей, валялся у нее в ногах.
Вера подошла поближе и спросила у нее:
– Простите, какое сегодня число?
Женщина подняла глаза и посмотрела на Веру.
– Двадцатое.
– Двадцатое марта?
Она кивнула. Вера вспомнила про свое лицо и спросила, не найдется ли у нее зеркальце? Но женщина отрицательно покачала головой:
– Зеркало не разрешается иметь. Отбирают.
У Веры хватило сил удивиться: почему?
– Не знаю. Может, боятся, что с его помощью просигналить можно морзянкой на улицу или кому горло перережут. Или себе вены, – пожала плечами собеседница, настороженно глядя на Веру.
Другие женщины, слышавшие их разговор, с любопытством поглядывали в их сторону. Они еще помнили, как нелюдимо повела себя Вера, сразу появившись в шестнадцатой камере, и ее сегодняшнюю разговорчивость воспринимали с ехидной усмешечкой: что, мать, все-таки поучили тебя уму-разуму? пришлось свою фанаберию отбросить да заговорить с людьми?
– Здесь ведь свободных мест нет, а как же все спят? – спросила Вера, растерянно озираясь.
Женщина опять оторвалась от вязания и посмотрела на нее.
– А ты откуда взялась? – вопросом на вопрос ответила она. – Почему без вещей?
– У меня ничего нет. Меня прямо так привезли. Мне нужно найти место, где бы прилечь. Я плохо себя чувствую.
– А почему тебе ничего не передали? Тут все в своем, казенного не выдают. Одеяла, подушки тоже нужны свои.
Только сейчас, когда женщина разговорилась, Вера заметила у нее легкий акцент, похожий на прибалтийский, литовский или латышский. Она даже вспомнила, как во время переклички охранник называл одну прибалтийскую фамилию.
– Никто не знает, что я здесь, – объяснила Вера, думая только об одном: как бы не упасть здесь без сознания и не грохнуться головой об угол нар.
В ушах шумело, перед глазами плыли черные круги. Она даже плохо понимала, что говорит.
– Можно присесть рядом с вами? Только подремать...
Женщина убрала розовый джемпер.
– Ложись пока. Как тебя зовут?
– Вера. Кисина Вера, – опускаясь на нагретый тюфяк, покрытый клетчатым байковым одеялом, пробормотала она.
Голова, как налитая чугуном, сама валилась на кучу тряпья, вместо подушки сваленного в изголовье. Она даже не спросила, как зовут ее собеседницу. Подтянув колени к подбородку, Вера не уснула – провалилась в пустоту...
...Только неугомонная активность Ленки, которая готова была разрываться напополам ради себя и подруги, помогла Вере более-менее благополучно закончить восемь классов. Сразу же после выпускных экзаменов Ленка уехала в Москву поступать в Суриковский художественный институт. Вера отправилась вместе с ней. О том, чтобы самой поступать куда-нибудь в тот год, и речи быть не могло. Сначала нужно было присмотреться, подготовиться... Да Вера и не знала толком, куда ей приткнуться с незаконченным средним образованием?
Вере достаточно было уже того, что поступила Ленка.
– Мы добились, мать! Ты представляешь, мы добились! – орала счастливая Ленка в день после зачисления. – Одно место в общаге у нас уже есть. Где проживу я, там проживешь и ты. Что-нибудь придумаем. Домой к бабке-яге я тебя не отпущу!
Так началась безумная жизнь втроем: Вера, Ленка и соседка-вьетнамка Тху – в крохотной комнатке суриковской общаги на Таганке. На шести квадратных метрах жилой площади умещалась доставшаяся по наследству от гречанок-старшекурсниц двухъярусная детская кровать, на которой спали миниатюрная вьетнамка и невысокая толстая Ленка, далее следовал встроенный стенной шкафчик, где хранилась их одежда, чемоданы, обувь, этюдники, подрамники с холстами, краски и еще куча всякой всячины, одну стену занимал стеллаж, где стояло и лежало все остальное, а также в комнате еще имелись тумбочка и один стул. На оставшемся клочке не занятого мебелью пола днем ходили, стояли, работали, плясали, а ночью расстилали тюфяк, на котором спала Вера. Вьетнамка почти не говорила по-русски, поэтому лишних вопросов: а кто такая Вера? а почему она здесь живет? – не задавала. С соседками по блоку, жившими в смежной комнатке, проблем тоже не возникало, это были две веселые кубинки, любившие поплясать и потусоваться, их девизом было «чем больше народа, тем веселее». Остальным Ленка представляла Веру как свою младшую сестру. Старушки на вахте общежития на приходящих смотрели сквозь пальцы – все-таки творческий вуз, это вам не МИФИ какой-нибудь. Постепенно все вахтерши привыкли видеть Веру, принимали ее за первокурсницу и студенческий билет или пропуск не спрашивали. В общем, жилось им с Ленкой в тот год замечательно. Вера и теперь с ностальгией вспоминала те времена как самые лучшие в жизни. Она впервые попала в окружение людей образованных, развитых. Как говаривала Ленка: «Тут самый последний бухарь и тусовщик может в будущем оказаться Ван Гогом».
Времена были еще дешевые, пропитаться на Ленкину стипендию вдвоем они могли, да еще талантливая умнющая Ленка приноровилась расписывать для иностранцев пасхальные деревянные яйца «под Палех». Знакомый колумбиец Луис, учившийся в Суриковском на третьем курсе, предложил ей как-то нарисовать пару яиц со Спасом, Георгием-Победоносцем или с Владимирской Божьей Матерью. Он собирал такие яйца по всем своим знакомым халтурщикам и, выезжая приблизительно раз в два месяца куда-нибудь в Швецию, Германию или Испанию, продавал их там за большие деньги (конечно, для тех времен), потому что, возвращаясь, щедро расплачивался со своими «поставщиками». За одно такое яйцо с известной русской иконой «на фасаде» Ленка выручала до пяти долларов.
Вера приноровилась ей помогать. Выточенные из дерева болванки яиц они покупали на Измайловском вернисаже и вскоре смогли раскрутить дело на полную катушку, отдавая Луису зараз по пять – восемь яиц. Сдавая потом вырученную валюту по черному курсу тому же Луису или еще кому-нибудь из знакомых иностранцев, они могли на эти деньги и в ресторане иногда пообедать и купить что-нибудь красивое и давно желанное: кожаные туфли, шелковую косынку, французскую пудру и духи...
Вера чувствовала себя птичкой, попавшей из клетки в райский сад, где на свободе летают и поют ее сородичи. Ей было за кем тянуться, с кем соревноваться в начитанности, элегантности, остроумии... И, отряхнувшись и почистив перышки, она принялась во всем подражать окружающим, чтобы никому и в голову не пришло, что на самом деле она всего лишь маленький воробышек, вырвавшийся из клетки...
...Она проспала раздачу обеда, но перед ужином литовка ее растолкала:
– Эй, ты! Проснись, иди поешь.
Чувствуя страшную ломоту во всех костях, Вера едва смогла повернуться на бок. Голова не отрывалась от подушки.
– Что такое?
– Ужин раздают. Тебе надо поесть. Подымайся, пока они не ушли, иди получи свою порцию.
Вера села. Опустив голову, тупо смотрела в пол, ожидая, пока туман перед глазами немного рассеется. За дверью гремели ведра и бидоны, в камере кисло запахло разваренной квашеной капустой. С трудом поднявшись, она поплелась к двери занимать очередь у раздаточного окошка. Получив в руки жирную алюминиевую миску с ложкой, воткнутой в непонятную желтую массу, и кружку с едва теплой жидкостью, Вера вернулась на нары к своей единственной знакомой. Та уже съела свою порцию и теперь заваривала в кружке настоящую крупнолистовую заварку, аккуратно высыпая ее из бумажного пакетика. Вера некоторое время апатично наблюдала за ее движениями, не притрагиваясь к еде, потом незаметно ложка за ложкой проглотила содержимое тарелки, не ощутив ни вкуса, ни запаха.
– Спасибо, что пустила меня поспать, – сказала она.
Женщина молча кивнула – ладно, мол.
– Мне совсем плохо было. Кажется, умерла бы, если бы не полежала хоть час. Меня Верой зовут, – представилась она, забыв, что уже говорила собеседнице свое имя. – А тебя как?
– Рита.
– А где ты взяла кипяток? – спросила она наконец.
– Там.
Женщина кивнула в сторону. Там, на единственном свободном пятачке пространства между нарами, сгрудились женщины. На полу стояли мутные от накипи банки, кружки с водой. У кого-то был самодельный кипятильник: два лезвия, перекрученные проволочкой, и провод. Его по очереди опускали в банку и кипятили воду. Кто-то уже мыл голову, наклонившись над грязной раковиной в углу и пользуясь вместо шампуня маленьким кусочком темного хозяйственного мыла. Другие, собравшись в кружок, заваривали чифирь. Над верхними нарами были протянуты веревки, на них развешивали выстиранное нехитрое белье...
– За сигарету Алка тебе нагреет кружку, за две – литровую банку.
Вера покачала головой:
– У меня ничего нет.
– Ну, если хочешь, попроси, может, она тебе в долг нагреет. Когда получишь передачу – отдашь. Ты сама куришь?
– Нет.
– Ну вот. Тебе лучше. Отдашь ей потом сразу пачку.
– Мне, наверное, никто ничего не передаст, – вдруг осознала Вера. – Никто не знает, что я тут. Нет, мне не на кого рассчитывать.
Новая знакомая посмотрела на нее со смешанным выражением удивления и недоверия.
– У тебя что, на свободе никого нет? Ни родственников, ни друзей? Ведь кто-то же должен быть? Друзья, мужик?..
Вера пожала плечами. Покачала головой:
– Родственников нет. Близких то есть. Я с ними уже лет пятнадцать не поддерживаю никаких отношений. Да и то, что за родственники: бабка, ей уже лет восемьдесят, да двоюродные... Нет, я всю жизнь сама по себе жила. Вот как из дому после восьмого класса уехала...
То ли после ужина она почувствовала себя лучше, то ли к ночи поднялась температура, только на Веру вдруг нашло лихорадочное возбуждение. Ей хотелось говорить, двигаться, делать что-нибудь...
– Что ты вяжешь?.. Можно посмотреть?.. Красиво получается. А джемпер ты тоже сама вязала?.. Это что за нитки, ангора? А я так и не научилась ни вязать, ни шить. Даже простую пеленку застрочить не могла. Все у меня вкривь и вкось, строчка кривая, нитка рвется, машинка забивается и встает. Свекровь, Юлия Моисеевна, конкретная такая путевая москвичка, смотрела-смотрела, стиснув зубы, как я ее «Зингер» доламываю, под конец не выдержала, сама села и застрочила единственному внуку пеленочки. Семь штук, по одной на каждый день, представляешь? По ее мнению, ребенок должен был по часам писаться и какаться, а я сразу же должна эту пеленку простирнуть, прокипятить, отутюжить и его перепеленать. – Вера истерично рассмеялась.
Слезы выступили у нее на глазах.
– У тебя дети есть? – кивнула сочувственно Рита.
– Сын один. Уже тринадцать лет скоро будет.
– Так что ж ты говоришь, что никого там нет? А что же муж?
– Да ну, ты что, разве в такой малахольной семейке можно было долго жить? Мы разошлись, сыну еще трех годиков не было, – махнула рукой Вера. – Черт знает, где он теперь, я его последний раз видела лет пять назад. Он за границу уезжать собирался. В приступе щедрости сломанный цветной телевизор предлагал забрать, чтобы малыш мог развиваться, мультики по цветному смотрел. Старый «Рубин» весом в полтонны, представляешь? Я бы только на такси из одного конца Москвы в другой потратила бы ровно половину того, сколько новый телевизор стоит, да на ремонт кинескопа еще столько же! Послала его на хер, так он еще обиделся – почему я отказываюсь от его помощи?
Литовка, оттаяв от ее рассказа, заулыбалась.
– Давай свою кружку, – предложила она Вере, наливая чай. – Все на наших плечах лежит, и мужика накормить, и детей на ноги поставить, одеть-обуть. Все мы должны жилы рвать, тянуть на себе мешки... Разве они могут так, как мы? Ох, Господи, сволочи неблагодарные все. Пока ты ездишь, не спишь, не ешь, каждую копейку сохраняешь, он там еще романы крутит, кобелина, цветочки своей суке покупает на детские деньги.
– А у тебя сколько детей? – спросила Вера.
– Трое! Младшей в июне три годика исполнится, а старший школу в этом году кончает, и черт знает, куда его потом приткнуть? Учиться не хочет, на работу у нас тоже не легко устроиться.
– А ты откуда? Из Литвы? По акценту чувствуется...
– Да, – с усмешкой отмахнулась Рита, – сама-то я из-под Брянска, там родилась, да вот тоже, дура, студенткой была, выскочила девчонкой замуж за своего Жильвинаса, осталась в Литве жить. Вот за двадцать-то лет уже и говорить стала, как они... Всю душу мне выел, сволочь! Было бы мне на кого младшую спихнуть, давно бы плюнула на него и ушла, так не с кем дите оставить, а я же каждый месяц в Россию ездила... А твой-то малой с кем, пока ты тут? – с сочувствием глядя на Веру, спросила она.
– Ей-богу, не знаю. Надеюсь, что догадался подруге моей позвонить, когда я пропала. Я ведь как ушла на работу, так больше домой и не вернулась. Неделя уже прошла.
– На фирме прямо арестовали? – понизив до шепота голос, понимающе закивала Рита. – Тут много женщин таких, как ты, которых прямо с работы и привезли. Я раньше в другой камере сидела с одной женщиной, бухгалтершей, тоже на фирме работала. Так она, бедная, первые дни просто аж на стенку кидалась, мы ее валерьянкой отпаивали... Их начальник, говорит, смылся со всеми деньгами, а к ним залетает инспекция, а они и сами ни о чем не знали, пришли, как обычно, на работу с утра...
– Нет, я не на фирме, – тоже шепотом заговорила Вера. – Я на телевидении работала, диктором.
Сказала и тут же пожалела, настолько ей самой показалось странным и неубедительным, чтобы «женщина из телевизора» – ухоженная, всегда причесанная и накрашенная, в костюме с иголочки, – вдруг оказалась на тюремных нарах. Но Рита отнеслась к этому с житейским пониманием:
– На телевидении? Ишь ты... Там у вас тоже черт-те что творится. Листьева вон убили. Хороший был мужик, видный. Все в подтяжках ходил. Правда, или нет, будто его жена в этом замешана была? Вроде бы в газетах писали... Там у вас небось про это все знают?
Некоторое время обе женщины были поглощены разговором о Листьеве, о телевидении вообще и в частности – какой бразильский сериал сейчас идет по первому каналу и чем кончился предыдущий?
– Все-таки узнал он или нет, что эта сучка, молодая жена, изменяла ему с приемным сыном той итальянской сестры? Так мне этот фильм нравился, но я уже сюда как попала, так и не знаю, как они все там развязались? Ты не знаешь?
По счастью, Вера смотрела отрывками тот фильм, о котором спрашивала Рита, и смогла пересказать, что случилось с героями в последних сериях.
– Это ты здесь уже полгода? – прикинув в уме, когда закончился этот сериал, спросила она. – И долго тебе еще?..
Она не договорила, как-то язык не поворачивался произнести: «Долго тебе еще здесь сидеть?» Но Риту вопрос не покоробил.
– Сидеть сколько еще? А Бог его знает. Следствие уже закончилось, вот все суда жду, а ваши-то суды переполнены, судья то в отпуске, то еще что... Некоторые по году ждут.
И, заметив, как вытянулось у Веры лицо, поспешила ее утешить:
– Ты не переживай. Вот как следователь разрешит тебе передачи приносить, пускай твоя подруга тебе все передаст, что нужно: свое одеяло, подушку, чай, сахар, сало. Я тебе все потом подробно назову, что нужно. Не стесняйся у нее просить. От тюрьмы и сумы, как говорится, не зарекайся. Потом ей все отдашь...
Рита говорила просто, убедительно, и успокоенная ее рассудительным тоном Вера стала понемногу приходить в себя, осмысливать создавшееся положение. Взглянув на вещи реально, она подумала, что не все – сплошной безвыходный кошмар, как показалось ей в первые минуты в тюрьме.
Она решила, что рано или поздно, но ее обязательно вызовут к следователю. Потому что как ни ужасна действительность, все-таки это не роман Дюма, и Бутырка не остров, а она не граф Монте-Кристо, который мог сидеть двадцать лет без суда, ни разу не повидавшись с прокурором... И хотя в жизни происходят вещи и пострашнее выдуманных трагедий, но все-таки они происходят по каким-то реальным законам. Значит, рано или поздно ее вызовут к следователю. Ей должны сказать, почему она здесь, в чем она обвиняется. Этой же процедуре подверглись все, с кем она находится в одной камере, так почему же она, Вера, должна стать исключением?
«Там все и выяснится, – твердила про себя Вера. – У следователя все и выяснится, кто я и почему я оказалась здесь?.. Сейчас не тридцать седьмой год. Меня не расстреляют и не сошлют на Колыму без суда. Надо терпеть и ждать. Даже в самом плохом случае, если дело дойдет до суда – это будет нормальный, открытый суд с прокурором, адвокатом, народными заседателями... Разве теперь можно по ошибке осудить одного человека вместо другого? Никогда! Я просто должна набраться терпения и твердить свое. Если расстраиваться и переживать, то можно сойти с ума. Тогда мне никто не поверит. Кто поверит полусумасшедшей истеричке? Нет, нужно быть спокойной, терпеливой и ждать. Все прояснится рано или поздно. Скорее поздно – надо ведь смотреть на вещи реально. У нас все делается медленно. Но все кончается, все имеет свой конец. Я отсюда выйду. Обязательно. И этот кошмар останется позади.
Сколько всего уже было в моей жизни? – думала она ночью, сидя на нарах рядом со спящей Ритой и стараясь сдерживать душивший кашель, чтобы не мешать спать новой подруге. – И голод был, и холод, и побои... Столько я всего пережила... И разве каждый раз мне не казалось, что это уже все, что хуже не может быть и после этого можно только взять и повеситься? Но в жизни все как в том старом анекдоте про оптимиста и пессимиста, которым Ленка в старые времена нередко меня утешала: идет пессимист и плачет, что все ужасно, ужасно, просто хуже не бывает, а оптимист бодро бежит рядом, хлопает его по плечу и орет: бывает! Бывает и хуже!»
И разве это не правда? Разве она не пережила все и не выкарабкалась, выбилась в люди, построила свою жизнь если и не совсем так, как мечталось, то и не так, как все могло бы быть, не убеги она вовремя из дома, не окажись в Москве, не встреться ей на пути Ленка и другие хорошие, полезные люди?.. И в новой жизни ей приходилось не сладко, разве не так? Тем не менее все кончилось, превратилось в воспоминания или забылось, рассыпалось в прах.
Например, ей казалось, что она никогда не забудет своего мужа Гаврика, как звали его на тусовке, а в миру просто Сашу Кисина. Казалось: Господи! Разве можно это забыть? Сколько от него вытерпела унижений, сколько историй пережила, если бы хватило тогда терпения все записать, то можно было бы теперь составить целый роман...
...Подружки ахали и уши развешивали, когда, возвращаясь в общагу после очередных приключений с Кисиным, она выплакивалась им в жилетку. «Верка, ты с ума сошла! Как ты можешь терпеть, чтобы с тобой так обращались? Ты просто мазохистка!» – «Нет, – с горечью качала она головой, чувствуя себя в своих страданиях невообразимо более развитой и интересной, нежели ее неизменные подруги по медучилищу – трезвые и здравомыслящие девахи из Подмосковья, не переживавшие в своей жизни ни с кем ничего подобного. – Нет, я его просто люблю».
В медучилище она поступила на следующий год после своего приезда в Москву. Поступила благодаря необузданной, страстной, немыслимой и непростительной своей любви к великовозрастному бездельнику и начинающему наркоману Саше Кисину, с которым познакомилась на Арбате.
Ну, это она теперь так скептично описывает и Кисина, и себя – малолетнюю идиотку с широко распахнутыми глазами: «Как, ты знаешь английский? Вот здорово! А ты можешь перевести на русский эту песню «Пинк Флойда»?.. Гениально!»
Когда они познакомились, Кисин выглядел вполне-вполне: высокий, стройный мальчик в потертых голубых джинсах, с кудрявым черным «хаером» до плеч, стянутым в хвост кожаным ремешком. Тонкое интеллигентное лицо, печальные еврейские глаза, отличный голос. Играет на гитаре на Арбате и поет малоизвестные тогда песни Вертинского: «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недрожащей рукой...» Вокруг стайкой сидят девчонки-хиппушки, все в фенечках и в расписанных «пацификами» джинсовых жилетках, пожирают его влюбленными взглядами. Народ останавливается, слушает, бросает в шляпу рубли и мелочь. Всем кажется, будто Гаврик сам сочинил эту песню и что речь идет об «афганцах». Собрав необходимую сумму, Гаврик прекращает концерт, высыпает деньги из шляпы в расшитый бисером кожаный «ксивник» и без доли наигранности, с чувством собственного достоинства раскланивается перед публикой... Стайка хиппушек срывается с насиженного места и, облепив Гаврика плотным кольцом, удаляется с ним в сторону Калининского...
Той весной, в апреле, Ленка продавала на Арбате свои этюды маслом, завалявшиеся с первого семестра. Ей до лета нужно было кровь из носа насобирать шестьсот рублей на поездку в Грецию. Уже в начале первого курса она познакомилась со своим будущим мужем Димитрисом, тоже студентом Суриковского, после Нового года у них завертелся роман, а на летние каникулы Димитрис пригласил Ленку поехать в гости к нему домой в Афины. Долларов, вырученных на продаже раскрашенных яиц, на это дело уже не хватало. Ленка вдруг стала прижимистой, экономила каждый рубль, и отношения между ней и Верой, и без того натянутые из-за мелких постоянных стычек на почве быта, стали трещать по швам.
Вера вдруг почувствовала, что стала ей в тягость. До и то, вспомнить жутко, как они ютились весь тот год втроем в крошечной комнатенке, где нужно было еще и учиться, и работать... Вера все чаще стала уходить из общаги, бродить целыми днями по Москве, а то и оставалась ночевать у кого-нибудь из знакомых хиппи. Именно то время она вспоминала теперь, как самое для себя опасное, когда она слепо ходила по самому краю пропасти, и только чудо спасло ее тогда, не позволив свалиться. Может, этому причиной было и то, что в тот год она неожиданно для себя начала захаживать время от времени в храмы.
В поселке, где она жила у бабки, своей церкви не было. Когда нужно было креститься или венчаться, то приходилось нанимать машину и долго ехать через степь в центр, в единственную в районе церковь. Это было безобразное, непонятной архитектуры здание с колокольней, забитой листами ржавой жести. Рельефные кресты на фасаде были зачем-то выкрашены темно-коричневой половой краской, как и фундамент, и кирпичные столбы ограды вокруг, и жирно оттенены по краям блестевшей, как смола, черной эмалью. Кто придумал так «отремонтировать» несчастный храм, для всех осталось загадкой. И только оказавшись в Москве, Вера смогла по-настоящему разглядеть и оценить красоту, величественность и уют русских церквей.
Вначале она заходила туда просто из любопытства, как в музей или картинную галерею, но вскоре ей наскучило просто стоять столбом в притворе и глазеть по сторонам на верующих. Хотелось принимать участие в происходящем загадочном действе наравне с остальными. Постепенно наиболее лояльные старушки, не глядевшие косо на ее джинсы и не шипевшие: «Платочек надо на голову надевать!», обучили Веру нехитрому этикету поведения в церкви: как правильно заходить в храм, как перекреститься, как, войдя, подойти приложиться к иконе, поставить свечку... Не задумываясь над сложностью таинств, Вера стала приходить к самому началу служб и уходить вместе со всеми в конце. Так же, не задумываясь, она стала носить крестик, хотя не была уверена, крещеная она или нет?
Спросить было не у кого. С бабкой она не поддерживала связи, да и не могла: ездить домой ей было незачем, а писем бабка не читала и не писала, она была неграмотная. Двоюродные братья, в детстве лупившие Веру чем попало, отнимавшие последний кусок, подаренный сердобольными соседями или школьными учителями, ее судьбой и подавно не интересовались. Мать бросила ее еще в детстве, выйдя замуж в Нальчике за какого-то нерусского, кажется чеченца, и тот сразу же после свадьбы увез ее к своим сородичам в деревню. Вскоре муж поставил ее матери условие: Веру отдать на воспитание бабушке, хочет – с его стороны, хочет – с ее стороны, но чтобы девочка жила отдельно от молодоженов – таков их, горский, обычай, если мужчина берет в свой дом женщину с ребенком.
Вере в то время было пять лет, и она вспоминала сейчас те события очень расплывчато, как ряд ярких картин: беленый приземистый длинный дом в деревне, окруженный высоким каменным забором... Почти никаких деревьев в саду перед домом. Жара, пыль, солоноватая питьевая вода... Повсюду много лошадей, баранов и диких злых овчарок, не разбирающих ни взрослого, ни ребенка. Одна укусила Веру за запястье правой руки, до сих пор на том месте у нее остался светлый, едва заметный шрам.
Потом мать села в поезд и повезла ее «в Россию», как все об этом говорили. В поезде было тесно и душно, они почти все время стояли, даже ночью, потому что все места были заняты. Вера помнит, что спала стоя, опершись животом на нижнюю полку – сидевшая на той полке черноволосая нерусская девушка в золотой косынке подвинулась и освободила Вере немного места. В России они еще долго ехали автобусом от станции по проселочной дороге, пока не приехали в поселок к бабке, и там Вера осталась на всю жизнь.
Поначалу ей в поселке очень понравилось: много детей на улице, все с ней играют. Соседки приходили, сидели в кухне, пили чай, долго судачили с бабкой о Вере, о ее матери и ее первом муже – Верином отце, которого она вообще не помнила. Вера сидела вместе с ними, на лавке под окном, и важно слушала взрослые разговоры. Она запомнила только то, что ее отец тоже был нерусский и, со слов бабки, хоть и любил очень сильно ее мать, но жениться на ней никак не мог, потому что «по их законам у него уже была с детства невеста из своих», и если бы он женился на русской, то его за это могли бы даже убить. Но он, несмотря ни на что, все-таки женился на Вериной матери – вот так он ее любил... Вере очень понравилась эта история, она запомнила ее на всю жизнь, и хотя, став взрослой, понимала, что, скорей всего, бабка выдумала все от первого слова до последнего, но и других сведений о своем отце она тоже не имела. Поэтому и продолжала повторять бабкину легенду. Единственным подтверждением, что не все в легенде было враньем, служило ее отчество – Александровна, вписанное в свидетельстве о рождении поверх зачеркнутого Аслановна, и девичья фамилия, которая у Веры была материна, доставшаяся от первого мужа...
Она не злилась на мать за то, что та ее бросила. Она понимала, что по-своему мать сделала правильный выбор, отправив дочку жить в Россию, а не оставив у местных. Черт знает, как бы еще там сложилась Верина судьба? Даже если бы мать нового мужа не тиранила приемыша (а Вера была убеждена, что та закутанная во все черное молчаливая женщина, которую она видела один раз в жизни после материной свадьбы, отнеслась бы к ней очень хорошо), то какое будущее ожидало бы ее там? Выйти замуж лет в пятнадцать за местного джигита, нарожать ему орду детишек, взвалить на плечи огромное хозяйство, скот, огороды? Или прожить всю жизнь одинокой, быть при чужой семье, нянчить чужих детей?
Нет, мать правильно сделала, что отправила ее в поселок к своей матери, где жил еще ее женатый брат со своей семьей. Она не к чужим отправляла Веру – к своим, уверенная, что там будет кому о ней позаботиться. Видимо, она оставила бабке и кое-какие деньги на Верино содержание, потому что вскоре после того, как она приезжала, дядька Володя – старший бабкин сын – неожиданно для всех в поселке купил «Жигули». Сама Вера этого не помнила, но когда подросла, то не раз слышала от соседок, что все в поселке тогда шушукались, спрашивали, на какие такие деньги вечно пьяный Володька мог приобрести машину? Бабка всем соседкам рассказывала, будто на самом деле ее Володька выиграл в лотерею мотоцикл, взял деньгами, добавил все деньги с книжки и купил машину. Кто-то ей верил, кто-то нет... А через некоторое время пьяный дядька, возвращаясь поздно вечером с рыбалки, сбил машиной человека на шоссе. Дядьку посадили на три года. «Не иначе Бог наказал,– шушукались снова посельчане, – на краденые детские деньги добра не купишь...»
Вот, может быть, с того самого времени бабка и начала Веру мучить. Перед соседками она еще делала вид, будто относится к ней хорошо, но стоило чужим выйти, как начиналось: «Байстрючка! Дармоедка! Да откуда ты навязалась на мою голову? Хоть бы сдохла скорее да развязала мне руки...» Перед соседками и бабка, и тетка, жена дядьки Володи, сажали Веру за стол вместе со своими детьми, говорили с ней ласковыми маслеными голосами, зато все остальное время она только и слышала: «Сколько ты можешь жрать, ненасытная твоя морда? Все жрет и жрет, все тянет со стола и тянет. Тут своих не прокормить, а еще эта на нашей шее сидит!» Двоюродные братья и сестры, а их у тетки было пятеро, исподтишка лупили Веру кулаками, отбирали печенье и конфеты, которыми ее угощали соседки, а вскоре, заметив, что взрослые им не запрещают этого делать, стали над Верой измываться открыто: толкали в навоз, плевали ей в тарелку. Тетка только ухмылялась, на это глядя. Если соседки и вмешивались, то она находила оправдание: «Так что ж мне со своими малыми делать, если они балуются? Не лупасить же за это?»
Чтобы соседи не замечали, что Вера вечно ходит голодная и избитая, бабка однажды запретила ей выходить на улицу играть с чужими детьми. Играть разрешалось только в своем дворе с двоюродными братьями и сестрами, а у тех все игры сводились к одному: как еще сегодня будем мучить малую? Один раз Веру привязали к дереву и обстреливали комьями земли, пока кровь не пошла у нее из разбитого носа. Другой раз ее пытались, посадив в ведро, опустить на цепи в колодец, и только сосед, прибежавший на ее истошный визг и плач, помешал теткиным детям осуществить этот план.
Когда Вера пришла в первый класс, учительница ничего про нее не знала, потому что сама жила на другом конце поселка. Увидев в своем классе худенькую, бледненькую девочку с испуганным выражением на мордочке, учительница захотела сделать доброе дело.
– Твоя фамилия Малашкина? – спросила она. – А Марина Малашкина, наверное, твоя родственница?
– Да, – едва дыша, прошептала Вера, не смея даже покоситься в сторону крепкой, высокой теткиной дочки, сидевшей за соседней партой.









































