Текст книги "Генеалогия морали. Казус Вагнер"
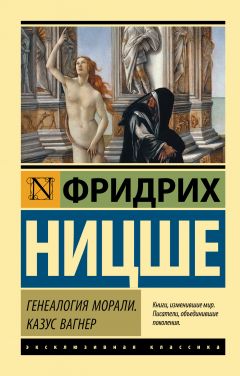
Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
9
Как мы видели, известный аскетизм, твердое и веселое добровольное воздержание относится к благоприятным условиям высшей духовности, равно как и является одним из ее естественных последствий: таким образом, нечего удивляться, что именно философы всегда относились с некоторым пристрастием к аскетическому идеалу. При серьезном историческом исследовании связь между аскетическим идеалом и философией оказывается еще теснее и строже. Можно было бы сказать, что только на помочах этого идеала философия вообще научилась делать свои первые шаги и шажки на земле – ах, еще такие неловкие, ах, еще с таким недовольным выражением лица; ах, еще готовый опрокинуться и лежать на брюхе, этот маленький робкий увалень и баловень с кривыми ножками!
Вначале с философией было как со всеми хорошими вещами – они долго были нерешительны, они всегда оглядывались, не придет ли им кто-нибудь на помощь, более того, они боялись всех, кто смотрел на них. Пусть читатель перечислит по порядку отдельные стремления и добродетели философа – склонность к сомнению, отрицанию, выжиданию, анализу, исследованию, исканию, дерзанию, сравниванию, уравниванию, волю к нейтральности и объективности, волю ко всякому «sine ira et studio»[42]42
«Без гнева и пристрастия» (лат.).
[Закрыть]. Наверное, читатель уже понял, что все это в совокупности долгое время противоречило требованиям нравственности и совести. (Не говоря уже о рассудительности вообще, которую еще Лютер любил называть госпожою Мудрицей, мудрой блудницей.) Философ, если бы он сознавал самого себя, должен был бы чувствовать себя вполне как воплощенное «nitimur in vetitum»[43]43
«Мы склонны к запретному» (лат.).
[Закрыть] и, следовательно, остерегался бы себя чувствовать, доходить до собственного сознания.
Как сказано, так же обстоит дело со всеми хорошими вещами, которыми мы теперь гордимся; даже меря меркою древних греков, все наше современное существование, поскольку оно не слабость, а могущество и сознание его, выглядит как сплошная Hybris[44]44
Гордость, надменность (греч.).
[Закрыть] и безбожие: потому что именно вещи, противоположные тем, которые мы восхваляем в настоящее время, весьма долгое время имели на своей стороне совесть и бога своими защитниками. В данный момент на гордости (Hybris) основывается все наше отношение к природе, наше одоление природы при помощи машин и не останавливающихся ни перед чем изобретений техников и инженеров; гордость (Hybris) определяет наше отношение к богу, т. е. я хочу сказать, к какому-то предполагаемому пауку целесообразности и нравственности, скрытому за великой ловчей сетью причинности, – мы могли бы сказать, как Карл Смелый в битве с Людовиком Одиннадцатым: «Je combats l’universelle araignée»[45]45
«Я борюсь со всемирным пауком» (фр.).
[Закрыть]: гордостью (Hybris) определяется наше отношение к самим себе, потому что мы производим над собой такие опыты, каких не позволили бы себе ни над одним животным, и с наслаждением и любопытством кромсаем свою душу в живом теле: какое нам дело еще до «спасения» души! Мы сами лечим себя: несомненно, что болезнь поучительна, поучительнее здоровья; причиняющие болезнь кажутся нам в настоящее время нужнее, чем какие-либо врачи и «спасители».
Нет сомнения, что мы насилуем теперь себя сами, мы, вскрыватели душ, щелкунчики, мы, вопрошающие и достойные вопроса, как будто вся жизнь сводится к «щелканью орехов». Поэтому-то мы неизбежно должны с каждым днем становиться загадочнее, более достойными вопроса, может быть, и более достойными – жизни…
Все хорошие вещи были некогда вещами дурными; из всякого наследственного греха произошла наследственная добродетель. Например, брак долгое время казался нарушением права общины; платили пеню за нескромное желание овладеть женщиной (сюда относится, например, jus primae noctis[46]46
Право первой ночи (лат.).
[Закрыть], которое и в настоящее время еще в Камбодже является преимуществом священников, этих блюстителей «старых добрых нравов»). Нежные, доброжелательные, уступчивые, сострадательные чувства, ценимые так высоко, что почти являются «самоценностью», долгое время возбуждали презрение к самому себе: стыдились мягкости, как теперь стыдятся жестокости (сравн. «По ту сторону добра и зла»).
Подчинение праву: о, как возмущалась всюду на земле совесть благородных родов, когда они отказывались от vendetta[47]47
Вендетты, обычая кровной мести (um.).
[Закрыть] и подчинялись праву! Долгое время право было vetitum (запретным стремлением), кощунством, новшеством, оно выступало насильственно, как насилие, которому подчинялись только со стыдом перед самим собою.
Каждый малейший шаг на земле был некогда сделан ценою нравственных и физических мучений. Нам так непонятна теперь высказанная мною в «Утренней заре» точка зрения, что «не только прогресс, движение вперед, нет, движение вообще, всякое изменение требовало бесчисленных мучеников».
«Нет вещи, за которую было бы дороже заплачено, – сказано там, – чем тот ограниченный человеческий разум и чувство свободы, которое в настоящее время является предметом нашей гордости. Но эта гордость делает для нас теперь почти невозможным чувствовать одинаково с теми громадными периодами, когда нравственно было то, что обычно, периодами, которые предшествуют всемирной истории в качестве истинной и определяющей главной истории, установившей характер человечества, когда страдание считалось повсюду добродетелью, жестокость добродетелью, притворство добродетелью, месть добродетелью, отречение от разума добродетелью; напротив, благосостояние признавалось опасным, любознательность опасной, мир опасным, сострадание опасным, возбуждать сострадание считалось позором, труд позором, безумие божьим даром, всякая перемена признавалась безнравственной и чреватой пагубными последствиями!»
10
В той же книге выяснено, при какой оценке, под каким давлением оценки приходилось жить старейшему поколению созерцательных людей, – их презирали как раз в той мере, поскольку их не боялись! Созерцание появилось на земле сначала в замаскированном виде, с двусмысленной репутацией, со злым сердцем и часто с испуганной головою: в этом нет никакого сомнения. Неактивное, высиживающее, невоинственное в инстинктах созерцательных натур долго окружало их глубоким недоверием: против этого не было другого средства, кроме решительного возбуждения страха перед собою. И на это были мастера, например старые брамины. Древнейшие философы умели придать своему существованию и своей внешности такой смысл, такую опору и такой фон, что их стали бояться: разобравшись точнее, мы поймем, что они делали это из более фундаментальной потребности, именно потребности внушить самим себе страх и благоговение перед собою. Потому что у себя они находили все оценки обращенными против себя и им приходилось преодолевать всякого рода подозрения и сопротивления против «философа в себе».
Как люди жестокой эпохи, они совершали это ужасными средствами: жестокость к себе, изобретательное самомучительство – таково было главное средство этих жаждавших власти пустынников и обновителей мысли, которым нужно было сначала побороть в самих себе богов и традиции, чтобы самим смочь поверить своим новшествам. Напомню знаменитую историю царя Вишвамитры, который из тысячелетних самоистязаний вынес такое чувство мощи и доверия к себе, что предпринял постройку нового неба: зловещий символ древнейшей и новейшей истории философов на земле – каждый, когда-либо строивший «новое небо», мощь свою для него находит только в собственном аду.
Выразим все это в краткой формуле: философский дух всегда принужден был на первых порах переодеваться в ранее установившиеся типы созерцательных натур, принужден был проходить стадию куколки в виде жреца, волшебника, предсказателя, вообще религиозного человека, чтобы хоть до некоторой степени оказаться возможным; аскетический идеал служил в течение долгого времени формою проявления, предпосылкою существования для философа; философ должен был представлять этот идеал, чтобы иметь возможность быть философом, должен был верить в него, чтобы мочь представлять его. Своеобразно отрицательно относящаяся к миру, враждебная жизни, не доверяющая чувствам, освободившаяся от чувственности манера поведения, удержавшаяся почти до настоящего времени и тем почти получившая признание как истая философская манера, является прежде всего результатом тяжелых условий, при которых вообще возникла и существовала философия. Потому что долгое время философия была бы совершенно невозможна на земле без аскетической оболочки и костюма, без аскетического самонепонимания. Выражаясь наглядно и ясно: священник-аскет представлял собою до последнего времени противную и мрачную форму гусеницы, в виде которой только и могла жить и ползать философия…
Действительно ли это изменилось? Действительно ли сбросило с себя рясу и вышло наконец на свет, благодаря тому что мир стал более солнечным, более теплым и более ясным, то пестрое и опасное крылатое существо, тот «дух», который скрывался в этой гусенице? Достаточно ли имеется уже налицо гордости, дерзания, храбрости, уверенности в себе, воли духа, воли к ответственности, чтобы отныне действительно оказался возможным на земле «философ»?..
11
Только теперь, когда обозначился перед нами священник-аскет, приступаем мы серьезно вплотную к нашему вопросу: что означает аскетический идеал? Теперь только уже настоящий «серьез»; ведь перед нами теперь настоящий представитель серьезности вообще. Теперь на наши уста, может быть, уже напрашивается еще более принципиальный вопрос: «Что означает всякая серьезность?» Вопрос для физиолога, как и подобает. Покамест мы, однако же, пройдем еще мимо этого вопроса.
В аскетическом идеале – не только вера, но и воля, и мощь, и интерес священника-аскета. С этим идеалом тесно связано его право на существование: не диво, что здесь мы натолкнемся на ужасного противника (конечно, предположив, что мы оказались бы противниками этого идеала), на такого, который в борьбе с отрицателями этого идеала борется за свое существование… С другой стороны, невероятно уже с самого начала, чтобы ему особенно пригодилась в данном случае такая его заинтересованность в нашей проблеме. Священник-аскет лично вряд ли может явиться счастливым защитником своего идеала по той же причине, по которой женщине обыкновенно не удается защита «женщины самой по себе». Тем паче не может он быть беспристрастным судьею в поднятом здесь споре. Стало быть, нам, скорее, придется еще помогать ему – это уже и теперь ясно, – хорошо защищать его против нас, и во всяком случае не приходится опасаться, что он слишком хорошо нас опровергнет…
Мысль, из-за которой идет здесь борьба, есть оценка нашей жизни со стороны священников-аскетов, она ставится ими (вместе со всем принадлежащим к ней: «природою», «миром», всею сферою становящегося и переходящего) в связь с совершенно иным бытием, которому она противоречит и которое она отрицает, если только она не обратится против самой себя, если не станет отрицать сама себя: в последнем случае аскетической жизни жизнь имеет значение моста, ведущего в то, иное, бытие. Аскет смотрит на жизнь как на ложный путь, который в конце концов нужно пройти обратно до его начала; или как на заблуждение, которое опровергают – должны опровергнуть делом: он требует, чтобы шли с ним, он навязывает где только может свою оценку жизни. Что это значит?
Такой чудовищный способ оценки не представляет исключительного случая и курьеза, записанного в истории человечества. Это один из наиболее распространенных, из наиболее долго длящихся фактов. Прочтенная с какого-нибудь далекого созвездия, написанная заглавными буквами рукопись нашего земного существования, пожалуй, могла бы привести к заключению, что Земля, собственно говоря, настоящая аскетическая звезда, уголок огорченных, высокомерных и противных созданий, которые не могут избавиться от глубокой досады на самих себя, на Землю и всю жизнь и причиняют друг другу елико возможно более страданий из удовольствия причинять страдания – вероятно, их единственного удовольствия.
Однако же взвесим, как правильно, как всеобще, как почти во все эпохи появляется священник-аскет; он не принадлежит к какой-нибудь отдельной расе; он преуспевает повсюду; вырастает из всех сословий. И не то чтобы он взращивал и распространял свою оценку по наследству – наоборот, глубокий инстинкт запрещает ему, вообще говоря, размножение. Очевидно, есть какая-то необходимость первого ранга, которая постоянно заставляет снова и снова вырастать и созревать эту враждебную жизни породу (species), – очевидно, это в интересе самой жизни, чтобы не вымирал такой тип самопротиворечия. Потому что аскетическая жизнь есть самопротиворечие: здесь господствует ressentiment, которому бы хотелось стать господином не над чем-нибудь в жизни, а над самою жизнью, над ее глубочайшими, сильнейшими, низшими условиями; здесь делается попытка употребить силу для того, чтобы закупорить источники силы; здесь направляется ядовитый и коварный взгляд против самого физиологического здоровья, и в особенности против его выражения – красоты и радости; тогда как удовольствие испытывается и ищется в неудавшемся, в атрофирующемся, в страдании, в несчастии, в безобразном, в обезличении, самобичевании, самопожертвовании.
Все это в высшей степени парадоксально: мы стоим здесь перед расколотостью, которая сама хочет быть таковою, которая наслаждается собою в этом страдании и даже становится все самоувереннее и все более торжествующей по мере того, как уменьшается ее собственная предпосылка, физиологическая жизнеспособность. «Триумф именно в последней агонии» – под таким знаком «превосходной степени» боролся во все времена аскетический идеал; в этой загадке искупления, в этом образе восторга и муки увидал и познал он свой самый яркий свет, свое спасение, свою конечную победу. Crux, nux, lux[48]48
Крест, ядро, свет (лат.).
[Закрыть] – это у него сливается в одно.
12
Предположим, что такая воплощенная воля к противоречию и к противоестественному была бы приведена к философствованию: на чем бы проявился ее внутреннейший произвол? На том, что ощущается с наибольшею достоверностью как истинное, как реальное: заблуждение она стала бы искать именно там, где настоящий жизненный инстинкт предполагает с наибольшею безусловностью истину. Она начала бы, как это сделали, например, аскеты философии Веданты[49]49
В е д а н т а – одна из главных систем индийской философии.
[Закрыть], низводить телесность до степени иллюзии, точно так же и страдание, и множественность, всю противоположность между «субъектом» и «объектом» – все это для нее заблуждения, не больше как заблуждения!
Отказать в вере своему «я», самому отрицать свою «реальность» – такой триумф уже не только над чувствами, над очевидностью, а гораздо высший вид триумфа – насилие и жестокость над разумом. Какого сладострастия достигнута тут вершина, когда аскетическое самопрезрение, самоиздевательство декретирует разуму: «царство истины и бытия существует, но именно разум и исключен из него!». (Кстати сказать: даже в кантовском понятии об «интеллигибельном характере вещей» уцелело еще кое-что из этой похотливой аскетической расколотости, которая любит обращать разум против разума: «интеллигибельный характер» у Канта обозначает именно такого рода свойство вещей, о котором интеллект понимает как раз столько, что он совсем непостижим для интеллекта.)
Однако же, именно как познающие, не будем неблагодарны за такие решительные выворачивания наизнанку привычных перспектив и оценок. Ум слишком долго играл ими, по-видимому бесполезно и кощунственно, свирепствуя против самого себя. Но начать, таким образом, вдруг видеть иначе, хотеть видеть иначе – в этом немалая культура и подготовление интеллекта к его будущей «объективности», причем последняя понимается не как «бескорыстное воззрение», что является нелепостью, а как способность господствовать над своими «за» и «против», уметь включать и выключать их, благодаря чему можно извлечь пользу для познания именно из различия перспектив и эффективных истолкований.
Поостережемся-ка мы лучше впредь, господа философы, от опасного старого баснословия понятий, предполагавшего «чистый, не обладающий волей, не подверженный страданию безвременный субъект познания», побережемся щупальцев таких противоречивых понятий, как «чистый разум», «абсолютная духовность», «познание само в себе»; здесь всегда постулируется мысль о глазе, которого совсем нельзя мыслить, о глазе, который совсем не должен никуда направляться, в котором должны быть перевязаны и пресечены, должны отсутствовать все активные и истолковывающие силы, благодаря которым зрение и становится зрением чего-нибудь; здесь, стало быть, всегда предъявляется глазу нелепое и противоречивое требование.
Есть только перспективное зрение, существует только перспективное «познавание»; и чем больше аффектов будет участвовать в обсуждении предмета, чем больше глаз, различных глаз, сумеем мы пустить в дело для восприятия его, тем полнее будет наше «понятие» об этом предмете, тем больше будет наша «объективность». Но упразднить волю вообще, выключить все аффекты, предполагая даже, что мы сумели бы сделать это, – не значило ли бы это кастрировать интеллект?..
13
Вернемся, однако, назад. Такое самопротиворечие, которое представляется, по-видимому, в аскете, «жизнь против жизни», – очевидно является, с точки зрения не психологии, а физиологии, простою нелепостью. Оно может быть только кажущимся, оно должно быть своего рода предварительным выражением, истолкованием, формулой, подготовкой, психологическим недоразумением чего-то, истинная природа чего долго не могла быть понята, долго не могла быть по-настоящему обозначена; просто слово, втиснутое, чтобы заткнуть старую щель человеческого познания. И, чтобы сразу противопоставить этому фактическое положение дела, скажу кратко: аскетический идеал возникает из защитного и врачующего инстинкта вырождающейся жизни, которая всеми силами старается удержаться и борется за свое существование; он указывает на частичную физиологическую задержку (каких-нибудь функций) и усталость, против которых неустанно борются все новыми средствами глубочайшие, оставшиеся нетронутыми инстинкты жизни. Аскетический идеал и есть такое средство; дело с ним обстоит, стало быть, как раз обратно мнению почитателей этого идеала – в нем и посредством него жизнь борется со смертью и против смерти, аскетический идеал является уловкой для сохранения жизни.
В том, что аскетический идеал, как показывает история, мог приобрести такую силу над людьми, особенно там, где была осуществлена цивилизация и приручение человека, проявляется один великий факт: болезненность в до сих пор существующем типе человека, по крайней мере сделанного ручным человека, физиологическая борьба человека со смертью (точнее, с пресыщением жизнью, с усталостью, с желанием «конца»). Священник-аскет – это воплощенное желание быть другим, быть где-нибудь в другом месте, и притом высшая степень этого желания, его пламенение и страсть, но именно мощь этого желания и является оковами, связывающими его здесь; именно благодаря этому оно и становится орудием, которое должно работать над созданием более благоприятных условий для здешнего бытия, для человеческого бытия. Именно мощью этого желания и привязывает священник-аскет к жизни все стадо неудачных, огорченных, потерпевших и страждущих всякого рода, когда он инстинктивно идет впереди них, как пастух. Вы поняли меня уже: этот священник-аскет, этот, по-видимому, враг жизни, этот отрицатель, именно он принадлежит к великим консервирующим и создающим утверждение силам жизни…
От чего зависит эта болезненность? Человек болезненнее, неувереннее, переменчивее, неустойчивее любого животного, в этом нет сомнения, – он больное животное. Отчего происходит это? Разумеется, он больше дерзал, новаторствовал, упорствовал, вызывал судьбу на бой больше, чем все остальные животные, вместе взятые, он великий экспериментатор над самим собою, неудовлетворенный, ненасытный, борющийся за последнее господство со зверями, природой и богами, – он все еще не укрощенный, вечно будущий, уже не находящий покоя от своей собственной, вечно влекущей куда-то силы, так что его будущее неумолимо, как шпорами, вонзается в каждое его настоящее: возможно ли, чтобы такое мужественное и богатое животное не было обречено быть и наиболее подверженным опасностям, и наиболее долго и глубоко больным изо всех больных животных?..
Довольно часто бывает, что человеку надоедает это, бывают целые эпидемии такого пресыщения (напр., около 1348 года, во время пляски смерти), но даже и это отвращение, эта досада на самого себя, эта усталость – все это проявляется в нем с такою силой, что сейчас же является новыми узами, призывающими его к жизни. Его «нет», которое он говорит по адресу жизни, точно каким-то волшебством рождает множество более нежных «да». И даже когда он ранит себя, этот мастер разрушения, саморазрушения, то после этого, оказывается, сама эта рана принуждает его жить…
14
Чем нормальнее болезненность человека – а мы не можем отрицать этой нормальности, – тем выше следовало бы ставить редкие случаи душевно-телесной могучести, счастливые случаи человека, тем строже следовало бы оберегать удавшихся от самого дурного воздуха – воздуха больных. Делается ли это?.. Больные – величайшая опасность для здоровых; не от сильных идет беда на сильных, а от слабейших. Известно ли это?..
Вообще говоря, не уменьшения страха перед человеком следовало бы желать: потому что этот страх заставляет сильных быть сильными, иногда страшными – он поддерживает тип удавшегося человека. Чего нужно бояться (что действует более роковым образом, чем всякий рок), так это не великого страха, а великого отвращения к человеку; и точно так же великого сострадания к человеку. Допустим, что в какой-нибудь день оба этих чувства соединились бы: на свете произошло бы неизбежно нечто самое зловещее, «последняя воля» человека, его воля к Ничто, нигилизм. И в самом деле, для этого многое уже подготовлено. У кого есть не только нос для того, чтобы нюхать, но и глаза и уши, тот чувствует почти повсюду, куда он только в настоящее время ни ступит, что-то вроде больничного воздуха – воздуха дома умалишенных. Я говорю, разумеется, о культурных областях человека, о всякого рода «Европе», какая только есть на земле.
Великую опасность для человека представляют не злые, не «хищники», а немощные. От рождения неудачники, побежденные, надломленные, это они, это наислабейшие больше всего подтачивают жизнь среди людей, это они опаснее всего отравляют наше доверие к жизни, к человеку, к самим себе, это они заставляют нас сомневаться во всем этом. Куда уйти от этого затуманенного взора, глубокую печаль которого потом уже не стряхнешь с себя, куда деваться от этого отвращенного взора человека, с самого начала неудачно рожденного, – взора, выдающего, как такой человек говорит самому себе (этого взора, который как стон): «Желал ли бы я быть чем-нибудь иным? – Так стонет этот взор, но на это нет надежды. – Я таков, каков я есть, разве мог бы я избавиться от самого себя? И, однако же, я пресыщен собою…» На такой почве презрения к самому себе, настоящей болотной почве, вырастает всякая сорная трава, всякое ядовитое растение, и все это так мелко, так исподтишка, так нечестно, так приторно. Здесь кишат черви мстительных чувств, мутных осадков; здесь воздух воняет вещами, которые надо скрывать, в которых нельзя признаться; здесь постоянно ткется сеть самого злостного заговора – заговора немощных против удачных и победоносных, здесь ненавистен сам вид победителя. И сколько лживости нужно, чтобы эту ненависть не признавать ненавистью! Сколько нужно затратить громких слов и красивых поз, сколько искусства «добропорядочной» клеветы! О, эти неудачники: какое благородное красноречие льется из их уст! Сколько сахаристой слизистой смиренной преданности светится в их глазах! Чего они, собственно, хотят? Представить хотя бы только по внешности справедливость, любовь, мудрость, превосходство – таково честолюбие этих «нижайших», этих больных! И как ловко действует это честолюбие!
Удивляться надо ловкости фальшивомонетчиков, с которою здесь подделывается чекан добродетели и даже звон, золотой звон добродетели. Теперь они уже сняли добродетель в монопольную аренду, эти слабые и неисцелимо-болезненные, в этом нет никакого сомнения. Мы одни только добрые, хорошие, справедливые, так говорят они, мы одни homines bonae voluntatis[50]50
Люди доброй воли (лат.).
[Закрыть]. Они бродят среди нас как воплощенные упреки, как предостережения, как будто бы здоровье, удачливость, сила, гордость, чувство мощи были бы уже сами по себе прочными вещами, которые когда-нибудь нужно будет искупить, придется горько искупить. О, как, в сущности говоря, они сами были бы готовы заставить искупить, как жаждут они стать палачами.
Есть между ними, и очень много, жаждущих мести, которые переоделись судьями и у которых слово «справедливость» постоянно на устах, точно ядовитая слюна. Они всегда готовы заплевать все, что не имеет недовольного вида, все, что бодро идет своим путем. Нет недостатка между ними и в том самом противном виде (species) тщеславных, изолгавшихся уродцев, которые изо всех сил стараются казаться «прекрасными душами»[51]51
Гётевский термин, обозначающий человека с высшими духовными запросами и стремлениями.
[Закрыть] и, например, выносят на рынок, как «чистоту сердца», свою изгаженную, исковерканную чувственность, закутанную в стихи и другие пеленки, – это вид моральных онанистов и «самоудовлетворяющихся». Больные хотят проявить превосходство в какой бы то ни было форме, у них инстинкт окольных тропинок, ведущих к тирании над здоровыми, и где только не встретишь именно у наислабейших этого стремления воли к мощи. В особенности у больной женщины: никто не превзойдет ее в raffinements (утонченнейших уловках) для того, чтобы властвовать, угнетать, тиранизировать. Больная женщина к тому же не щадит ничего живого и ничего мертвого, она раскапывает давным-давно схороненные вещи (богосы говорят: «Женщина – это гиена»).
Взгляните за кулисы любой семьи, любой корпорации, любого общества: везде вы найдете борьбу больных против здоровых – тихую борьбу, большею частью она ведется с помощью мелких доз яда, булавочных уколов, коварного выражения, страдания на лице, но иногда и с фарисейством громких жестов, охотнее всего разыгрывающим «благородное негодование». И до священнейших областей науки хотелось бы им, чтоб добрался этот хриплый лай возмущения болезненных собак, кусающая лживость и ярость таких «благородных» фарисеев. (Напомню читателю, имеющему уши, чтобы слышать еще раз о берлинском апостоле мести Евгении Дюринге, поднявшем в теперешней Германии с такой неприличной и противной рекламой моральный шум, о Дюринге, который даже среди ему подобных, даже среди антисемитов, является первым моральным крикуном и хвастуном.) Все это люди злопамятства и жажды мести (ressentiment), физиологически пострадавшие, люди с червоточиной, целый трепещущий пласт подземной мести, неисчерпаемой, ненасытной в своих проявлениях против счастливых, а также и в маскарадах мести, и в поводах к мести: когда же, собственно, пришли бы они к своему последнему, тончайшему, высочайшему триумфу мести? Несомненно, тогда, если бы им удалось отравить душу счастливым, навязав им свое собственное бедствие, все бедствия и страдания вообще, так что счастливые начали бы вдруг стыдиться своего счастья и, может быть, стали бы говорить друг другу: «Стыдно быть счастливыми! На свете слишком много бедствий!..»
Но не было бы недоразумения более громадного и более рокового, чем если бы счастливые, удачливые, могучие телом и душой стали бы сомневаться, таким образом, в своем праве на счастье.
Долой этот «извращенный мир»! Долой это постыдное размягченное чувство! Пусть больные не делают здоровых больными (а в этом было бы значение этой размягченности) – таков должен бы быть верховный принцип на земле. Но для этого, прежде всего, нужно было бы, чтобы здоровые были отделены от больных, остерегались бы даже глядеть на них, чтобы не смешиваться с больными. Или, может быть, задача их – быть врачами и ухаживать за больными?.. Но ведь нельзя же, было бы хуже ошибиться в своей задаче, резче отказаться от нее, высшее и должно унижаться до степени орудия низшего, чувство расстояния должно навеки разъединить их задачи! Их право на существование, преимущество полнозвучного колокола перед дурно звенящими надтреснутыми ведь в тысячу раз больше: они одни являются залогом грядущего, на них одних лежит обязанность будущего человеческого. Что они могут, что они должны, того никогда не смеют больные ни мочь, ни долженствовать, но, для того чтобы они могли исполнить то, что только они и должны, неужели же можно было бы им еще играть роль врача-утешителя, «спасителя больных»?..
Поэтому – воздуха! Свежего воздуха! И, во всяком случае, подальше от культуры, с ее домами умалишенных и больницами! И поэтому – подальше от хорошего общества, нашего общества! Или одиночества, если уж так нужно. Но, во всяком случае, прочь от скверных испражнений внутреннего разложения и тайной червоточины болезней!.. И это для того, друзья мои, чтобы хоть на время защитить самих себя от двух злейших язв, которых именно нам следует беречься: от великого отвращения к человеку! От великой жалости к человеку.
15
Если вы уже поняли во всей глубине, а я требую, чтобы именно здесь было глубокое понимание, – насколько невозможно, чтобы задачей здоровых было ухаживать за больными, вылечивать их, то этим самым вы поняли и другую необходимость – необходимость, чтобы врачами были и ухаживали за больными те, кто сами больны: и тут мы обеими руками уловили смысл аскета-жреца. Священник-аскет для нас должен иметь значение предназначенного спасителя, пастыря и защитника больной паствы, только таким образом для нас понятна его громадная историческая миссия. Его область – господство над страждущими, это указывает ему его инстинкт, здесь его искусство, его, мастера, своеобразное счастье. Он сам должен быть болен, он должен быть, по существу, родствен больным и пострадавшим для того, чтобы понимать их, для того чтобы столковаться с ними; но он должен быть, кроме того, и силен; должен быть господином над собою, еще более, чем над другими, обладать неослабленной волею к мощи, чтобы пользоваться доверием больных и внушать им страх, чтобы и быть для них опорой, сопротивлением, поддержкой, принуждением, тюремщиком, тираном, богом. Он должен защищать свою паству – против кого? Против здоровых, несомненно, а также и против зависти к здоровым: он должен быть естественным противником грубого, необузданного, жестокого, насильственнохищного здоровья и могущества. Он должен презирать их. Жрец, священник – это первая форма более деликатного зверя, еще с большею легкостью способного к презрению, чем к ненависти.









































