Текст книги "Генеалогия морали. Казус Вагнер"
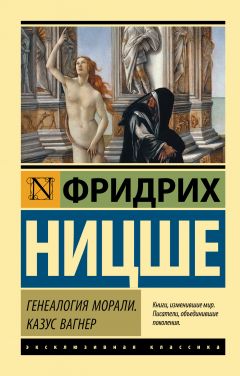
Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Главная уловка, которую позволял себе священник-аскет для того, чтобы заставить звучать в душе человека всякого рода раздирающую и восторженную музыку, заключалась – как всякому известно – в том, что он пользовался чувством виновности. Относительно происхождения этого чувства краткие намеки были сделаны в предыдущем трактате. Это была часть психологии животного, и ничего больше: чувство виновности выступало там перед нами как бы в сыром виде. Только под руками священника, этого настоящего художника в области чувства виновности, приняло оно форму – и что за форму! «Грех» – так гласит жреческое перетолкование животной «дурной совести» (обратившейся вспять жестокости) – это величайшее до настоящего времени событие в истории больной души. В нем перед нами самый опасный и наиболее роковой фокус религиозного истолкования.
Человек страдает сам по себе, по каким-либо причинам, конечно, физиологически, вроде того, как страдает, например, животное, заключенное в клетку. Ему неясно ни почему, ни для чего. Он хотел бы знать основания – основания дают облегчение, он ищет средств, он ищет наркоза. Наконец, он советуется со жрецом, которому известно и сокровенное. И вот он получает указание, получает от своего волшебника, священника-аскета, первое указание на «причину» своего страдания: он должен искать в себе эту причину, в какой-нибудь вине, в какой-нибудь части прошлого, и самое свое страдание он должен понимать как наказание… Он выслушал, он понял, несчастный: и вот с ним начинается история, как с курицей, вокруг которой провели черту. За черту этого круга он уже не выйдет: из больного вышел «грешник»…
И теперь на несколько тысячелетий уже невозможно отделаться от вида этого нового больного, «грешника», – вообще, возможно ли будет хоть когда-нибудь избавиться от него? Куда ни глянешь, везде этот гипнотический взор грешника, движущийся всегда лишь по одному направлению (по направлению «вины» как единственной причинности страдания); повсюду нечистая совесть, это ужасное животное, как выражается Лютер; повсюду пережевывание прошлого, перетолковывание вкривь и вкось поступка, «зеленый глаз» по отношению ко всякой деятельности; повсюду ставшее содержанием жизни желание не понимать страдания, его истолкование путем чувств виновности, страха и наказания; повсюду бичевание, власяница, изможденное тело, сокрушение; повсюду самоколесование грешника, повсюду ужасная дыба беспокойной, болезненно похотливой совести; повсюду немая мука, крайний страх, агония измученного сердца, судороги неизвестного счастья, вопль об «избавлении».
Действительно, эта система победила старую удрученность, уныние и усталость, жизнь снова стала очень интересной: бодрствующий, вечно бодрствующий, ночи напролет не смыкающий глаз, горящий, обугленный, истощенный и, однако же, не усталый – таким выделился человек, «грешник», посвященный в эти мистерии. А этот старый великий волшебник в борьбе с безрадостностью жизни – он, очевидно, победил, священник-аскет: его царство пришло. Уже не стало слышно жалоб на страдания; началось страстное искание страданий; «еще страдания! еще страдания! еще страдания!» – так в течение веков кричало вожделение его учеников и посвященных. Каждое излишество чувств, причинявшее боль, все, что изламывало, опрокидывало, раздавливало, повергало в экстаз, – все это было теперь открыто, угадано, использовано, все было к услугам волшебника, все служило впредь торжеству его идеала, аскетического идеала… «Царство мое не от мира сего», – говорил он и теперь, как и прежде, но имел ли он в самом деле еще право говорить таким образом?.. Гёте утверждал, будто бы существует всего лишь тридцать шесть трагических положений: из этого можно угадать, если бы мы не знали ничего больше, что Гёте не был жрецом-аскетом. Тому – известно больше…
21
По отношению ко всему этому преступному роду жреческого врачевания каждое слово критики излишне. Кто взялся бы утверждать, что подобное излишество чувства, обыкновенно предписываемое больным в таких случаях священником-аскетом (разумеется, под самым священным названием и с самым полным сознанием святости его цели), действительно принесло пользу какому-нибудь больному? По крайней мере, следовало бы условиться относительно значения слов «приносить пользу». Если этим желают выразить, что такая система улучшила человека, то я не возражаю: я только прибавлю, что улучшить, по-моему, значит «сделать ручным», «ослабить», «лишить мужества», «сделать утонченным», «кастрировать» (словом, означает приблизительно то же самое, что «принести вред»). Но если дело идет главным образом о больных, расстроенных, удрученных, то, даже допустив, что такая система лечения делает больного «лучше», во всяком случае, следует признать, что она делает его еще более больным. Спросите психиатров, к чему ведет методическое применение покаянных истязаний, сокрушений и судорожных восторгов искупления. Спросите также историю: повсюду, где только удавалось священнику-аскету осуществить такой метод лечения больных, каждый раз со зловещею быстротой росла вглубь и вширь болезненность. Каковы были «успехи»? Расшатанная нервная система в добавление к тому, что уже было больным. И это в величайшем, как и в малейшем, у отдельных лиц, так и у масс.
В свите, сопровождающей тренировки покаяния и искупления, мы встречаем колоссальные эпилепсические эпидемии, величайшие, какие только известны в истории, как, например, пляски святого Витта и святого Иоанна; другая форма ее последствий проявляется в виде ужасного ослабления и длительных состояний подавленности, под влиянием которых иногда изменяется темперамент целого города (Женева, Базель), раз и навсегда в свою противоположность; сюда же относится и истерия ведьм, представляющая нечто родственное сомнамбулизму (в один только промежуток времени между 1564 и 1605 годами было восемь крупнейших эпидемических вспышек ее); в этой же свите встречаем мы и те массовые мании самоубийств, ужасный клич которых: «ewiva la morte!»[60]60
«Да здравствует смерть!» (ит.)
[Закрыть]– раздавался по всей Европе, прерываясь то сладострастиями, то бешено разрушительными идиосинкразиями. Такая же смена аффектов, с такими же перерывами и неожиданностями, наблюдается и в настоящее время повсюду, в каждом случае, когда аскетическое учение о греховности начинает пользоваться большим успехом. (Религиозный невроз является формою «злого начала»: в этом нет никакого сомнения. Что же он такое? Quaeritur[61]61
Спрашивается (лат.).
[Закрыть].) Вообще говоря, аскетический идеал и его возвышенно-моральный культ, эта умнейшая, бесстрашнейшая и опаснейшая систематизация всех средств, разнузданности чувства под покровом священнейших намерений, вписан во всю историю человека ужасным и незабываемым образом; и, к сожалению, не только в историю… Я бы затруднился указать что-нибудь другое, что действовало бы в такой же мере разрушительно на здоровье и силу расы, особенно европейцев, как аскетический идеал; без всякого преувеличения его можно назвать настоящим злым роком в истории здоровья европейских народов. Самое большее, если можно еще сравнить с ним специально германское влияние: я говорю об отравлении Европы алкоголем, которое до сих пор шло строго параллельно с политическим и расовым преобладанием германцев (где они прививали свою кровь, там прививали они и свой порок). Третьим по порядку можно было бы назвать сифилис, magno sed proxima intervallo[62]62
Ближайший по очереди, хотя и на дальнем расстоянии (лат.).
[Закрыть].
22
Священник-аскет испортил душевное здоровье везде, где только он достиг господства, испортил он, значит, и вкус in artibus et litteris[63]63
В искусствах и литературе (лат.).
[Закрыть], – он и до сих пор продолжает портить его. «Значит?» – я надеюсь, что со мною попросту согласятся в этом «значит». По крайней мере, я не хочу его доказывать. Сделать надо всего лишь одно указание: это насчет основной книги христианской литературы, ее настоящей модели, ее «книги самой по себе».
Еще среди великолепия греко-римского мира, бывшего великолепием также и в области книг, ввиду еще не пришедшего в упадок и не разрушенного мира античных произведений, в то время, когда еще можно было читать некоторые книги, за обладание которыми в настоящее время можно было бы отдать половину существующих литератур, глупость и тщеславие христианских агитаторов – их называют Отцами Церкви – уже осмеливались декретировать: «У нас тоже есть своя классическая литература, мы не нуждаемся в греках», – и при этом они гордо указывали на книги легенд, посланий апостольских и на апологетические трактатики, приблизительно так же, как в настоящее время подобною же литературой борется против Шекспира и других «язычников» английская Армия спасения.
Вы угадали уже, я не люблю Нового Завета. Меня беспокоит, что я стою в такой степени одиноко со своим вкусом по отношению к этой наиболее ценимой, наиболее преувеличенно ценившейся книжке (вкус двух тысячелетий против меня). Но что делать? «Здесь я стою, я не могу иначе», – у меня есть мужество держаться своего дурного вкуса. Ветхий Завет – да! Это совсем другое: дань уважения Ветхому Завету! В нем я встречаю великих людей, героический ландшафт и нечто наиболее редкостное на земле, несравненную наивность сильного сердца: более того, я нахожу в нем народ.
В Новом Завете, напротив, только и есть что маленькое хозяйничанье маленькой секты, рококо души, вычурность, угловатость, причудливость, воздух тайных собраний, с налетом, свойственным эпохе (и римской провинции), и не столько иудейской, сколько эллинистической, буколической слащавости. Смирение и тут же, совсем рядом, – кичливость: просто ошеломляющая болтливость чувства; страстность при отсутствии страсти; мучительная игра жестов; тут видно полнейшее отсутствие хорошего воспитания. Ну как-таки можно поднимать столько шуму по поводу своих маленьких недостатков, как это делают эти благочестивые человечки! Ведь об этом петух не закричит, не говоря уж о боге. И, в конце концов, все эти маленькие провинциалы хотят еще получить «венец жизни вечной»: к чему? ради чего? Дальше этого невозможно идти в отсутствии скромности. «Бессмертный» Петр! Кто вынес бы его!
Они отличаются честолюбием, заставляющим смеяться над ними: свои самые личные дела, свои глупости, печали и заботы они пережевывают так, как будто бы об этом обязана была заботиться и беспокоиться сама сущность вещей: они неустанно запутывают самого Бога в свое самомалейшее горе. А это постоянное панибратство самого дурного вкуса с Богом! Эта еврейская, и не только еврейская назойливость, сующаяся к Богу со свиным рылом!.. На востоке Азии живут маленькие, всеми презираемые языческие народы, у которых эти первые христиане могли бы научиться кое-чему существенному, а именно некоторой тактичности в благоговении. По свидетельству христианских миссионеров, эти народы вообще не позволяют себе произносить имя Божие. По-моему, это довольно деликатно; наверное, слишком деликатно не только для первых христиан. Чтобы почувствовать контраст, стоит только вспомнить Лютера, этого самого «красноречивого» и нескромного мужика во всей Германии, и его тон, особенно излюбленный им именно в его диалогах с Богом. Противоборство Лютера с посредниками Церкви – святыми, и в особенности борьба против «чертовой свиньи папы», несомненно, было, в сущности, сопротивлением неуча, раздраженного хорошим этикетом Церкви, тем этикетом благоговения иератического вкуса, который допускает во святая святых лишь более посвященных и более молчаливых и возбраняет вход туда неучам. Этим последним именно там, раз и навсегда, не дается слова – но Лютер, крестьянин, просто захотел иного, потому что так было бы для него недостаточно по-немецки: прежде всего он хотел разговаривать непосредственно, говорить самому, «без стеснения» разговаривать со своим Богом. Ну он это и сделал.
Как можно догадаться, аскетический идеал никогда и нигде не был школой хорошего вкуса и еще менее – школой хороших манер; в лучшем случае он был еще школою иератических манер: это потому, что в нем самом есть что-то смертельно враждебное всем хорошим манерам – недостаток меры, отвращение к мере, он сам ведь «non plus ultra»[64]64
«Высшее, непревзойденное» (лат.).
[Закрыть].
23
Аскетический идеал испортил не только здоровье и вкус, он испортил и еще кое-что в-третьих, в-четвертых, в-пятых, в-шестых – я остерегусь перечислять, что именно (и когда бы я кончил!). Я постараюсь осветить не то, что произвел этот идеал, а только то, что он означает, что он позволяет угадать, что таится в нем, за ним, под ним, чего он является лишь предварительным неясным выражением, перегруженным вопросительными знаками и недоумениями. И только ради этой цели не мог я освободить читателей от зрелища чудовищной колоссальности его действий, потому что мне хотелось бы подготовить их к последнему и самому ужасному виду, в котором представляется мне вопрос о значении этого идеала.
Что означает могущество этого идеала, чудовищная колоссальность его мощи? Почему получил он такое распространение? Почему не встретил более упорного сопротивления? Аскетический идеал выражает одну волю: но где же противоположная воля, в которой выразился бы противоположный идеал? Аскетический идеал обладает единою целью – цель эта достаточно общна для того, чтобы все другие интересы человеческого существования по сравнению с нею показались бы мелкими и узкими; он неумолимо истолковывает эпохи, народы, людей как средство для этой единой цели, он не допускает другого истолкования, другой цели, он отбрасывает, отрицает, утверждает, подтверждает только в смысле своего истолкования (и разве была когда-нибудь более до конца продуманная система истолкования?). Он не подчиняется никакой власти, он верит в свое преимущество перед всякою властью, в безусловную свою дистанцию по рангу от каждой власти, он верит, что нет на земле власти, которая бы не из него получила свой смысл, свое право на существование, свою ценность, как оружие для его цели, для единственной цели…
Где параллель этой замкнутой системы воли, цели и истолкования? Почему нет этой параллели?.. Где другая «единственная цель»? Но, скажут мне, она есть, она не только вела долгую и счастливую борьбу с этим идеалом, но и одержала уже победу над ним по всем существенным пунктам. Вся наша современная наука является, дескать, свидетельством этого, эта новейшая наука, которая, как настоящая философия действительности, очевидно, верит сама в себя, видимо, обладает волею, доверием к себе и недурно обходилась до сих пор без Бога, потустороннего мира и отрицающих добродетелей. На меня, однако же, не действует шумная болтовня агитаторов: эти трубачи действительности – плохие музыканты, их голоса раздаются не из глубины, это слышно достаточно явственно, из них не говорит бездна научной совести – ведь научная совесть в настоящее время действительно бездна, слово «наука» в устах таких трубачей попросту разврат, злоупотребление, бесстыдство. Справедливо как раз противоположное тому, что здесь утверждается: наука в настоящее время попросту совсем не имеет веры в себя, еще меньше можно говорить об ее идеале – и где в ней есть еще вообще страсть, любовь, огонь, страдание, там она не является противоположностью аскетического идеала, а его самою последнею и благороднейшей формой. Вам это странно?..
Есть ведь довольно много бравого и скромного рабочего люда и между современными учеными, которым нравится их уголок и которые именно потому выступают иногда с немного нескромным требованием, чтобы и вообще в настоящее время все были довольны, особенно в науке, – там, дескать, как раз можно сделать много полезного. Я не спорю; меньше всего хотелось бы мне испортить этим честным работникам их охоту трудиться в своем ремесле; потому что я радуюсь их работе. Но если в науке теперь ведется строгая работа и есть в ней довольные труженики, то этим ведь еще совсем не доказано, что наука как целое обладает в настоящее время целью, волею, идеалом, страстью великой веры. Как сказано, справедливо противоположное: где она не является новейшею формою проявления аскетического идеала (мы имеем здесь дело со слишком редкими, благородными, изысканными случаями, так что они не могут перегнуть нашего суждения в другую сторону), там наука дает в настоящее время прибежище всякого рода недовольству, неверию, гложущему червю, despec-tio sui[65]65
Презрению к самому себе (лат.).
[Закрыть], дурной совести – она сама беспокойство отсутствия идеалов, страдание от недостатка великой любви, неудовлетворенность недобровольною нетребовательностью. О, чего только не скрывает в настоящее время наука! Сколько она, по крайней мере, должна скрывать! Дельность наших лучших ученых, их безумное прилежание, их день и ночь дымящаяся голова, самое их ремесленное мастерство – как часто все это имеет свой истинный смысл лишь в том, чтобы не допустить самого себя увидеть что-нибудь!
Наука как средство самоодурманивания. Известно ли вам это?.. Иногда ученых можно невиннейшим словом уязвить до глубины души – каждому, кто имел дело с ними, доводилось замечать это, – можно ожесточить против себя своих ученых друзей в момент, когда полагаешь особенно почтить их, они из себя выходят именно потому, что ты был настолько груб, что угадал, с кем, собственно, имеешь дело. Это страждущие, которые сами себе не хотят признаться в том, что они собою представляют, одурманенные и лишившиеся сознания, боящиеся лишь одного: как бы не прийти в сознание…
24
А теперь взгляните, напротив, на те более редкие случаи, о которых я говорил, на последних идеалистов между теперешними философами и учеными: может быть, в них-то и можно найти искомых противников аскетического идеала, его противников? В самом деле, они верят, что они таковы, эти неверующие (все ведь они неверующие); именно в том, кажется, их последняя вера, что они считают себя противниками этого идеала, так серьезны они в этом пункте, такими страстными становятся именно здесь их слово, их жест, но можно ли на этом лишь основании признать истинным то, во что они верят? Мы, познающие, недоверчивы как раз по отношению ко всякого рода верующим; наше недоверие понемногу приучило нас делать выводы, обратные тем, которые делались прежде: именно во всех тех случаях, где на передний план чересчур выступает сила веры, мы привыкли заключать об известной слабости доказательств и даже о невероятности предмета веры.
Мы тоже не отрицаем, что вера «делает блаженным». Но именно поэтому мы и отрицаем, что вера что-нибудь доказывает, – сильная вера, делающая блаженным, внушает подозрение к тому, во что человек верит, она обосновывает не истинность, а известную вероятность: иллюзию. Как же обстоит дело с нашим случаем? Эти нынешние отрицатели, стоящие в стороне, безусловные в одном – в притязании на интеллектуальную опрятность, эти сильные, строгие, воздержанные, героические умы, составляющие честь нашего времени, все эти бледные атеисты, антихристиане, имморалисты, нигилисты, скептики, чахоточные духа (чахоточными в каком-нибудь смысле являются они все) – эти последние идеалисты познания, в которых только в настоящее время и живет, и воплотилась научная совесть, – они и вправду считают себя отрешившимися до последней возможности от аскетического идеала, они, эти «свободные, очень свободные умы». И, однако же, я выдам им один секрет, которого они сами не могут заметить, потому что они стоят слишком близко к себе: именно этот идеал является также и их идеалом, в настоящее время они сами представляют его, они, и, может быть, никто больше, они сами – его одухотвореннейшее порождение, самый передовой авангард воинов и разведчиков, самая нежная, соблазнительнейшая, неуловимейшая форма его искушения.
Если я в чем-нибудь являюсь разгадчиком загадок, так это именно в этом пункте… Они далеко еще не свободные умы: потому что они верят в истину… Когда христианские крестоносцы натолкнулись на непобедимый орден ассасинов, орден свободных умов par excellence, низшие чины которого жили в таком послушании, какого не достигалось никогда ни в одном монашеском ордене, то каким-то путем им удалось получить указание и на тот символ и отличительное слово, которое как secretum, как тайну, знали лишь высшие чины: «Нет ничего истинного, все позволено…» Так вот, это была свобода духа, в этом был отказ верить даже истине… Случалось ли уже когда-нибудь заблудиться и наткнуться на это правило и на лабиринт выводов из него какому-нибудь европейскому, христианскому вольнодумцу? Знает ли он по своему опыту Минотавра этой пещеры?.. Сомневаюсь, более того, знаю, что нет: для этих безусловных в одном, для этих, так называемых свободных, умов нет ничего более чуждого, чем свобода и освобождение от оков в этом смысле, и ни в каком отношении они крепче не связаны, как именно в вере в истину; тут они связаны крепко и безусловно, как никто другой. Все это я знаю, может быть, из-за слишком маленькой от них дистанции: эта достойная уважения философская воздержанность, этот стоицизм интеллекта, который, в конце концов, столь же строго запрещает себе отрицание, как и утверждение, это желание остановиться перед фактическим, перед factum brutum[66]66
Грубым фактом (лат.).
[Закрыть], этот фатализм маленьких фактов – «petits faits» (или, как я его называю, се petit faitalisme[67]67
Игра слов: этот маленький фактализм (фр.).
[Закрыть]), в котором французская наука ищет в настоящее время своего рода морального преимущества перед немецкой, этот отказ от истолкования вообще (от насилия над фактами, подтасовывания, сокращения, пропускания, раздувания, измышления, перевирания и всего остального, что принадлежит к сущности всякого истолкования), все это, вообще говоря, выражает точно так же аскетизм добродетели, как и всякое отрицание чувственности (это и есть, в сущности, только modus такого отрицания). Но то, что принуждает к нему, эта безусловная воля к истине, есть сама вера в аскетический идеал, хотя бы и в виде бессознательного императива, на этот счет не нужно обманываться; это вера в метафизическую ценность, в безотносительную ценность истины, в том виде, в каком за нее ручается только аскетический идеал (с которым она теснейшим образом связана).
Строго говоря, нет науки «без предпосылок», такая наука немыслима, самая мысль о ней паралогична: всегда должна иметься философия, «вера», из которой бы наука получила свое направление, смысл, границу, метод, право на существование. (Кто представляет себе это наоборот, кто, например, собирается поставить философию «на строго научную почву», тому нужно сначала для этого поставить на голову не только философию, но и саму истину: ужаснейшее нарушение приличий, какое только можно себе представить по отношению к двум столь почтенным особам женского пола!) Да, несомненно, здесь я даю слово своей «Веселой науке» (см. ее книгу пятую): «…правдивый в том дерзновенном и последнем смысле, какой предполагается верою в науку, утверждает тем самым иной мир, а не мир жизни, природы и истории, а насколько он утверждает этот «иной мир», не отрицает ли он тем самым его противоположность, этот мир, наш мир?.. Наша вера в науку покоится все-таки еще на метафизической вере – и мы, познающие нынешнего времени, мы, безбожники и антиметафизики, мы тоже зажигаем свой огонь с того пожара, который был зажжен тысячелетнею старою верою, христианскою верою, бывшею также верою и Платона, верою в то, что Бог есть истина и истина Божественна… Но что, если именно это как раз и становится все более неправдоподобным, если уже не находится ничего, что было бы Божественным, разве что заблуждение, слепота, ложь – что, если сам Бог оказывается нашею самою продолжительною ложью?..» На этом месте нужно остановиться и как следует подумать. Сама наука теперь уже нуждается в оправдании (чем еще не сказано, что таковое для нее есть). Обратитесь по этому вопросу к старейшим и новейшим философам: у всех у них отсутствует осознание, насколько нуждается в оправдании само стремление воли к истине: здесь пробел в каждой философии. Отчего это происходит? Оттого что до сих пор над всякою философией господствовал аскетический идеал, оттого что истина сама полагалась бытием, богом, высшею инстанцией, потому что в истине не смели видеть проблему. Понятно ли это «смели»? С того момента, как отрицается вера в бога аскетического идеала, возникает и новая проблема – проблема о ценности истины. Стремление воли к истине нуждается в критике. Этим мы определяем нашу собственную задачу как опыт постановки вопроса о ценности истины… (Кому это кажется сказанным слишком вкратце, тому мы посоветуем прочесть отдел «Веселой науки», носящий заглавие: «В какой мере и мы еще благочестивы», а лучше всего всю пятую книгу названного сочинения, а также и предисловие к «Утренней заре».)
25
Нет, не подходите ко мне с наукой, когда я ищу естественного антагониста аскетического идеала, когда я спрашиваю: «Где противоположная воля, в которой выражается противоположный, враждебный ему идеал?» Для этого наука далеко не достаточно стоит на своих собственных ногах, нуждаясь в идеале ценности, в создающей ценности силе, на службе у которой она получает право верить в себя, – сама она никогда не созидает ценностей. Ее отношение к аскетическому идеалу само по себе вовсе не антагонистично; в сущности, она даже скорее представляет движущую силу его внутреннего формирования. Ее сопротивление и борьба направлены, как это обнаруживается при более тонком исследовании, вовсе не против самого идеала, а против его внешних проявлений, одежды, маски, против его временного отвердения, одеревенения, догматизирования – она снова освобождает его живую силу, отрицая в нем все эзотерическое. И наука, и аскетический идеал стоят ведь на одной почве – я это уже дал понять раньше, – именно на почве одинаково преувеличенной оценки истины (правильнее сказать, на почве одинаковой веры в неоценимость, некритикуемость истины), и, значит, необходимо являются союзниками друг другу, так что если предположить, что против них нужно бороться, то и борьбу против них придется вести одновременно, выдвинув сомнения сразу против них обоих. Определение ценности аскетического идеала неминуемо влечет за собою и определение ценности науки: к этому следует подготовиться заблаговременно!
(Искусство, скажу я, забегая вперед, потому что когда-нибудь я остановлюсь на этом подробнее, – искусство, в котором получает свое освящение именно ложь и воля к обману (создание иллюзии), имея на своей стороне чистую совесть – в гораздо большей степени, чем наука, – может быть принципиально противопоставлено аскетическому идеалу: это инстинктивно чуял Платон, этот величайший враг искусства, какого только до сих пор создала Европа. Платон против Гомера: тут перед нами весь настоящий антагонизм – с одной стороны, «потусторонний» лучшей воли, великий оклеветатель жизни, с другой – ее невольный обожествитель, золотая природа. Поэтому барщина художника на службе у аскетического идеала есть самое подлинное развращение художника, какое только возможно, и, к сожалению, одно из самых обычнейших: потому что нет ничего более поддающегося развращению, чем художник.)
И с физиологической точки зрения наука покоится на той же почве, как и аскетический идеал: в обоих случаях предпосылкой является известное обеднение жизни – охлажденные аффекты, замедленный темп, диалектика, ставшая на место инстинкта, отпечаток серьезности в выражении лица и в жестах (серьезность является непреложнейшим признаком затрудненного обмена веществ, растущей борьбы функций жизни). Приглядитесь к эпохам жизни народа, когда на первый план выдвигается ученый: это эпохи утомления, часто вечера, упадка – кипучая сила отлетела, исчезли уверенность в жизни, уверенность в будущем. Перевешивающее число мандаринов никогда не означает ничего хорошего, точно так же как и торжество демократии, третейских судов вместо войн, равноправия женщин, религии сострадания и всех остальных симптомов упадка жизни. (Наука, понятая как проблема; что означает наука? Ср. об этом предисловие к «Рождению трагедии».)
Нет – раскройте только глаза, – эта «современная наука» до сих пор еще является наилучшей союзницей аскетического идеала, и именно потому, что это наиболее бессознательная, наименее добровольная, наиболее тайная, наиболее подземная союзница! До сих пор они играли одну игру, эти «нищие духом» и научные противоборцы этого идеала (к слову, не думайте, что они являются противоположностью первых, хотя бы в смысле богатых духом: они не таковы, я их назвал чахоточными духа). Пресловутые победы последних – действительно победы, но только над чем? Аскетический идеал совсем не был побежден в них, наоборот, ими он был усилен, был сделан неуловимее, духовнее, соблазнительнее, именно благодаря тому, что наукою были беспощадно сломаны и снесены внешние пристройки, делавшие вид его более грубым. Неужели в самом деле можно считать поражение теологической астрономии поражением этого идеала?.. Разве благодаря тому, что с тех пор существование человека стало выделяться в видимом порядке вещей чем-то еще более произвольным, еще более в уголке стоящим, чем-то таким, чего могло бы и не быть, разве ввиду этого человек стал менее нуждаться в загробном мире для решения загадки своего бытия? Разве не прогрессировало неудержимо со времен Коперника самоумаление человека, его воля к самоумалению? Увы, исчезла вера в его достоинство, в его единственность, в его незаменимость, в последовательность рангов живых существ – он стал животным, животным без всяких оговорок, он, в своей прежней вере бывший почти Богом («чадом Божиим», «богочеловеком»)… Со времени Коперника человек, по-видимому, попал на наклонную плоскость – он скатывается все быстрее с центрального пункта – куда? В Ничто? В «сверлящее сознание своей ничтожности»?.. Ну что ж! Это будто бы прямая дорога к старому идеалу…
Всякая наука (а не только одна астрономия, об унижающем и смиряющем влиянии которой Кант сделал замечательное признание: «она уничтожает мою важность…»), всякая наука, как естественная, так и неестественная – так называю я самокритику познания, – в настоящее время стремится выгнать из человека его до сих пор у него имевшееся уважение к самому себе, как будто оно не представляло ничего, кроме странного самомнения; можно было бы даже сказать, что она свою собственную гордость, свою собственную резкую и грубую форму стоической атараксии (невозмутимости) полагает в том, чтобы поддержать в человеке это с таким трудом достигнутое самопрезрение как последнее, самое серьезное притязание его на уважение перед самим собою (и в самом деле, с полным правом: потому что презирающий – это все-таки тот, кто «не разучился уважать…»).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































