Текст книги "Генеалогия морали. Казус Вагнер"
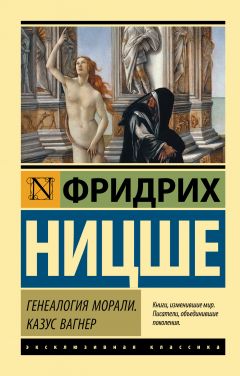
Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
15
Сделаем выводы. Обе эти противоположные ценности – «хорошо и худо», «добро и зло» – в течение тысячелетий вели долгую страшную борьбу на земле; и хотя несомненно, что вторая оценка давно уже получила преобладание, но и теперь еще нет недостатка в местах, где борьба продолжается еще с неопределенным исходом. Можно было бы даже сказать, что борьба эта поднимается все выше и тем самым становится все глубже, все духовнее: так что в настоящее время, может быть, нет более решительного признака «высшей натуры», более духовной натуры, как быть в разладе в этом отношении и представлять арену борьбы этих противоположностей.
Символ этой борьбы, написанный чертами, которые, переживя все поколения людские, читаются до настоящего времени, гласит: «Рим против Иудеи, Иудея против Рима». Не бывало до сих пор события более важного, чем эта борьба, эта постановка вопроса, это смертельное противоречие. В еврее Рим почувствовал как бы саму противоестественность, своего чудовищного антипода. В Риме еврея считали «преисполненным ненавистью ко всему роду человеческому», и с полным правом, поскольку можно с правом соединять благо и будущность рода человеческого с безусловным господством аристократических достоинств, римских достоинств.
Что же чувствовали со своей стороны евреи к Риму? Об этом можно догадаться на основании тысячи признаков; но достаточно вспомнить только Апокалипсис Иоанна, это необузданнейшее из всех произведений, вдохновленных местью. (Не следует, однако, недооценивать глубокую последовательность христианского инстинкта, когда он приписал эту книгу, полную ненависти, ученику любви, тому самому, которому он присвоил четвертое, влюбленно-мечтательное Евангелие: в этом содержится частица правды, сколько бы ни потребовалось для этой цели литературного фальшивомонетничества.) Римляне были ведь сильны и благородны в такой степени, как того никогда не бывало и даже во сне не грезилось на земле. Всякий их памятник, всякая надпись приводит в восхищение, если только удастся угадать, что там пишут. Евреи, напротив, были тем священническим народом злопамятства и жажды мести (ressentiment) par excellence[16]16
По преимуществу (лат.).
[Закрыть], которому свойственна исключительная народно-нравственная гениальность: стоит только сравнить родственные по дарованиям народы, например китайцев или немцев с евреями, чтобы почувствовать, что первого и что пятого разряда.
Кто же победил до поры до времени, Рим или Иудея? Но ведь тут не может быть и сомнения: стоит только вспомнить, перед кем склоняются даже в самом Риме как перед олицетворением всех высших достоинств – и не только в Риме, но почти на половине земного шара, всюду, где человек стал или желает сделаться ручным, – перед Иисусом из Назарета, рыбаком Петром, ковровщиком Павлом и матерью упомянутого Иисуса по имени Мария. Это крайне замечательно: без всякого сомнения, Рим побежден. Впрочем, в эпоху Возрождения произошло до жути блестящее пробуждение классического идеала, благородного способа оценки всех вещей: сам Рим зашевелился, как пробужденный мнимоумерший, под давлением нового, надстроенного над ним объиудеившегося Рима, имевшего вид вселенской синагоги и называемого «церковью», но тотчас восторжествовала снова Иудея, благодаря тому глубоко плебейскому (немецкому и английскому) движению ressentiment, называемому Реформацией, считая при этом и то, что должно было последовать за нею, – восстановление Церкви, восстановление и могильного покоя классического Рима.
Даже еще более решительно и в более глубоком смысле, чем тогда, Иудея победила классический идеал еще раз с Французской революцией: последняя политическая знать, существовавшая в Европе, – знать семнадцатого и восемнадцатого французских столетий – пала под напором народных инстинктов ressentiment. Никогда на земле не было большего ликования, более шумного воодушевления! При этом случилось, правда, нечто самое чудовищно неожиданное: перед глазами и совестью человечества выступил сам воплощенный античный идеал в неслыханном великолепии. Еще раз, сильнее, проще, глубже, чем когда-либо, раздался в ответ на старый лозунг лжи ressentiment о праве большинства, в ответ на волю к падению, принижению, уравнению, упадку и закату человека, – ужасный и чарующий противоположный лозунг права меньшинства! Как последнее указание другого пути явился Наполеон, этот единственный и позднейше рожденный человек из живших во все времена, и в нем воплотилась проблема благородного идеала самого в себе: достойно размышления, какова эта проблема – Наполеон, этот синтез бесчеловечия и сверхчеловечества…
16
Прошло ли это? Было ли это величайшее противоречие идеалов отложено тем самым навсегда, ad acta?[17]17
Здесь: в долгий ящик (лат.).
[Закрыть] Или только отсрочено, надолго отсрочено? Не должен ли когда-нибудь снова вспыхнуть гораздо более ужасный, долее подготовлявшийся старый пожар? Более того: не следует ли желать этого всеми силами? Даже хотеть? Даже содействовать?.. Кто начнет на этом месте, подобно моим читателям, задумываться, размышлять дальше, тот едва ли скоро покончит с этим. Это достаточное основание для меня самого покончить с этим, предполагая, что давно уже достаточно выяснилось, чего я хочу, именно что хочу я сказать тем опасным лозунгом, который написан на моей последней книге: «По ту сторону добра и зла». Это, по меньшей мере, не значит «по ту сторону хорошего и дурного».
Трактат второй
«Грех», «нечистая совесть» и родственные понятия
1
Воспитать животное, имеющее право обещать, – не является ли именно это той парадоксальной задачей, которую в отношении к человеку поставила себе природа? Не является ли это настоящей проблемой человека?.. Что проблема эта до высокой степени разрешена, кажется тем удивительнее тому, кто в достаточной степени умеет оценить противоположную силу – силу забывчивости. Забывчивость не является простой vis inertiae, как это кажется поверхностным наблюдателям, напротив, это активная, в строгом смысле положительная, сдерживающая способность, которой надо приписать то обстоятельство, что до сознания нашего точно так же не доходит в состоянии переваривания все то, что только пережито, узнано, воспринято нами, как и разносторонний процесс, путем которого происходит питание нашего тела, так называемое усвоение.
Закрыть время от времени двери и окна сознания; освободить от шума и борьбы, с которыми имеет дело низший мир служебных органов; немного тишины, немного tabula rasa[18]18
Чистая доска (лат.) – нечто нетронутое, свободное от всяких влияний.
[Закрыть] сознания, чтобы очистилось снова место для нового, прежде всего для таких благороднейших функций и факторов, как управление, предвидение, предопределение (так как организм наш устроен олигархически), – такова польза активной, как сказано, забывчивости, которая подобна привратнице, охранительнице душевного порядка, покоя, этикета. Поэтому можно сразу догадаться, до какой степени без забывчивости было бы невозможно счастье, радость, надежда, гордость, настоящее. Человек, в котором поврежден и уничтожен этот сдерживающий аппарат, похож (и не только похож) на страдающего несварением – он не может ни с чем справиться…
Именно это по необходимости забывчивое животное, у которого забвение представляет силу, форму мощного здоровья, воспитало в себе противоположную способность, память, при помощи которой, в известных случаях, устраняется забывчивость, – для тех именно случаев, когда должно что-нибудь пообещать: таким образом, это отнюдь не просто пассивная невозможность отделаться от запечатлевшегося однажды впечатления, не только несварение данного однажды слова, с которым нельзя справиться, но активное нежелание отделаться, непрерывное желание того, чего однажды пожелала настоящая волевая память. Таким образом, пускай между первоначальным «я хочу», «я сделаю» и настоящим разряжением воли, ее актом вдвинется целый мир новых чуждых вещей, обстоятельств, даже важных актов, вся эта длинная волевая цепь не лопнет. Но что же все это предполагает?! До какой степени человек, чтобы в такой мере располагать будущим, должен был бы первоначально научиться отличать необходимое от случайных событий, развить каузальное мышление, видеть и предусматривать отдаленное как настоящее, предусматривать, что служит целью и что средством, браться с уверенностью, вообще уметь считать и рассчитывать – до какой степени для этого сам человек должен был бы сделаться предварительно поддающимся учету, аккуратным, связанным необходимостью и для своего собственного представления, чтобы, наконец, быть в состоянии, как это делает обещающий, ручаться за себя как за будущность.
2
Это и есть длинная история происхождения ответственности. Задача воспитать животное, которое может обещать, заключает в себе, как мы уже поняли, в качестве условия и подготовки ближайшую задачу – сделать человека предварительно до известной степени нужным, однородным, равным между равными, правомерным и, следовательно, поддающимся учету. Огромная работа над тем, что мною названо «нравственной пристойностью» («Sittlichkeit der Sitte») (см. «Утренняя заря»), – работа человека над самим собой в течение продолжительного существования рода человеческого, вся его доисторическая работа – получает здесь свой смысл, свое великое оправдание, сколько бы в ней ни заключалось черствости, тирании, упорства и идиотизма; с помощью «нравственной пристойности» и социальной смирительной рубахи человек был действительно сделан поддающимся учету.
Если же мы, напротив, переместимся в конец этого огромного процесса, туда, где дерево приносит наконец свои плоды, где общественность и нравственная пристойность обнаруживают наконец то, для чего они служили только средством, то наиболее зрелым плодом на дереве предстанет суверенная личность, равная только себе, свободная снова от нравственной благопристойности, автономная, сверхнравственная личность (потому что автономность и нравственность – обоюдно исключающиеся понятия). Одним словом, перед нами предстанет человек собственной независимой долгой воли, который смеет обещать. В нем покоится гордое, трепещущее во всех мускулах сознание того, что наконец достигнуто и воплощено в нем: настоящее сознание силы и свободы, чувство совершенства человека вообще. Это освободившийся человек, действительно имеющий право обещать, это господин свободной воли, это суверен – как же ему не знать, сколько преимущества он имеет перед всем тем, что не может обещать и за себя ручаться, сколько он возбуждает доверия, сколько страха, сколько почтения? Все это он «заслуживает». Как же ему не знать, что вместе с этой властью над собой ему с необходимостью дана и власть над обстоятельствами, над природой и над всеми слабовольными и ненадежными тварями? Свободный человек, обладатель долгой несокрушимой воли, в этом владении своем имеет и свое мерило ценности: он уважает или презирает, исходя от себя к другим. С той же необходимостью, с какой он уважает равных себе, сильных и надежных (тех, кто смеет обещать), то есть всякого, кто обещает, как суверен, с трудом, редко, медленно, который скуп на доверие, который отличает того, кому доверяет, кто дает слово как нечто, на что можно положиться, так как он сознает себя достаточно сильным, чтобы держать его вопреки всем случайностям, вопреки даже судьбе, – с такой же необходимостью у него наготове толчок ногой для поджарых борзых собак, обещающих, не имея на то права, и плеть для лжеца, нарушающего свое слово уже в то мгновение, когда оно еще на устах.
Гордое сознание чрезвычайной привилегии ответственности, сознание этой редкой свободы, этой власти над собой и судьбою проняло его до самой глубины и стало инстинктом, преобладающим инстинктом. Как назовет он этот инстинкт, предполагая, что ему нужно для себя слово для этого? В этом нет сомнения: этот суверенный человек называет его своей совестью…
3
Своей совестью?.. Наперед можно угадать, что понятие «совесть», которое мы встречаем здесь в его высшей, почти странной форме, имело уже позади долгую историю и изменение формы. Уметь ручаться за себя и с гордостью иметь, следовательно, право на самоутверждение – это, как сказано, спелый, но и поздний плод: как долго плод этот должен был твердым и кислым висеть на дереве! А еще более продолжительное время такого плода не было вовсе, никто не смел бы обещать его, хотя все на дереве было подготовлено и рост шел именно в этот плод!
«Как создать человеку-зверю память? Каким образом в этот частию тупой, частию слабый мимолетный разум, в эту воплощенную забывчивость внедрить нечто таким образом, чтобы оно сохранилось?..» Эта старая первобытная проблема, можно думать, была разрешена не особенно нежными ответами и средствами; может быть, во всей первобытной истории человечества не было ничего более ужасного и более жуткого, чем его мнемотехника.
«Вжигать, чтобы сохранилось в памяти: только то, что не перестает болеть, сохраняется в памяти» – такова основа древнейшей (к сожалению, и продолжительнейшей) психологии на земле. Можно даже сказать, что повсюду, где в настоящее время еще на земле существует торжественность, серьезность, тайна, мрачные цвета в жизни человека и народа, действует еще что-либо из того ужаса, с которым некогда всюду на земле обещали, ручались, клялись. Когда мы становимся серьезны, на нас веет, в нас поднимается прошлое, продолжительнейшее, глубочайшее, суровейшее прошлое. Никогда не обходилось без крови, мучений, жертв, когда человек считал нужным создать память. Ужаснейшие жертвы и залоги (куда относятся жертвы первенцев), отвратительнейшие изуродования (например, кастрация), самые жестокие ритуальные формы всех культов (а все религии в глубочайшей основе своей – системы жестокостей) – все это коренится в том инстинкте, который в боли находит лучшее вспомогательное средство мнемоники.
К этому в известном смысле относится весь аскетизм: несколько идей необходимо сделать неизгладимыми, постоянными, незабвенными, «неподвижными», в целях гипнотизации всей нервной и интеллектуальной системы посредством этих «неподвижных идей», и аскетические приемы и образ жизни служат к тому, чтобы освободить эти идеи из общей связи с другими, чтобы сделать их «неизгладимыми».
Чем менее человечество было «в памяти», тем ужаснее бывало всегда зрелище его обычаев. Жестокость карательных законов в особенности является мерилом того, сколько необходимо было усилий, чтобы победить забывчивость и сохранить в постоянной памяти у этих рабов минуты эффекта и страсти несколько примитивных требований социального сожительства. Мы, немцы, конечно, не считаем себя особенно жестоким и бессердечным народом, а тем более легкомысленным и беззаботным. А между тем стоит только рассмотреть наши старые уложения о наказаниях, чтобы убедиться, сколько потребовалось на земле усилий для того, чтобы выдрессировать «народ мыслителей». (Я хочу сказать, народ в Европе, отличающийся и в настоящее время наибольшей надежностью, серьезностью, безвкусием и деловитостью, который, обладая этими свойствами, претендует воспитать для Европы все виды мандаринов.) Эти немцы развили у себя память ужасными средствами, чтобы получить власть над своими основными плебейскими инстинктами и своей грубой неуклюжестью. Стоит вспомнить только старые немецкие наказания, например, наказание посредством побивания камнями (уже в былине жернов падает на голову виновного), колесование (собственное изобретение и специальность немецкого гения в области наказаний!), разрывание или растаптывание лошадьми (четвертование), варка преступника в масле или в вине (еще в четырнадцатом и пятнадцатом столетиях), излюбленное сдирание кожи («вырезывание ремней»), вырезывание мяса из груди; преступника обмазывали также медом и предоставляли мухам под палящим солнцем.
Посредством таких образов и процессов сохраняют в конце концов в памяти пять-шесть «больше не буду», ссылаясь на которые, и давалось обещание, чтобы жить, пользуясь преимуществами общественности. И действительно, с помощью такого рода памяти в конце концов «образумились».
Ах, рассудок, серьезность, господство над аффектами, вся эта мрачная штука, называемая размышлением, все эти преимущества и гордость человека: как дорого пришлось за них платить! Сколько крови и жестокости положено в основу всех «хороших вещей»!..
4
Каким же образом явилась на свет другая «мрачная вещь» – сознание вины, «нечистая совесть»? И тут мы возвращаемся снова к нашим генеалогам морали. Снова говорю – или я не говорил еще этого? – они никуда не годятся. Исключительно собственный, только «современный», пяти пядей длины опыт, ни малейшего знания, никакого желания знать прошлое, еще менее того исторического чутья, именно здесь необходимого «второго зрения» – и тем не менее они берутся писать историю морали! Это, разумеется, должно по меньшей мере повести к результатам, которые не имеют и отдаленнейшего отношения к истине. Грезилось ли, например, этим генеалогам морали хотя бы то, что основное нравственное понятие «долг» ведет начало от весьма материального понятия «долги»? Или что наказание как возмездие развилось вполне независимо от всякой предпосылки относительно свободы или несвободы воли? До такой степени независимо, что, напротив, требуется всегда предварительно высокая степень человечности, чтобы животное «человек» начало различать гораздо более примитивные понятия – «преднамеренно», «по оплошности», «случайно», «в полном рассудке» – и противоположные и принимать их во внимание при определении наказания.
Мысль, в настоящее время с виду столь простая, естественная, неизбежная, которая служила объяснением того, как вообще возникло на земле чувство справедливости, – «преступник заслуживает наказания, потому что он мог бы поступить иначе», – на самом деле представляет весьма поздно достигнутую, даже утонченную форму человеческого суждения и заключения. Тот, кто относит это к первобытным временам, жестоко заблуждается в отношении психологии древнейшего человечества.
На протяжении значительной части истории человечества наказывали отнюдь не потому, что считали преступника ответственным за его поступок, следовательно, не исходя из предпосылки, что только виновный заслуживает наказания. Напротив, дело происходило так, как теперь еще родители наказывают детей, сердясь за понесенный убыток и срывая злобу на виновнике, но гнев этот умерялся и сдерживался идеей, что всякий ущерб в чем-либо имеет свой эквивалент и действительно может учитываться хотя бы в виде боли, причиненной нанесшему этот ущерб.
Откуда получила господство эта первобытная, глубоко укоренившаяся и в настоящее время, может быть, неискоренимая идея – идея эквивалентности ущерба и боли? Я уже проговорился относительно этого: источник ее – в договорных отношениях между кредитором и должником, которые так же стары, как и «субъекты права» вообще, и могут быть, в свою очередь, сведены к основным формам купли, продажи, мены, торговли.
5
Проявление этих договорных отношений, как это можно было ожидать нa основании предварительных замечаний, заставляет относиться несколько подозрительно и враждебно к создавшему и выработавшему их древнейшему человечеству. Здесь именно имеет место обещание; здесь именно речь идет о том, чтобы выработать память у того, кто обещает; именно здесь, как это можно подозревать, таится источник всего сурового, жестокого, мучительного. Должник, чтобы внушить доверие к своему обещанию уплаты, чтобы дать залог серьезности и святости своего обещания, чтобы запечатлеть в собственной совести уплату как долг, обязанность, в силу договора дает залогом кредитору на случай неуплаты что-либо, чем он еще «обладает», над чем еще имеет власть, – свое тело, или свою жену, или свою свободу, или и жизнь. (При некоторых религиозных предпосылках должник ручается даже своим блаженством, спасением души, наконец, даже могильным покоем. Так, в Египте, где труп должника не имел и в могиле покоя от кредитора, египтяне придавали значение именно этому покою.)
Кредитор мог подвергать тело должника всевозможному позору и пыткам, например, срезать с него столько, сколько соответствовало, по-видимому, размеру долга. С этой точки зрения в древности всюду существовали ужасающие по выработанности мельчайших подробностей оценки, правовые оценки отдельных членов и частей тела.
Я считаю уже шагом вперед, доказательством более свободного, широкого, более римского понимания права, когда законодательство двенадцати таблиц определило, что безразлично, много или мало будут резать в таких случаях кредиторы: «si plus minusve secuerunt, ne fraude esto»[19]19
«Да не будет поставлено в вину, отрежут ли они больше или меньше» (лат.).
[Закрыть]. Уясним себе логику всей этой формы уравнения, она довольно непонятна. Эквивалентность создается благодаря тому, что вместо выгоды, непосредственно соответствующей ущербу (то есть вместо возмещения золотом, землею, владением какого-либо рода), кредитору доставляется в виде уплаты известного рода чувство удовольствия – удовольствия иметь право безудержно проявить свою власть над бессильным, сладострастие «de faire le mal pour le plaisir de le faire»[20]20
«Делать зло из удовольствия его делать» (фр.).
[Закрыть], наслаждение насилия. Наслаждение это ценится тем выше, чем ниже положение кредитора в общественном порядке, и может легко казаться ему лакомым куском, предвкушением более высокого положения.
Посредством «наказания» должника кредитор получает участие в правах господина: наконец, и он добился возвышающего чувства возможности презирать и дурно и жестоко обращаться с каким-либо существом как с «ниже его стоящим» – или, по крайней мере, если самая карательная власть, исполнение наказания уже перешло к «властям», видеть, как его презирают и как с ним обращаются. Расплата, следовательно, состоит в разрешении и праве на жестокость.
6
Таким образом, мир нравственных понятий – «долг», «совесть», «обязанность», «священность обязанности» – имеет свой источник в этой сфере, в долговом праве; корни его, как корни всего великого на земле, основательно и долгое время орошались кровью. И разве нельзя утверждать, что этот мир никогда, в сущности, вполне не терял известного запаха крови и пыток? (Не терял даже у старого Канта: категорический императив пахнет жестокостью…) Здесь впервые произошло то жуткое и, может быть, неразрушимое сцепление идей – «долг и страдание». Спрашивается снова: каким образом страдание может быть уплатой «долгов»? Оно является таковой уплатой постольку, поскольку причинение страдания доставляло высшую степень удовольствия, поскольку пострадавший в возмещение за убытки, считая в том числе и неудовольствие по поводу ущерба, получал наслаждение причинить страдание, – настоящее торжество, нечто, что, как сказано, было тем ценнее, чем более это противоречило рангу и общественному положению кредитора. Это я высказываю как предположение, потому что трудно разобрать основы таких скрытых вещей, не говоря уж о том, что это мучительно. Исследование скорее затуманивается, чем облегчается неуклюжим введением сюда понятия мести. (Ведь сама месть приводит к подобной же проблеме: «Каким образом причинение страдания может служить удовлетворением?»)
Мне кажется, что деликатность, а еще более лицемерие не позволяет ручным домашним животным (хочу сказать – современным людям, нам) представить себе во всей силе, каким празднеством, какой радостью древнейшего человека была жестокость, до какой степени эта жестокость входила как составная часть почти в каждое их развлечение. С другой стороны, как наивна, как невинна их потребность в жестокости, до какой степени эта потребность в качестве нормального свойства проявляется в виде «бескорыстной злости» (или, говоря словами Спинозы, sympathia malevolens), вместе с тем как нечто такое, что от всего сердца дозволяется совестью!
Более наблюдательный взгляд, может быть, и в настоящее время подметил бы достаточно черт этой древнейшей и наиболее основной праздничной радости человека; в «По ту сторону добра и зла» (а еще раньше в «Утренней заре») я осторожно указывал уже на все возрастающую одухотворенность и «обожествление» жестокости, которая проходит на протяжении всей истории высшей культуры (и, строго говоря, даже составляет ее). Во всяком случае, недавно еще нельзя было бы себе представить государевой свадьбы и народных торжеств высшего стиля без казней, пыток или autodafé, а также нельзя было бы себе представить знатного дома без существ, на которых можно было без размышлений срывать свою злобу и позволять себе жестокие шутки. (Вспомните, например, Дон Кихота при дворе герцогини: мы в настоящее время читаем всего «Дон Кихота» с горечью, нам это почти мучительно, и в этом отношении мы показались бы очень странными и непонятными его автору и его современникам – они читали это со спокойнейшей совестью и как самую веселую из книг и умирали со смеху.)
Видеть страдания доставляет наслаждение, причинять их – еще большее. Это жестокое правило, но старое, могучее, человеческое, слишком человеческое основное правило, под которым, впрочем, может быть, подписались бы уже и обезьяны: потому что говорят, что в измышлении жестоких забав они уже в значительной степени предвещают появление человека, как бы дают репетицию. Без жестокости не может быть торжества: это видно из древнейшей, наиболее продолжительной истории человечества – и в самом наказании так много торжественного!
7
Этими мыслями, между прочим, я вовсе не хочу лить воду нашим пессимистам на их испорченные и трескучие мельницы пресыщения жизнью. Напротив, я утверждаю, что в те времена, когда человечество еще не стыдилось своей жестокости, жизнь на земле была веселее, чем теперь, когда существуют пессимисты. Небо над человеком становилось все мрачнее в связи с тем, как человек все более стыдился человека. Усталый взгляд пессимизма, недоверие к загадке жизни, ледяное «нет» отвращения к жизни – это не признаки злейшей эпохи рода человеческого; напротив, они появляются на свете как болотные растения, что они и представляют собой на самом деле, когда возникает болото, к которому они принадлежат, – я хочу сказать, когда появляется болезненная изнеженность и морализирование, благодаря чему животное «человек» научилось, наконец, стыдиться всех своих инстинктов. Стремясь в «ангелы» (чтобы не выразиться грубее), человек приобрел себе испорченный желудок и обложенный язык, благодаря чему ему не только опротивела радость и невинность животного, но и сама жизнь утратила вкус: так что он сам перед собой затыкает нос и, хуля, составляет с папой Иннокентием Третьим список сквернот своих. («Нечистое зачатие, отвратительное питание во чреве матери, мерзость вещества, из которого развивается человек, отвратительная вонь, выделения мокроты, мочи и кала».) Теперь, когда страданию приходится всегда маршировать первому среди аргументов против существования, в качестве серьезнейшего вопросительного знака было бы полезно вспомнить о тех временах, когда судили наоборот, потому что не желали отказаться от причинения страдания и в этом видели главное очарование, главную приманку жизни.
Может быть – скажем в утешение неженкам, – в те времена боль не ощущалась так сильно, как в настоящее время; к такому, по крайней мере, выводу вынужден прийти врач, лечивший негров (принимая их за представителей доисторического человека) в случаях тяжелых внутренних воспалений, доводящих почти до отчаяния европейцев, даже обладающих наилучшим организмом, – у негров этого не наблюдалось. (Кривая человеческой восприимчивости к боли, по-видимому, действительно падает сильно и почти сразу, стоит только отсчитать последние десять тысяч или десять миллионов лет высшей культуры; лично я не сомневаюсь, что по сравнению с болезненной ночью одной-единственной истерично-образованной бабенки не заслуживают внимания страдания всех животных в совокупности, которых до настоящего времени допрашивали в целях науки посредством ножа.)
Вероятно, допустима возможность, что наслаждение жестокостью, в сущности, еще не исчезло: оно требует только связи с тем, что боль в настоящее время ощутимее известной возвышенности и тонкости, ему именно нужно быть перенесенным в область воображаемого и душевного и проявляться под такими названиями, чтобы это не внушало подозрения и самой нежной, лицемернейшей совести (таким названием является «трагическое сострадание»; другое – «les nostalgies de la croix»[21]21
«Тоска по кресту» (фр.).
[Закрыть]). В страдании возмущает, собственно говоря, не само страдание, а его бессмысленность. Но ни для христианина, вдвинувшего в него своим истолкованием целую тайную спасительную махинацию, ни для наивного человека древнейших времен, умевшего объяснять себе все страдания с точки зрения зрителя или лица, причиняющего страдания, не существовало вообще такого бессмысленного страдания. Чтобы скрытое, необнаруженное, не имеющее свидетелей страдание могло быть устранено из мира и честно отрицаемо в те времена, почти неизбежно было изобрести богов и промежуточные существа всякой высоты и глубины, одним словом, нечто витающее в тайне, видящее во мраке и неохотно упускающее интересное зрелище страдания. При помощи таких изобретений жизнь в то время научилась фокусу, который она всегда знала, – оправдать себя, оправдать свое «зло»; в настоящее время для этого потребовались бы иные вспомогательные изобретения (например, жизнь как загадка, жизнь как проблема познания).
«Всякое зло оправданно, если при виде его бог наслаждается»: так выражалась первобытная логика чувства – и действительно, первобытная ли только? Боги, представляемые в виде друзей жестоких зрелищ, – как далеко это первобытное представление проникает еще в нашу все более гуманизирующуюся европейскую культуру! Относительно этого можно справиться у Кальвина и Лютера. Несомненно, во всяком случае, что еще греки не умели доставить лучшей услады в дополнение к счастью богов, как радость жестокости. Какими глазами, думаете вы, боги смотрели у Гомера на судьбы человеческие? Какой окончательный смысл имели троянские войны и подобные трагические ужасы? В этом не может быть никакого сомнения: их считали как бы праздничными играми для богов, и в той мере, в какой поэт более других людей обладает божественным даром, они были праздничными зрелищами и для поэта.
Позднее философы-моралисты Греции представляли себе, что боги иными глазами смотрели на нравственную борьбу, на героизм и самоистязания добродетельных людей. «Геракл долга» был на сцене и сознавал это. Народ-актер не мог себе вовсе представить добродетели без свидетелей. Созданное тогда впервые в Европе столь дерзкое и зловещее изобретение философов относительно «свободной воли», абсолютной независимости человека в добре и зле, не имело ли прежде всего целью оправдать воззрение, что интерес богов к людям, к человеческой нравственности неисчерпаем? На этой земной арене не должно было никогда быть недостатка в действительно новом, действительно неслыханном напряжении, интригах, катастрофах: мир, мыслимый вполне с точки зрения детерминизма, мог бы быть разгадан богами, а следовательно, и утомил бы их в короткое время. Это было достаточным основанием для этих друзей богов, философов, не создавать такого мира для своих богов! Все античное человечество с нежным вниманием относится к «зрителю», так как оно обладало в высокой степени общественными свойствами и не представляло себе счастья без зрелищ и празднеств. А как уже сказано, и в великом наказании так много торжественного!..









































