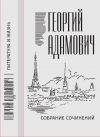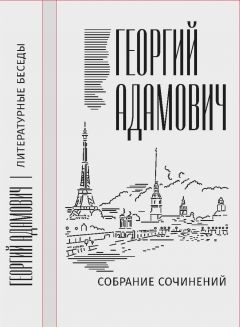
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Литературные беседы [В.Ф. Ходасевич]
В длинном ряду предрассудков, связанных с понятиями искусство или поэзия, есть один особенно распространенный: поэт будто бы сразу, с первых же «проб пера» дает о себе знать; талант будто бы сразу ощутим. Как ни соблазнительна такая теория, как ни кажется она на первый взгляд вполне бесспорной, ее легко опровергнуть фактами. Достаточно вспомнить два имени, оказавшие подавляющее влияние на все новое искусство, – имена Вагнера и Ибсена. Самый прозорливый ценитель не найдет в их первых опытах ничего, кроме «трудолюбия и посредственности», у Вагнера не найдет, может быть, даже и этого. Обратных примеров, конечно, гораздо больше, но они не так убедительны по именам: кто же помнит о бесчисленных «вундеркиндах», ничем впоследствии не замечательных?
В. Ходасевич начал свою деятельность со стихов своеобразных и изящных, но мало выразительных. Книги Ходасевича многим нравились. Но к его музе можно было применить слова Боратынского: к ней «относились с похвалой», но с ней «скучали обхождением». Это было лет пятнадцать-двадцать назад. С тех пор все изменилось. Ходасевич «нашел себя». Сейчас он пишет стихи мало похожие на прежние и настолько «свои», что под ними не нужна подпись: их узнаешь сразу и без ошибки. По элегантному выражению Андрея Белого, в последние годы Ходасевич «сказался большущим поэтом».
Замечу лично о себе: я читал, кажется, все стихи Ходасевича, думал о них больше, чем о каких-либо других, но до сих пор я не могу отдать себе ясного отчета в своем отношении к ним. Формально это – «прелесть и совершенство», настолько редкая прелесть, настолько исключительное совершенство, что нельзя пройти мимо них. Других таких нет.
Тот же Андрей Белый, восторженно разбирая одно из стихотворений Ходасевича, сделал приблизительно такое замечание (цитирую по памяти, передавая только смысл): «Несмотря на то, что в этом стихотворении нет ни редких метафор, ни каких-либо особенных рифм, ни неожиданных эпитетов, оно прекрасно».
Какая близорукость – после «Символизма», после сложнейших и изощреннейших исследований, какая близорукость в простейшем! Стихотворение бывает прекрасно не несмотря на отсутствие блестящих метафор и т. д., – только благодаря отсутствию их. Но, конечно, прекрасных стихотворений мало, и мало людей, способных писать их, мало людей внутренне богатых настолько, чтобы не бояться внешнего нищенства. Огромное же, подавляющее большинство пишет стихи, прибегая ко всевозможным украшениям и тем создавая иллюзию художественности. Но такие стихотворения не бывают «прекрасны». Если поэту «есть что сказать», если ему доступно вдохновение, то он инстинктивно ищет слов, наименее способных отвлечь внимание от целого, от той «сущности», которая разлита во всем стихотворении, а не цепляется за отдельные его части. Он не боится метафор и эффектов – они просто не нужны ему. С высот того, что виделось ему в минуты замысла, все это – мишура и ничтожество. Не стоит сводить к ним искусство, как не стоит украшать книгу стихов рисунками, виньетками, рисованными обложками: это не испортит текста, конечно, но оскорбительно самое желание придать внешнее «изящество» тому, что бестелесно прекрасно. Несоизмеримо одно с другим.
Чистота стиля в стихах Ходасевича удивительна. Оговорюсь, чтобы не было недоразумений: я имею в виду не чистоту русского языка, а точность соответствия между словом и мыслью, почти перестающей у Ходасевича быть «ложью» при изречении. Каждое слово на месте, малейшее слово живет полной жизнью и во всем своем значении. Ничто не перевешивает. Под микроскопом не заметишь ни одного промаха, пустого места или вычурности. Это тем более удивительно, что явилось непосредственно после символистов с их стилистическими «дерзаниями», после Блока с его зыбким, мутным, уступчивым, всегда неточным словарем и синтаксисом. Мне часто вспоминается мое первое университетское впечатление – Марциал. Этот старый пройдоха ничуть не поэт, конечно, но стилистически какое волшебство его эпиграммы, по сравнению с которыми даже Пушкин кажется писавшим «темно и вяло». Не знаю, учился ли Ходасевич у римлян. Похоже, что да.
Весь механизм поэзии Ходасевича безупречен. Но именно чистота этого механизма виновата в том, что не знаешь, что с этой поэзией делать и как к ней отнестись. Ведь при более поверхностном, менее взыскательном отношении к своему искусству Ходасевич, конечно, легко сумел бы ослепить, очаровать, ошеломить фейерверком «художественных эффектов», как это делают почти все другие стихотворцы. Ему ли не знать, как притвориться «высокоталантливым» мастером! Но Ходасевич надеется только на внутреннюю сущность, только ей верит. Он очень честен в искусстве. Его поэзия насквозь одухотворена, в ней нет ничего придуманного, могущего быть замененным, оставленным, уничтоженным. Читая Ходасевича, действительно чувствуешь его душу и понимаешь мысль. Поэтому его поэзию любишь навсегда или совсем не любишь. Но указка литературной моды над ней бессильна.
И вот главное: любит ли стихи Ходасевич? Тут меня охватывает недоумение. Поэзия не есть учительство, но все-таки она смотрит на мир сверху вниз. С высоты, с расстояния не видно мелочей, нет разложения мира, но есть его «панорама», есть воссоздание с «птичьего полета». А стихи Ходасевича? Они удивляют зоркостью взгляда, пристально напряженного, в упор, но смущают отсутствием «крыльев», свободы, воздуха. Говоря это, я не «критикую» поэзию Ходасевича: я ведь говорю сейчас о «что», а не о «как». «Что» – можно признать, засвидетельствовать, но за это трудно хвалить, бранить, ставить в пример. «Что» – есть душа художника, Божий дар, который надо принять покорно и с сознанием непоправимости.
Стихи Ходасевича – в плоскости «что» – далеки от Пушкина настолько, насколько вообще это для русского поэта возможно. Прежде всего: Пушкин смотрит вокруг себя, Ходасевич – всегда внутрь себя, и это решительно определяет его «гамлетовскую» природу, его боязнь мира, его обиду, его неуверенный вызов миру. Затем: «по смеху судят человека». В литературе это так же верно, как в жизни. Прислушайтесь к иронии, к смешку Ходасевича: трудно представить себе что-нибудь более ядовитое и подпольное. Он редко смеется. Он предпочитает говорить о вещах серьезно, сухо и горестно. Но нет-нет он сострит или ухмыльнется, – и вас всего передергивает. Я знаю двух человек, которых нельзя упрекнуть ни в нелюбви к поэзии, ни в непонимании достоинств искусства Ходасевича: эти два человека не могут без дрожи вспомнить о его стихотворении «Хранилище», восхитившем – как мы недавно узнали – Гершензона. Это поистине примечательное стихотворение. Поэт бродит по Лувру или Ватикану, перед Рембрандтами и Рафаэлями. Его «претит от истин и красот». Разбаливается голова, все кажется лживым и ненужным, и «так отрадно, что в аптеке есть кисленький пирамидон». До чего еще договорится современный человек?
Гершензону должно было понравиться это стихотворение. Его нигилистическая тень вообще витает над поэзией Ходасевича. Дальше и выше над ней носится более величественная тень Шестова, еще дальше – Анненского, но Анненского без воспоминаний об Еврипиде, о пении музы Эвтерпы, о «где-то там сияющей красе». С этими во всяком случае антиобщественными влияниями у Ходасевича сплетается явное и настойчивое стремление стоять на страже заветов, быть хранителем традиций, высоко нести знамя русской литературы и так далее. Ходасевич входит в «нашу доверчивую словесность» явно «почтенной» личностью, скорей Плещеевым или Полонским, чем Рембо или Вийоном.
Одно как будто противоречит другому. Но «заветы» и «традиции» – только ширмы. Если бы Плещеев и Полонский разглядели то, что за ними, они ахнули бы от неожиданности и огорчения.
Литературные беседы [Второй том «Живых лиц» З. Гиппиус]
Несколько недель тому назад я писал о книге З.Н. Гиппиус «Живые лица» и упомянул о том, что в ней всего три статьи, – о Блоке, о Брюсове, о Вырубовой. Это неправильно. Я «был введен в заблуждение» продавцом, не сказавшим мне, что книга издана в двух томах. Маленькую же римскую цифру I на корешке книги разглядеть трудно.
Во второй том «Живых лиц», столь же интересный, как и первый, включена большая статья о Розанове, отрывочные заметки о Сологубе и воспоминания о «стариках» – Плещееве, Григоровиче, Майкове, Полонском и др. Наиболее значительной статьей является статья о Розанове. Это относится и ко всей книге в целом.
З. Гиппиус начинает статью так:
«Что еще писать о Розанове?
Он сам о себе написал.
И так написал, как никто до него не мог и после него не сможет».
Поэтому, вероятно, З. Гиппиус отказывается от всяких «критических размышлений» о Розанове и ограничивается только рассказом о нем, воспоминаниями о своих частых встречах и беседах с ним. Рассказ этот очень ярок. Он написан умелым и увлекающимся своим умением беллетристом. Он иллюстрирован множеством полуанекдотов, полусценок, всегда уместных. Это привычный для З. Гиппиус жанр. В последние годы он, как будто, входит у нас в моду, вместе с нахлынувшей на нашу литературу модой на всякие «мемуары».
Слегка удивило меня то, что в своей статье о Розанове З. Гиппиус сама иногда впадает в розановский стиль, с фразами без глагола, без конца и начала, с неожиданными лаконизмами и столь же неожиданным многоречием. Некоторые цитаты из Розанова входят в текст Гиппиус, почти сливаясь с ним. Умышленно ли это, или так уж заразителен Розанов, что не проходит даром даже и воспоминание о нем?
По поводу Розанова хочется говорить так много, что вступительный вопрос Гиппиус – «что еще писать о Розанове?» – кажется вопросом явно риторическим. Это ведь один из тех писателей, к которым никто не остался равнодушен. Но жаль, что Розанов последнего периода («Уединенное» и «Опавшие листья») почти всегда заслоняет Розанова более раннего. Поклонники Розанова больше всего говорят о хаотически разрозненных записях его. Их поражает стиль этих записей. З.Н. Гиппиус пишет: «Писание у писателя – сложный процесс. Самое удачное писание все-таки приблизительно. То есть, между ощущением (или мыслью) самим по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове, – всегда есть расстояние; у Розанова нет; хорошо, плохо, – но то самое, оно: само движение души!»
Это очень верно, если на этом остановиться. Это не вполне верно, если сделать вывод в сторону оценки стиля, если признать мерилом его короткость «расстояния» (к чему как будто бы склоняется З. Гиппиус).
Розанов в «Опавших листьях», конечно, дописался до полного зафиксирования мельчайших движений души. Однако этот его стилистический апогей далеко не совпадает с его общетворческим апогеем. Он как-то размяк и ослабел в этой книге, особенно во второй ее части. Убаюканный недавней славой, воображая, вероятно, что славой этой он, как когда-то Суворов, наполовину обязан своим «штучкам» и вывертам, он на них и приналег: не только пустился на крайние откровенности, часто ленивые, совсем не «острые», но и решил обставить все свои мысли – для вящей значительности – восклицательными знаками, междометиями и многоточиями. Была в «Уединенном» одна только обмолвка, ничуть не розановская по форме. От простоты своей она казалась вдвое пронзительней и трагичней. Помнит ли читатель: на пустой белой странице одна строка: «Я не хочу истины. Я хочу покоя».
Но, конечно, поздние книги невозможно сравнивать с «Темным ликом». Там нет еще окончательной интимности в розановском говорке. Зато насколько там больше страсти, ужаса, вдохновения, горечи, восторга. Не могу представить себе человека, который, прочтя эту книгу, не пережил бы ее, как событие, не ходил бы долгие недели и месяцы, как в чаду. И если есть такой человек, не знаю, завидовать ли ему или только удивляться. Я имею в виду особенно две статьи: «Христос – судия мира» и об «Иисусе сладчайшем», и, может быть, еще более рассказ психиатра Сикорского о сектантах, зарывшихся живыми в землю, с розановскими примечаниями. Это одно из самых потрясающих русских чтений. (Кстати: отчего наши переводчики, взявшиеся уже, кажется, за Сергеева-Ценского и Арцыбашева, не подумают о Розанове? Это едва ли не единственный и последний из до сих пор не известных Европе наших писателей, еще способный поразить и озадачить ее.)
Но все-таки в Розанове есть что-то, что мешает ему стать писателем вполне первоклассным или – по шаблону – «великим». Отчасти – я подчеркиваю это слово – это объяснимо все тем же, т. е. его стилем. Розанов, постоянно твердивший о «тайне», сам тайны лишен. Он выговорил все да конца, и его язык был так гибок, так ему послушен, что ничего не утаилось. Бедна ли вообще душа человека, бедна ли была душа Розанова – как знать? Но когда она вся «выболталась», до конца, без остатка, на нее смотришь с жалостью: «только и всего»? Розанов – если вдуматься – почти плоский писатель, со своим постоянным «что на уме, то и на языке». Навсегда к нему не привяжешься. Есть в нашей литературе сильные антирозановские противоядия – К. Леонтьев, например, или Флоренский, удивительный автор «Столпа и утверждения истины». Розанова в конечном счете всегда оттеснит писатель, который, не боясь оставить «расстояние» – по Гиппиус – между мыслью и словом, оставляет вместе с тем какую-то частицу мысли недоговоренной, какое-то тончайшее, последнее излучение мысли. Недоговоренность может быть искусственным приемом. Тогда ей невелика цена. Но она бывает неизбежной, потому что есть вещи, которые сложнее и тоньше человеческого языка. Не только внутреннее целомудрие, но и стилистическое чутье подсказывает необходимость некоторой сдержанности и даже условности на языке, ставит предел индивидуальной языковой разнузданности. О всех действительно «великих» книгах можно сказать, что в них есть подводное течение. Есть не только слова, но и молчание. В словах не все уместилось. Отблеск оставшегося «за словами» заливает всю книгу. Это та «музыка» – высшее качество человеческой мысли, – которой не было в Розанове. Розановский стиль, при всей его внешней выразительности, в конце концов обернулся против него самого и обеднил его. «Уместилось» в этом стиле все, и не над чем в нем задуматься. Он груб в своей отчетливости и точности, в наивном стремлении «всего себя вложить в слова». Мир всегда бывает обеднен фотографией. А разве розановские писания не похожи на моментальную фотографию души и мысли?
З. Гиппиус рассказывает о Розанове случай, который трудно забыть. Дело было давно, в начале декадентства. В редакции «Мира искусства» был чай. В числе гостей были Розанов и Сологуб, тогда еще мало между собой знакомые. Розанов, как всегда, бегал, суетился, со всеми заговаривал. Сологуб, как всегда и везде, молчал.
Наконец:
«Розанов привязался к Сологубу.
– Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке.
Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес монотонно, холодно и явственно:
– А я нахожу, что вы грубы».
Этот ответ был вызван, вероятно, минутным раздражением. Но когда знаешь Сологуба, кажется, что он имел право повторить его и в более общем смысле.
Литературные беседы [А.А. Блок]
1
Четыре года, прошедшие со дня смерти Блока – 7 августа 1921 года, – успели уже приучить нас к этой потере, почти примирить с ней. Но они не отодвинули Блока в историю. Мы по-прежнему называем Блока поэтом современным, потому что длятся еще те смутные, «страшные годы России», с которыми он так крепко себя связал. Более того: мы по-прежнему называем Блока первым современным поэтом. Слово «первый» часто вызывает усмешки и даже брань. Нельзя мерить искусство на аршин, говорят нам. Нельзя знать, кто первый поэт, кто второй и третий. Где мерило?
Мерила нет, конечно. Об этом спорить нельзя. Но если совершенно невозможно указать второго и третьего в искусстве, то первый обыкновенно называется сам собою, по общему молчаливому уговору. На первом сходятся знатоки и невежды.
Сейчас, после смерти Блока, «первого» русского поэта нет. Есть несколько прекрасных, два-три на редкость прекрасных поэта. Очень возможно, что потомство предпочтет их Блоку. Мне, например, и сейчас кажется, что многие строфы Сологуба – если говорить о старших – для Блока недоступны. Он чище, он «выше». Но Сологуб ютится где-то в закоулках поэзии, в темном логовище, а Блок стоит на ее большой дороге. Сейчас эта дорога пуста. Или она только кажется пустой, потому что о «младших» судить с уверенностью трудно.
Говоря языком учебников, Блок был выразителем своего времени, певцом целого поколения, как Шиллер, Байрон, как Гюго. Ведь и у Байрона и Гюго были соперники, которых они художественно затмить не в состоянии, соперники, занявшие не менее прочное, хоть и более узкое место в искусстве. Мы сейчас живем жизнью другой эпохи. Мы судим Гюго одним только эстетическим судом и не в силах уже уловить все отклики, отзвуки, все дуновения эпохи в его поэзии. Поэтому он кажется нам слишком общим, недостаточно отточенным и индивидуальным, не столь единственным, как Виньи или Бодлер. Современники Гюго судили его иначе, чувствуя в нем исключительный дар выражать то, что безотчетно их волновало, приблизительно так, как мы сейчас судим Блока.
Не вина Блока, если, по сравнению с большинством признанно-великих поэтов, ему не хватает стройности в основе поэтического замысла: виновато время и страна, где он родился. Он был только верным их сыном. Сологуб мог, например, пробрюзжать революцию, отвернуться, не заметив ее в угоду своей «мечты». Блок должен был отнестись к ней со всей доступной человеку страстью, потому что Блок был «национальным» поэтом. Отрицательно или положительно отнестись – вопрос решительно второстепенный. Недаром он считал, что главное для поэта это слушать и уловить «музыку времени». В стихах Блока всегда есть привкус эпохи: 1905 год, потом предвоенное затишье, потом революция, те октябрьские ночи, тон которых так волшебно передан в «Двенадцати». Блоковские стихи никогда не бывают «вне времени и пространства». Нам, его современникам, они кажутся кусками, обломками нашей жизни, и поэтому мы к ним пристрастны, мы в них «влюблены». Прочтите человеку, прожившему полжизни в предреволюционном Петербурге:
По вечерам, над ресторанами
Горячий воздух дик и глух…
– он, наверно, вспомнит гораздо больше, чем сказано в словах стихотворения, и он едва ли поймет, почему это ему вспомнилось.
2
О надсоно-чеховском времени говорят всегда как о тоскливом «безвременьи». Потом будто бы пришел великий подъем, зазвучали песни о буревестнике и гимны солнцу. Освобожденная плоть, звериная радость жизни, будем как солнце, трехкопеечное ницшеанство – чем только себя не тешили и не обманывали?
Но вот послышался голос Блока, подлинного, не самозванного поэта этой «весенне-звучной» эпохи. После нескольких срывов он безошибочно уловил ее тембр. Неужели можно еще сомневаться, можно еще не чувствовать, что Блок есть великий, величайший поэт человеческой скуки, самый беспросветный, несравнимый с Надсоном или Чеховым, потому что у Надсона были спасительные «идеалы», Чехов думал, что если сейчас все очень скверно, то через триста лет все будет очень хорошо!
Блок, на первый взгляд, кажется поэтом довольно богатым по темам. Но он неспособен подняться над уровнем средне-поэтических упражнений, рассказывая о чем-либо или рассуждая. Зато зевающий – не плачущий! – Блок неотразим. Скука – единственная поющая струна его «лиры». Остальные натянуты только для вида, из грубой веревки. Вспомните большое и программное стихотворение «Скифы», в котором Блок пытается стать чем-то вроде левоэсеровского Д’Аннунцио: вождем, пророком, глашатаем. Что получилось? Мертвечина, плоская, вялая риторика, по брюсовскому образцу, но без брюсовского звона. И затем вспомните:
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь, начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Это удивительное восьмистишие едва ли не «высшая точка» в творчестве Блока. Но эти темы ему всегда и сразу дают вдохновение. Озираясь вокруг, он не видит ничего. Ничего не ждет – разве только смерти? – не вспоминает, ни на что не надеется. Но ведь всякое чувство, доведенное до крайних пределов, может стать великой художественной темой: даже и скука. Блок доказал это. Интересно сравнить Блока с Бодлером. У Бодлера есть несколько стихотворений, где, казалось бы, достигнут порог в выражении тоски – «Brumes et pluies» или тот «Сплин», где беседуют валет червей и пиковая дама. И все-таки, на мой слух, Блок переступает его.
Тут дело, вероятно, в языке. Французский язык слишком плавен, легок и как-то слишком наряден для выражения некоторых мыслей или чувств. На русский слух, французский стих, по самой плоти своей, всегда чуть-чуть сладок, и здесь никто, даже Бодлер, ничего сделать не может. По-видимому, преимущество русского языка (которое порой становится недостатком, конечно) в частом столкновении согласных, в твердости звука ы, от которого веет темной, тупой монгольской тоской. (Это, конечно, чувствовал Блок в своем «скифском» вызове Европе:
Мильоны вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы!)
Относительно же столкновения согласных можно добавить, что благодаря им «варварская» речь Державина иногда выразительнее итальянизированного языка Пушкина.
3
Блока всегда влекло к театру. Первые его пьесы отражали влияние Метерлинка, правда, сильно преломленное. Затем он написал «Песню судьбы». Эта драма полна высокого лирического напряжения, но загадочность и условность образов превращает ее в ребус.
Последней пьесой Блока была «Роза и крест», которую долго ждали и встретили почтительно-сдержанным восторгом. Блок читал ее впервые в 1914 году, в расцвете своей славы. Драма едва ли кого-нибудь захватила, но ее заранее называли блоковским «шедевром», и так как она обманула ожидания не слишком резко, то ее шедевром и продолжали считать.
В «Розе и кресте» есть несколько по-блоковски бессмысленно-упоительных стихотворений:
Аэлис, о роза, внемли, Внемли соловью…
Замысел драмы неясен, но в нем есть что-то глубоко захватывающее. Однако самой драмы нет, развития нет, движение тягуче-замедленное, и даже по сравнению с ранними пьесами Блока «Роза и крест» – явная неудача.
«Балаганчик» и «Незнакомка» в чтении и до сих пор прелестны. Сцена обнаруживает их кукольно-механическое, поддельно-детское построение. Я не видел первой постановки, у Комиссаржевской. Но лет десять назад, в Тенишевском зале, их ставил Мейерхольд, патентованный специалист по Блоку, после сорока или пятидесяти репетиций, никем и ничем уже не стесняемый. Это было ужасно. Лучшее, что есть в этих пьесах – стихи, – погибло в «выразительном» чтении актеров. Только в странных диалогах танцующих пар в «Балаганчике», под милую, грустную и беспомощную музыку Кузмина, были моменты какого-то просветления.
Блок, стоя в проходе, смотрел на представление молчаливо, сурово и печально, как смотрят на похороны.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!