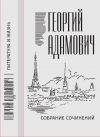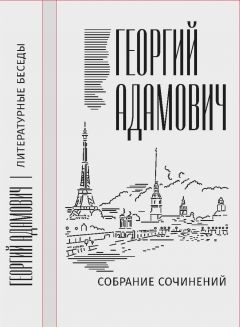
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
1924
О Бунине
В творческом «пути» Бунина есть одно достойное внимание обстоятельство: это единственный из настоящих писателей послечеховского поколения, оставшийся вполне чуждым и даже враждебным тому позднеромантическому вихрю, который пронесся в нашей литературе в последнюю четверть века и который был назван декадентством, модернизмом и многими другими, столь же условными именами.
Бунин сам насмешливо вспоминает, что Брюсов как-то сказал о нем:
– Бунин, хотя и не символист, но все-таки настоящий поэт.
Эти «хотя» и «все-таки» казались ему признанием узости взгляда. Но по-брюсовски относилась к нему вся та группа русского искусства, которая лет двадцать пять назад объединилась вокруг «Мира искусства», «Скорпиона» и впоследствии «Весов», начала борьбу за власть и влияние и вскоре вышла в этой борьбе победительницей. Как всегда в искусстве, она была нетерпима. Ей казались отсталыми все, кто не сочувствовал ей. Надо быть справедливыми: основания к этому у «декадентов» были.
Еще и теперь, читая брюсовские предисловия к его ранним сборникам или статьи и заметки Ив. Коневского, нельзя не поддаться очарованию: действительно кажется, что это были коротко промелькнувшие годы каких-то безотчетных надежд, безотчетных предчувствий, действительно понимаешь головокружение и прерывистость дыхания у людей, вдруг заменивших традиции «общественности» и «борьбы за идеалы» перспективами всемирными и вечночеловеческими. И сочувствие это не уничтожается даже тем, что сейчас все позиции модернизма сданы, что мы знаем, как пусты оказались его выкрики и как бледно наследство.
Есть какое-то величие в этом общем и неудержимом устремлении к «последним тайнам» на перегоне двух столетий, в перекличке далеких друг от друга голосов, как есть грандиозная поэзия в восхождении строителя Сольнеса на башню – лубочнейшем, в сущности, и грубейшем образе.
На современников все это должно было действовать неотразимо.
Я думаю, что брюсовское замечание «хотя и не символист» не столько отражало литературно-партийную узость, сколько недоумение перед равнодушием поэта к мерещившимся ему перспективам.
Но прошла четверть века. Все стало прахом, что казалось небывалыми художественными открытиями, и только то уцелело и бессмертно, что – как «Сольнес» – согрето и спасено внутренним жаром, как бы мотивирующим форму, всегда понятным и всегда заразительным. Формы же, выдуманные ради них самих, оказались явно мертворожденными и погребли под своею пылью «остатки мысли и обломки чувства».
Писать мы будем все-таки как Лев Толстой, а не как Леонид Андреев.
Нельзя решить, сказалась ли в том, что Бунин остался в надменном и трезвом одиночестве среди разгула модернизма, его внутренняя сила или недостаток впечатлительности. Я опять повторю: не одни лишь слабые головы вскружило декадентство. Но теперь он может быть горд своей непоколебимостью. Его проза, даже среди самых «буйных» годов, ничего не потеряла в своей свежести. В ней нечему стареть. Его стихи, даже если помнить об их связи с Майковым и Голенищевым, с эпохой оскудения поэзии, все-таки лучше стихов почти всех его сверстников, именно благодаря отсутствию всяких «завоеваний»; они проще, суше, точнее, приятнее.
* * *
Бунин упрекает в близорукости критиков, нашедших в его даровании «что-то тургеневское, что-то чеховское». На Чехова он действительно похож мало. Тургенева же иногда напоминает более, чем какой-либо другой из наших писателей: есть «что-то тургеневское» в этом смешении помещика, любящего осеннюю охоту, самовар и беседы о земстве, с русским «эллинством», чуть-чуть брезгливым. От Тургенева же у Бунина и любовь к вещи, всегда стройная и ясная ее композиция.
Мастерство художника есть не что иное, как умение сказать именно то, что хотел сказать, – то что представилось в спокойные часы обдумывания, а не случайно отвлекло в пылу работы. Проза Бунина – образец настоящего мастерства. Ему всегда удается осуществить замысел. Порой он даже увлекается своим умением и как бы перегружает свои произведения достоинствами: таков знаменитый рассказ о «Господине из Сан-Франциско», почти мертвенный в своем совершенстве. Но чаще он с неистощимым разнообразием играет им, оставляя недоделанными одни куски, дорисовывая до мельчайших деталей другие.
Есть у Бунина короткий рассказ «Грамматика любви». Тема его не новая. При беглом чтении он может показаться искусной стилизацией, вроде картинок во вкусе 30-х годов. Но это одно из удивительнейших созданий русской прозы, печальное, нежное и блестящее.
Теперь в моде критические статьи на тему «как сделана» такая-то вещь. «Грамматика любви» дала бы много материала для такой работы.
* * *
О прекрасном языке Бунина много писалось. По этому поводу я позволю себе еще раз вспомнить имя Тургенева. Как Тургенев, Бунин чувствует равновесие в процессе творчества: он знает, что язык, как бы богат он ни был, не должен быть развит в ущерб композиции и замыслу, не должен затмевать их. Так платье не должно затмевать прелести человека.
Прекрасный язык Бунина никогда не отяжеляет его писаний, не «лезет вперед». Не на нем Бунин выезжает. У нас не так давно был канонизирован в «великие писатели» Лесков и даже считалось хорошим литературным тоном восхищаться им, причем всегда подчеркивая его язык. В этом, как и в увлечении лесковскими отпрысками, сказалась настоящая болезнь вкуса и взгляда. Одно качество, одна хотя бы и сильно развитая сторона дарования еще не «делают писателя». Эта односторонность только решительнее подчеркивает незначительность дарования. Что есть в Лескове великого и что такое его язык по сравнению с развенчанным языком у Тургенева, не говоря уж о Толстом? В «Дяде Ване», кажется, кто-то замечает, что если у женщины находят удивительные глаза или волосы, то она, наверно, некрасива. Едва ли все благополучно и у писателя, которого настойчиво превозносят за «удивительный» язык.
* * *
Бунин был признан в России знатоком народа и его жизни. Он беспристрастный – хотелось бы сказать, беспощадный, – его изобразитель. Его творчество могло бы служить иллюстрацией писем Чаадаева. Если он сам и отрицает это, то это едва ли кого-нибудь переубедит.
Тот читатель, который любит, закрыв книгу, задуматься о ней, иногда даже забыв детали ее содержания, найдет в повестях Бунина много пищи.
Что найдут в нем иностранцы, которые стали в последнее время усиленно переводить Бунина? Он их вероятно не поразит, как вообще не поражает их все наиболее русское и лучшее из русского.
О Куприне
Имя Куприна было популярно в России после выхода «Поединка». Некоторые критики видели в нем законного наследника русского литературного престола и, в подтверждение своего мнения, ссылались на отзыв Толстого. Как все знают, Толстой был крайне суров в оценке новейшей беллетристики: два-три его снисходительно-ласковых слова о Куприне были поэтому сильнейшей поддержкой.
Но мало-помалу внимание к Куприну ослабевало. Его не перестали читать, но о нем перестали говорить. Все, что последовало за «Поединком», убедило даже самых горячих поклонников Куприна, что художественные средства его ограничены, вкус не безупречен и кругозор не широк. Критики же более требовательные поняли после выхода «Суламифи», что это одна из тех вещей, которые «не прощаются и не забываются». Их мнение о Куприне было окончательно составлено.
Недавно их мог бы удивить отзыв Анри де Ренье о «Яме»: изящнейший академик, столь любимый русскими эстетико-литературными кругами, назвал повесть Куприна произведением полным свежести и мощи. Нетрудно понять происхождение отзыва де Ренье. Едва ли не главную роль сыграла в нем привычка видеть во всем русском нечто прежде всего «черноземное» и брызжущее вдохновением.
Отзыв Ренье может вызвать желание вновь перечесть Куприна. Но он не заставит переменить о нем мнение.
Впечатление от чтения Куприна, после долгого перерыва, довольно тусклое. У него есть одно чрезвычайно ценное свойство – простота. Поэтому его надо сразу и безоговорочно предпочесть целому ряду писателей, которые «словечка в простоте не скажут».
Но простота есть ведь, скорей, отсутствие недостатка, чем наличье достоинства. Достоинств же у Куприна не много, и искусство его очень бедно средствами.
Перечтите «Гранатовый браслет». Эта повесть может вызвать слезы. Но надо уметь отличать волнение художественное от того чувства, которое может возбудить в человеке сообщение о каком-либо печальном и необыкновенном событии. Тема «Гранатового браслета» – огромная, неутолимая любовь, ведущая к смерти. В какие рамки ни была бы она вставлена, кем бы ни была развита, всегда она трогает человека. Разве «Дама с камелиями» не обошла весь мир? И разве не права какая-нибудь актриса, в Вятке или в Калуге, сотый раз выбирая ее для бенефиса: успех и слезы обеспечены.
Очень отдаленно повесть Куприна напоминает «Викторию» Гамсуна, но в ней нет и следа ее неврастенической прелести.
В «Виктории» удивителен диалог: то неудержимо-захлебывающийся, то сухой и прерывистый, всегда неожиданный. Казалось бы, Куприн, воспитанный в традициях старой натуралистической школы, должен бы уметь передавать тон и звук настоящей живой речи. Это ведь, в конце концов, дело писательской техники. Но в первом же разговоре двух сестер в «Гранатовом браслете» чувствуется подделка. Не совсем так говорят живые люди.
Есть писатели, не гоняющиеся за точностью в отражении жизни. К ним другое отношение, другие требования. Но Куприн не из их числа. У Куприна есть привычка, вернее манера, привившаяся писателям второй половины прошлого века и идущая, кажется, от Флобера: старание при помощи одной какой-либо подробности, возможно зорче подмеченной, наиболее существенной, но наименее броской, дать картину, образ или характеристику. Этот прием может быть применен в передаче живой речи, как и в пейзаже. Он очень плодотворен у настоящего мастера, но легко вырождается в простую и назойливую манерность при малейшем срыве. «Мадам Бовари» дает достаточно примеров и того, и другого. Позднейшие вещи Флобера, – в особенности «L’Education sentimentale» – образцы гораздо более отчетливого и проверенного искусства.
Независимо от Флобера и не подражая ему, Толстой тоже использовал этот прием и почти не зная неудач. Именно этим объясняется, что он везде и всегда, будто мимоходом, создавал живые лица, иногда совершенно эпизодические и случайные. Но зачатки некоторой «гипертрофии реализма» были уже и в Толстом, и об этом преувеличении красочности еще в 80-х годах упорно твердил К. Леонтьев, одинокий и мало читаемый[34]34
Почти все русские беллетристы последнего призыва, – Серапионы, например, – дают примеры чудовищного развития этой болезни. Их «красочность» не знает удержу. Образы нагромождены один на другой. Многие из них учились латыни и читали Цезаря. Неужели он ничему их не научил?
[Закрыть].
Куприн продолжает манеру Толстого. Но подчеркивая каждый свой штрих, как бы рисуясь реализмом, он цели достигает не часто. В «Яме» все силится быть живым и все напоминает паноптикум. Как в паноптикуме, как на фотографии схвачено только одно, застывшее выражение лица и нет настоящего сходства. Точность же всех деталей лишь подчеркивает это.
Что видит Куприн вокруг себя, о чем он рассказывает? Простые вещи, и за это надо быть ему благодарным. Простота замысла и языка – я повторяю – есть лучшее свойство Куприна.
Но помнит ли читатель, что говорил Эдгар По о втором, «подводном» течении каждого настоящего произведения искусства, о том, что замысел подлинно творческий никогда не может быть вполне и до конца «проявлен» и что в нем есть элемент «музыки»?
Когда утверждают, что настоящее искусство символично, говорят то же самое.
Всякий образец искусства отбрасывает какую-то тень, и сила художественного гения определяется только тем, – как это ни спорно и ни сумбурно, – насколько удалось ему «прояснить» ее до слов и образов, до беллетристики, говоря короче. Оба элемента одинаково важны. Здесь хочется вспомнить творчество Гоголя, неоцененное в его мировом величьи.
Но сама по себе, взятая в отдельности, точность и мелочность реализма не имеет цены, если за ней нет «второго плана». И в этом реализме не может быть настоящей жизни.
Куприна можно упрекать во многих частностях. Можно критиковать его технику и слог. Но основной, неизлечимый его порок именно в этом, и именно это мешает ему быть настоящим художником.
Смерть поручика Ромашова и вся пошлость того городка, где он жил и умер, нас волнуют не так, как волнует искусство. В разговоре о «Поединке» можно затронуть вопрос о жизни русского офицерства, о необходимости самообразования, о многом другом. Но ни один из вопросов, всегда живущих в сознании человека, в этот разговор не войдет.
Поэтому, мне кажется, Куприна буду читать только до тех пор, пока жив быт, который он отразил. Его творчество преходяще; как все, что создано не-поэтом.
Литературные заметки [Вагнер и Ницше. – Марсель Пруст. – Шпенглер]
1
В 1871 году, после Седана, во Франции был поставлен знаменитый вопрос:
– Да, Германия победила. Франция разорена и уничтожена. Но в области духовной, что могут противопоставить они, эти надменные победители, именам Гюго, Жорж Занд, Флобера, Ренана, Готье и многим другим?
В тот момент этот взгляд казался неопровержимым: девятнадцатый век дал французской литературе и искусству длинный ряд блестящих имен, получивших почти всемирное значение. Едва ли можно было оспаривать французскую умственную и художественную гегемонию. Париж был новыми Афинами. В Париже сплетался клубок традиций и школ, оттуда миру диктовались законы. К «финишу» девятнадцатого века – как и в предыдущие века, – Франция шла явной победительницей.
Но Германия как бы спохватилась, как бы захотела увеличить значение и вес своей военной победы: и она выпустила на арену мира Вагнера и Ницше. Надо ли напоминать о результатах? Ни о каком и ни о чьем сопротивлении не могло быть и речи: все было смято, опрокинуто и раздавлено. Самый вагнеро-ницшевский разрыв на долгие годы определил уклон мирового искусства и его верного барометра, искусства французского.
Первые десятилетия торжествовал Вагнер. Его успех нельзя даже считать успехом узко-художественным. Есть французская книга о Вагнере, принадлежащая поэту Катюллю Мандесу, полу-парнасцу, полу-символисту. Не обладая крупной индивидуальностью, Мандес тем вернее отразил общее отношение к Вагнеру. Вагнер заполнил все души, заменил весь мир и все искусство. Он казался явлением единственным и ни с чем не сравнимым. Мы теперь лишь смутно можем представить себе это. В Байрейт ездили с восторгом, страхом и трепетом, как крестоносцы шли в Иерусалим. Все, что предчувствовало французское искусство конца века и что оно не в силах было выполнить, вдруг было показано ему с сокрушающей силой.
Но позднейшие поколения взбунтовались. Имя Вагнера потеряло для них свое значение. Его искусство было разложено и «искусственность» его обнаружена. Вагнер стал по преимуществу достоянием «широких кругов».
Тогда пришло время его обличителя. Ницше никогда не имел столь открытого влияния на художественную и умственную жизнь Франции, как Вагнер. Но мне кажется, что сейчас передовые французские деятели искусства не вполне отдают себе отчет, насколько ими руководит Ницше, насколько они повторяют его в своих очередных догадках и открытиях, насколько вообще давит его тень. Они вышивают по его канве чрезвычайно тонко и умело, узоры придумывают свои и иногда вполне неожиданные, но существа дела это не меняет. Ницше, наконец, нашел свою среду, достойный круг художников-учеников, которые, наконец, его не компрометируют, как компрометировали наши соотечественники, российские его последователи.
Я представляю себе, что Ницше со снисходительно-довольной улыбкой перелистал бы «Nouvelle revue française» и, вероятно, одобрил бы один из новых французских романов, признающихся остросовременными, – например, «Le Paradis à l’ombre des l’épée» Монтерлана. Только заглавие заставило бы его поморщиться.
Так продолжает жить то, что не было мертвым от рождения.
2
Все чаще приходится читать и слышать мнение, что Франция переживает сейчас необыкновенный литературный расцвет. Это утверждают многие французы и некоторые русские. Роман, казалось бы до конца использованный предшествовавшими поколениями, вновь оживлен, одухотворен и развит. Поэзия, отбросившая все романтические ошибки и заблуждения, снова идет к величию и ясности. Притом дух этой литературы здоров, молод и бодр. Она не слепа ко всему, что есть в мире темного, но она и не ужасается. Она спокойна. Ни иронии, ни меланхолии. Образ Моцарта витает над ней.
Это часто приходится слышать, и при чтении новых французских авторов это часто вспоминается.
Выделим из новых имен Франции одно: имя Марселя Пруста. О Прусте нельзя спорить, если не быть одержимым духом противоречия. Чистота и совершенство его искусства удивительны. Он, вероятно, будет любим в России. Русский читатель, не избалованный технически, все же чрезвычайно чувствителен к внутренней фальши. Пушкин и Толстой обострили его слух. Поэтому этот читатель может простить Жоржу Дюамелю, например, его общую вялость, его «бледную немочь» за непогрешимое психологическое чутье, но никак и никогда он не «примет всерьез» Бурже или Барреса, Клоделя или Верхарна.
Пруст же совершенно неуязвим. Только композицию его романов можно оспаривать. Но каждая его страница в отдельности поистине чудесна.
А остальное? Несколько очень даровитых писателей – это несомненно. Еще несомненнее высота общего уровня, о которой в России даже и мечтать нельзя. Но какая напускная бодрость, какая обманчивая свежесть и легкость! Девятнадцатый век много напутал и во многом погрешил, но если вся его тревога, отчаяние и надежды, весь его человеческий облик, упраздняются ради футбольной площадки, и эта футбольная площадка объявляется символом «воли к жизни», – хочется вновь вернуть ему свое сочувствие.
Главное же, эта внезапная свежесть не внушает доверия. Генеалогия ее слишком очевидна. Ничего более «поздне-римского», чем современная французская словесность, нельзя себе и представить. В этом ее несомненная прелесть. Но не надо делать иллюзий и не надо поддаваться обману: на этой удивительнейшей почве нет одиночно-великих явлений, которые говорили бы еще о ее мощи. Бодлер, со всем своим упадочничеством и демонизмом, был еще подлинно живым поэтом, гораздо более бодрым и сильным, чем любой из современных французов. Он еще нес весь груз накопленных человечеством тем. Он еще не молодился. И в лучшие свои моменты – как в заключительных строфах «Charogne» – он еще поднимался на те высоты, где поэзия подает руку религии.
3
Что делается в Германии? Конечно, на ее искусстве лежит отпечаток провинциализма. Ни французского блеска, ни французского умения быть средоточием мира. Мюнхен тяжеловесен, груб и наивен. Там крупный художник может еще задуматься над вопросом, который вызовет лишь усмешку у захудалого завсегдатая кафе «Ротонда».
Но позволительно думать, что Германия и теперь еще готовит для Франции открытие, которое поразит ее новизной и неожиданностью.
Поставим точки над i. Во Франции почти еще неизвестна книга Шпенглера «Закат Европы», о которой французы знают лишь понаслышке и по чудовищно-неверным пересказам. Едва ли можно сомневаться, что Франция захочет наверстать потерянное время и искупить свое равнодушие.
Кстати, мне кажется до крайности удивительным отношение к Шпенглеру, нередкое в самое последнее время, как к «модному» мыслителю, внимание к которому должно быстро пойти на убыль. Что можно противопоставить его книге во всей европейской литературе последних десятилетий? С чем можно сравнить ее увлекательную мощь, ее
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзостный полет?
Пусть Шпенглер реакционер, шовинист и догматик, пусть он ошибся во всех своих политических предсказаниях, пусть его книгу можно всю подорвать и опровергнуть по частям, – но в целом «Закат» весь такой огромный и нерасторжимый «кусок мысли» от которых мир давно отвык. Анализ двух культур и вся глава об искусстве заставляют по-новому смотреть на вещи. Есть целая бездна между «умной книгой» и книгой, обновляющей сознание человека. Французский политический единомышленник Шпенглера, Шарль Моррас пишет очень умные книги, но стоит сравнить этих двух писателей, чтобы оценить значение и обаяние настоящего творчества.
О Шпенглере было сказано, что он должен иметь успех только у побежденного народа, что его перспективы конца культуры рассчитаны на пошатнувшуюся психологию, на потревоженное и испуганное сознание. Это, если вдуматься, пустой и поверхностный взгляд. Но такая книга могла бы искупить горечь военного поражения.