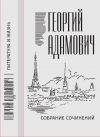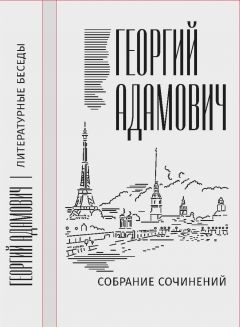
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Литературные заметки [Пушкин]
1
Пушкин переведен на все европейские языки. Имя его всем известно. Но в европейской литературе он никакой роли не играет и ни на кого в ней не влиял и не влияет. Иностранец узнает с недоумением и недоверием, что Пушкин и Гоголь – величайшие наши писатели. Пушкин для него – все еще один из рядовых романтиков, одна из звезд погасшего байроновского созвездия. С Гоголем дело еще хуже. Даже прозорливый Пруст поставил его наравне с Поль-де-Коком.
Есть довольно распространенное мнение: европейцы будто бы равнодушны к Пушкину только потому, что мало его знают и мало знают Россию. Толстой и Достоевский заслонили всю предыдущую русскую культуру, все искусство. Пройдет время. Впечатления улягутся, знания расширятся. Тогда наконец Европа признает и полюбит Пушкина.
Есть и другой взгляд, более трезвый: после Достоевского Пушкин покажется «пресным».
И в том и в другом мнении есть доля правды. Но они относятся к различным типам европейца. Нельзя сомневаться, что и сейчас есть в Европе люди, вполне отдающие себе отчет в силе Пушкинского гения. Мериме понял его еще много лет назад. Иногда, говоря с умным французом, чувствуешь, как нетрудно было бы его убедить, что Достоевский, надрывы, восторги, поклоны всему человеческому страданию, беседы Шатова и Кириллова – все это только эпизод, только одна из сторон России, и что Россия в целом проще и спокойней этого. И тогда, склонив его к этому, можно было бы ему дать «Онегина». Но нет никакой надежды сделать Пушкина европейским популярным писателем – широко читаемым и любимым. Это должно стать совершенно ясным тому, кто захочет всмотреться в характер и особенность его славы в России.
2
Лев Толстой рассказал где-то о сумасшедшем мещанине, пришедшем к нему из Самары или Саратова. Это было в год пушкинских торжеств. Пушкину был сооружен в Саратове памятник, и на открытие его съехались из соседних городов губернаторы, архиереи, генералы, профессора – вся местная знать. Произносились речи, проходили церемониальным маршем войска. Мещанин знал, что весь этот шум поднят в честь писателя Пушкина, и решил, что писатель этот написал, должно быть, много нужных и полезных людям книг. Купив же его сочинения, он нашел в них одни пустяки, стишки да романы, и на этом и помешался, не в силах понять противоречия.
Это удивительный рассказ, от которого нельзя «отмахнуться». Толстой рассказал его со страстью и злобой, вскрывая фальшь традиционного культа Пушкина и его национального прославления. О, как он прав! Если и можно называть Пушкина национальным поэтом, то только лишив это слово его демократического привкуса.
Года четыре тому назад мне пришлось провести две зимы в уездном городке, в Псковской глуши. Вместе с несколькими петербургскими друзьями я занимался там просвещением, и мы нередко читали Пушкина то в деревнях, то горожанам – служащим, мелким торговцам, рабочим. Нет дела более удручающего, нет задачи бесплоднее. Темные слушатели молчаливо скучали, более развитые принимались роптать и заводили старый и пустой спор о вреде «искусства для искусства». Пушкин был всем понятен, но он не трогал и не волновал. И дело совсем не в том, что наши слушатели были не подготовлены: между ними и Пушкиным была целая пропасть, которую не заполнить ни популярными курсами для самообразования, ни даже университетскими дипломами.
И пропасть эта, чем более в нее вглядываешься, тем больше расширяется. Не равнодушно ли к Пушкину и русское общество, вся масса русских читателей? Знает ли она его?
При всем уважении к этому имени, при всей славе его, никем уже больше не оспариваемой, – вокруг него только тесное, узкое кольцо поклонников. Одни из них спорят о каждой запятой в его рукописях, о часах, когда он обедал или ложился спать, – и никак не могут сговориться. Другие любят Пушкина свободнее и проще. А за этим тесным и не очень многочисленным кругом идет бессчетная толпа «средних читателей», учивших Пушкина в школе, видевших «Онегина» в опере и никогда более не раскрывших его книг, не помнящих подряд даже трех его строчек.
3
Не будем судить о значении художника на основании количества его почитателей и учеников. Признаем мерилом этого долговечность и силу внушенной им к себе любви. Так, с такой страстью и исключительностью, как Пушкина, не любят из русских писателей больше никого. Большей любви никто и не достоин.
Иногда, читая Пушкина, думаешь, что это лучшее из всего, что было написано людьми. И не так ли это на самом деле? Я вспоминаю появление Татьяны, в конце романа, на петербургском балу, рядом
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы…
Какое величье! Какая простота и какая грусть! И какая скромность средств, естественная, не почерпнутая!
Но нет искусства более чистого, чем пушкинское, и поэтому менее доступного для «непосвященного народа». Что же в нем популяризировать? В этом искусстве все неразложимо, все необъяснимо. Оно не задевает морали, не взывает к состраданию, не возбуждает жалости. Оно обречено казаться холодным людям, ищущим легких волнений, легких слез или смеха. Но те, кто поняли его, знают, что оно «слаще всех жар сердца утолит».
Иннокентий Анненский
Пятнадцать лет тому назад, хмурым, пронзительно-холодным осенним утром в Царском Селе хоронили Иннокентия Анненского. За гробом шло несколько поэтов и довольно много педагогов, сослуживцев покойного. Анненский умер внезапно, на подъезде Царскосельского вокзала. Он был окружным инспектором Петербургского учебного округа. За несколько дней до смерти он получил давно ожидаемую отставку и, говорят, радовался предстоящей свободе.
Незадолго перед этим он сблизился с молодыми петербургскими поэтами и в их журнале «Аполлон» к нему прислушивались и его ценили. Все, кому приходилось с ним встречаться, были удивлены и захвачены его странной, надменно-замкнутой, почти таинственной личностью, его причудливым разговором. Но стихов его почти никто еще не знал.
Правда, им был издан в 1905 или 1906 году сборник «Тихие песни». Но в эти годы «весеннего грохота и ледолома» – слова С. Городецкого – столько выходило новых сборников и все эти стихи были так крикливы и, казалось, так необыкновенны, что книга Анненского прошла незамеченной. Только позднее о ней вспомнили.
В одном из некрологов Анненского, указывавшем на его педагогические заслуги, было упомянуто, что досуги свои покойный отдавал русской словесности. Через несколько месяцев после этого вышел его посмертный сборник стихов «Кипарисовый ларец», одна из драгоценных книг нашей литературы. Не получив до сих пор настоящей большой известности, «Кипарисовый ларец» тем дороже стал для тех, кто его прочел и понял. Для этого узкого круга Анненский уже не был талантливым и чудаковатым поэтом-дилетантом, каким его считали при жизни. Все молчаливо, но с глубоким убеждением согласились, что после Тютчева у нас не было ничего прекраснее и значительнее. Любимейшие из русских символистов, Сологуб и Блок, как-то померкли перед ним, уступили ему первое место. С годами «Кипарисовый ларец» стал величайшей редкостью. Еще недавно в России можно было видеть рукописные экземпляры «Ларца», сделанные теми, кто отчаялся где-либо достать его.
Передо мной лежит новое издание «Кипарисового ларца», вышедшее около года назад в Петербурге. Иных оно обрадует. Даже зная наизусть почти всю книгу, нельзя без волнения перелистать ее.
Долгое одиночество отразилось в «Ларце»: скрытая гордость, надежды, обида на жизнь, любовь, не нашедшие выхода. Отразилось оно и внешне, в своеобразии манеры и в некоторой старомодности техники, очень сложной и богатой, но иногда примитивно-ошибочной со школьной точки зрения.
Эпоха «ликвидации» девятнадцатого века, – то, что на обывательском языке называется декадентством, – не имела более чистого выражения, чем Анненский. Одинокий и независимый, он был ее истинным сыном и в нем была органической та «усталость», которая для других поэтов была лишь литературной позой, случайной и заимствованной. Наследство Бодлера он принял с покорностью, почти благоговением. И над всей его поэзией можно было бы поставить эпиграфом строчку из «Сплина» о человеке, у которого в жилах течет «зеленая вода Леты».
Но к этим общеевропейским нотам примешалась Россия и предреволюционные десятилетия, с Чеховым и с смутными русскими предчувствиями того времени. Есть в поэзии Анненского черта, делающая ее единственной и неповторимой. Наряду с брезгливым и капризным эстетизмом, наряду с торжественными воспоминаниями об Эврипиде и о том, как пела когда-то муза Эвтерпа, тут же, переплетаясь с ними, в ней живет чувство неудержимой жалости к людям, почти гоголевские образы человеческой нищеты и убожества. Анненский любил слово сердце: у него оно разрывалось от «ужаса и жалости» при виде жизни и это дало тон всей его поэзии. Но как настоящий художник Анненский был душевно-целомудрен, стыдлив и скуп. Его стихи не превратились в сплошной плач, в музыку Чайковского. Прелесть его поэзии в сдержанности.
И, может быть, еще: в безнадежности. Никакое просветление не было ведомо Анненскому. Кажется, он ни во что не верил и ничего не ждал. Но тем пристальнее вглядывался он в мир, тем яснее различал в нем мельчайшие его черты, которых не увидит художник, настроенный христиански, торопливый, невнимательный и всегда как бы пораженный дальнозоркостью. Вся сложность ощущений Анненского упиралась, кажется, в один только образ: базаровский «лопух на могиле».
Я почти наудачу списываю одно из стихотворений «Кипарисового ларца». Не кажется ли читателю, что это одна из тех вещей, которые нельзя забыть:
Цвести средь немолчного ада
То грузных, то гулких шагов,
И стонущих блоков, и чада,
И стука бильярдных шаров.
Любиться, пока полосою
Кровавой не вспыхнул восток,
Часочек, покуда с косою
Не сладился белый платок.
Скормить помыканьям и злобам
И сердце, и силы дотла —
Чтоб дочь за глазетовым гробом
Горбатая с зонтиком шла.
Литературные заметки [ «Пугачев» С. Есенина]
Кажется, Чуковский писал когда-то по поводу столь частых в былое время апелляций «нашей молодежи», как к высшему художественному суду:
– Не верьте ей, этой молодежи! Она развращена и слабовольна. Ей нравится в литературе Надсон, на сцене Ходотов…
С тех пор прошло много времени. Но замечание Чуковского остается правильным. Нередко приходится вспоминать о нем.
Тот, кому случается встречаться с молодежью интересующейся литературой, главным образом, юными поэтами и поэтессами, знает, что почти все они любят поэзию Есенина. Их тянет к ней. Есенин их не утомляет и не отпугивает. Его поэзия им близка и, по Державину,
…приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.
Я помню появление Есенина лет десять назад, в Петербурге. На него сразу обратили внимание, но в кругах не чисто поэтических. Ни один из подлинных поэтов, живших тогда в Петербурге, – я могу не называть эти три-четыре имени – не заинтересовался им. Его легкие и нарядные стихи не много обещали. Не думаю, чтобы можно было заподозрить этих поэтов в пристрастии или недоброжелательстве: еще недавно они с величайшим вниманием встретили Пастернака.
Затем Есенин уехал в шумную Москву, вошел в группу имажинистов и прославился. О нем писались большие статьи, и профессора в золотых очках читали о нем лекции. Конечно, Есенин был очень благодарным объектом для их упражнений: с виду крайне передовой поэт, несомненно – левый, почти футурист, он был все же им совершенно понятен – как дважды два четыре! – и давал обильную пищу для рассуждений, поэзии наполовину чуждых. Понять же и одобрить «левого» художника критику всегда приятно, ибо внутренний трепет перед непонятной, таинственной «левизной» никогда ни одного критика не покидает. К тому же роль левого критика в искусстве соблазнительна и почетна.
Сознаюсь, что я до сих пор не читал «Пугачева», одну из наиболее популярных есенинских вещей. Недавно мне дал эту книжку один молодой здешний поэт. Он восторженно отзывался о ней.
Надо сразу оговориться: я не думаю, что успех Есенина и, в частности, этой его поэмы случаен. Все имеет причину. Найти ее в данном случае очень легко. Но это задача скорей психологическая, чем литературная.
Раскроем «Пугачева». Есенин, по-видимому, как огня боялся впасть в стилизацию, сочиняя свою драматическую поэму. Нельзя не сочувствовать ему в этом: нет ничего этой несноснее мертвечины. Но он впал в другую и едва ли не худшую крайность. Его герои изъясняются не современным русским языком, сухим, простым и точным, а цветистым и разукрашенным, типичным условно-поэтическим волапюком. Примеров можно было бы не искать: так написана вся вещь. Но спишу все же четыре строки из первой же сцены. Пугачев, еще не ставший самозванцем, обращается к какому-то сторожу:
«Слушай, отче! Расскажи мне нежно,
Как живет здесь мудрый наш мужик.
Так же ль он в полях своих прилежно
Цедит молоко соломенное ржи?»
Здесь все неподражаемо: и это северянинское «нежно», и в особенности «молоко соломенное ржи».
Об этом «молоке» стоит поговорить, пусть даже это на время и отвлечет нас от Есенина.
Теория поэзии называет такие выражения метафорами. Сущность метафоры в соединении двух понятий или двух образов, один из которых играет служебную роль и обозначает не реально существующую вещь, а лишь форму или подобие ее. Вот примеры: чаша жизни, цепи страсти и т. д. Речь идет не о действительно существующих чашах и цепях, и названы они лишь для живости представления. Метафора есть сокращенное сравнение.
Нетрудно догадаться, что возможность таких соединений ограничена и что всякое творчество в этой области, в конце концов, упирается в тупик. Несмотря на то, что исстари метафора считается принадлежностью и почти признаком поэзии, можно убедиться, что все подлинные поэты – те, которые остались в памяти людей, – ее избегали и ей не доверяли. Обратите внимание, как мало метафор в наиболее прославленных, «бессмертных» стихотворениях и, в частности, в поэзии Пушкина.
Настоящая простота решительно и безусловно исключает метафоричность. И наоборот, речь, украшенная метафорами, имеет всегда «писарской» характер.
Помимо того, все лучшие, наиболее удачно найденные метафоры давно и безнадежно стерлись как, например, приведенные мной «цепи страсти». Может быть, оттого поэты и избешали метафор, что, в противоположность языку простому, метафоры имеют свойство стариться и изнашиваться и что никакое «бессмертие» с ними невозможно. Мне бы хотелось когда-нибудь показать, что поэзия Надсона невыносима не по тону своему и не по однообразию тем, а только потому, что она вся построена на окончательно стертых метафорах.
Вернемся к «Пугачеву». Неужели не ясно, что «соломенное молоко ржи» есть подлинный абсурд, чушь, с какой бы точки зрения ни рассматривать этот образ? Почти никогда метафора, основанная на двух вещественных или двух отвлеченных понятиях, не бывает удачной. По самому существу своему она требует разнородности понятий, и смысл ее в том, что понятие отвлеченное получает в этом соединении недостающую ему осязаемость. Или наоборот.
Что такое «молоко ржи»? Как можно его «цедить»? С какой целью употреблены здесь эти слова? Делают ли они образ чище, убедительней или ярче?
Или это только жеманная привычка не сказать «словечка в простоте»?
Есенин был воспитан в школе имажинизма. Как видно из самого слова, имажинисты считали образ главнейшим из средств поэта. Стихи их были всегда сверх меры перегружены образами. Есенин в своей грубо, кое-как сделанной поэме остался верным последователем имажинизма. Почти каждая строка его заключает образ, большей частью образы эти метафоричны и всегда неточны.
Вот еще несколько случайных примеров: тополь общипан «зубами дождей», по небу катится «колокол луны», а Екатерина взошла на престол, разбив «белый кувшин головы» своего мужа.
Как это все ненаходчиво и неудачно!
«Пугачев» по тону напоминает некоторые вещи Маяковского, но именно в той области, на которую я сейчас обращаю внимание, Маяковский неизмеримо интереснее. Метафорическая изобретательность есть, конечно, наиболее заметная черта его дарования.
Тон есенинской поэмы, роднящий ее с Маяковским, есть монологический пафос, очень взвинченный, почти истерический. Некоторые строфы достигают силы и крепости. Но, как у Маяковского, этот пафос кажется фальшивым и неубедительным: помимо соображений стилистических, разгадка этого, вероятно, в том, что такие вещи, по замыслу своему и природе, должны быть байроничны, т. е. подчеркнуто и резко индивидуальны. У обоих же наших авторов постоянно чувствуется желание говорить от имени «миллионов трудящихся» – (у Маяковского дословно!) – и в основе их поэзии лежит что-то очень похожее на лесть этим «миллионам», потакание их инстинктам. Бессвязные выкрики Пугачева по адресу Екатерины можно, конечно, назвать революционной поэзией, но лишь в самом плоском и грубом смысле этого понятия, в слишком дословном и непосредственном смысле. Это писано для «черни» и для угождения ей.
Литературные заметки [Н. Гумилев. – Н. Евреинов. – Ницше и Вагнер]
1
Почти без исключений вся наша критика при жизни Гумилева была к нему настроена недоверчиво и даже насмешливо. Люди, мало о поэзии думавшие, ничего в ней не понявшие, свысока поучали и наставляли его. Это глубоко задевало Гумилева, хотя внешне он всегда оставался спокоен. В последние годы, по общим условиям, умолкла критика печатная, но тем острее и оживленнее сделалась устная: в ежедневных встречах во «Всемирной Литературе» или в Доме Искусств, в случайных беседах, в очередях, Гумилева часто упрекали за его работу в студии, из которой впоследствии образовался кружок «Звучащая раковина».
Это были его непосредственные ученики, ученики в самом точном смысле слова. Он в течение двух лет объяснял им механизм искусства. Всякий, кто бывал в их кружке или кто прочел изданный «Звучащей раковиной» сборник, знает, что это типичные эпигоны, без всяких «надежд впереди», аккуратные и посредственные работники. Гумилеву на это указывали и с ехидством говорили, что он и его поэтика не способны создать ничего живого. Он и сам поглядывал на своих студентов с недоумением: все в них было ему не по душе. И, кажется, это огорчало его.
Но вот что могли бы понять обличители Гумилева, всех направлений и оттенков.
Подлинных дарований никогда и нигде не бывает больше, чем несколько на целое поколение. Если поэт создает школу и все его ученики кажутся даровитыми, живыми, обещающими, то такому поэту грош цена: он втирает очки в глаза, он обманщик. Он учит приемам, которые лишь скрывают сущность искусства. Оперирующий такими приемами стихотворец легко может не только обольстить, но и обольщаться. Надо целиком восстановить значение слова «вдохновение» и надо еще раз повторить, что поэтами рождаются. Настоящий поэт, если и не тяготится всем богатством находящихся в его распоряжении средств, то во всяком случае не дорожит ими. Он знает, что весь смысл творческого «пути» в постоянном отказе от всех побрякушек искусства, от всего, чем обыкновенно занимаются и за что хвалят поэтов критики: от удивительных рифм, от неожиданных образов и прочая, и прочая. В первые свои годы он учится владеть этим, но во все последующие он учится обходиться без этого. Это как бы скорлупа на «вдохновении», которую надо снять. Искусство тем чище, чем беднее на вид.
Не совсем то, но что-то очень похожее на это – говорил Гумилев своим ученикам: он учил их простоте. Он внушал им, что поэзию нельзя ни украшать, ни принаряживать. Конечно, из двадцати его студентов девятнадцать наверно не были поэтами. Окажись среди них хоть один поэт, и то было бы большой удачей. Если бы Гумилев, посвятив их в тайны современной поэтической кухни, рекомендовал их вниманию все ее рецепты, критика, вероятно, была бы в восторге: какая смелость, какая новизна горизонтов!
Но он убедил их не быть фальшивомонетчиками и они его послушались. Это лишний «лавр» Гумилева.
2
Две-три дошедшие сюда новые книжки Евреинова, как всегда претенциозно парадоксальные, напомнили об их авторе, поборнике всяческой театральности, и о его давнем споре с Айхенвальдом.
Многие, я думаю, помнят этот спор. Айхенвальд написал статью, в которой низводил театр на степень низшего второстепенного искусства. Евреинов оппонировал ему с жаром и восторгом, его никогда не оставляющим.
Тема спора многих взволновала. Айхенвальд, казалось, поставил точку над i, но сущность его положений носилась в воздухе, несмотря на повышенный интерес к театру в нашу эпоху, а может быть и благодаря ему.
Я сказал, что об этом споре напомнили книги Евреинова. Недавно на террасе полупустого кафе несколько человек говорили о нем. Среди них был один знаменитый и уже седеющий театральный деятель. Он задумчиво стучал пальцем по портсигару и наконец, после долгого молчания, сказал:
– Да, вы правы, нападки на театр смешны и бесплодны. Это, пожалуй, самое любимое из всех искусств, и уж наверно самое доступное. Но, конечно… – он остановился и опять задумался, – конечно, тот, кто знает, что дает человеку поэзия или музыка, не может не стать равнодушным к «свету рампы»… Театр хочет завладеть воображением, а воображение убегает от него, il lui echappe. И ведь чем изощреннее театр, чем он лучше и современнее, тем это яснее. Вся сущность театра рассчитана на некоторую умственно-душевную ограниченность. Это вообще не чистое, не «божественное» искусство… Мне почему-то вспомнилась Дузе. Вы еще молоды и, вероятно, не видели ее… Но ее нельзя забыть. Я много и долго наблюдал за ней. Мне кажется, что все обаяние Дузе было в том, что в ней отсутствовал элемент театральности, и что вся она, как это ни странно, была живым отрицанием театра. Да, она ходила по сцене и произносила чужие заученные слова, но это был как бы сплошной монолог, всегда один и тот же, что бы она ни играла, долгий, страстный и смертельно грустный. Вы знаете, что Дузе небрежно одевалась и почти не гримировалась. Иногда она «снисходила» до роли и разыгрывала две-три сцены, чудесно, с огромным умением. Но потрясало-то зрителя именно то, о чем я говорю. У меня до сих пор живет в памяти ее судорожный, умоляющий шепот: «Armando! Armando!», но причем здесь драма Дюма и все ее перипетии? Французы много писали о Дузе после ее смерти и сравнивали ее с Сарой Бернар. Очень возможно, что Сара или даже Режан не уступали Дузе в мастерстве, а может быть, бывали иногда находчивее, разнообразнее, ближе к замыслу автора. Но ведь это были типичные актрисы, ловкие лицедейки, и тем самым они кажутся нам неизмеримо ниже великой и бедной Дузе, которая попала в театр будто по ошибке, как «беззаконная комета» из каких-то более высоких областей…
3
Я добавлю одно соображение на эту тему или только «почти» на тему.
Все знают, как произошел ницше-вагнеровский разрыв. Но, может быть, не все помнят, что этому предшествовало.
В 1876 году в Байрейте давалось первое представление «Кольца Нибелунгов», на которое съехался весь свет. В это время Ницше еще находился под обаянием Вагнера. Он не приехал на репетиции, несмотря на торопливо-лестное приглашение своего друга. Но у себя он подолгу играл «Кольцо», и увлечение его доходило до того, что он пел все партии и иногда громко вскрикивал.
Потом уже он отправился в Байрейт, и вскоре бежал оттуда, в ужасе, непримиримым врагом Вагнера и вагнеризма.
Я знаю, что причины вражды Ницше к Вагнеру лежат много дальше и глубже этого эпизода. Но все же, как эта история понятна и показательна. Некоторые страницы вагнеровского либретто – не решаюсь и не буду судить о музыке – полны неотразимой прелести. Удивляться ли тому, что Ницше становился «бледнее полотна», проигрывая сцену, где к Зигфриду возвращается память? Не ему одному эта сцена казалась «невероятной».
Но в Байрейте ему все это представили до крайности реально, на фоне староромантических декораций, при лунном свете. Все пружины вагнеровского искусства, все его швы, и так-то уж не всегда скрытые, вылезли наружу. Вся его поэзия и «волшебство» отлетели.
«Кольцо», хоть и предназначенное для театра, жило настоящей жизнью только вне его. И решительно все равно, хорош или плох был байрейтский режиссер, был ли он рутинером или новатором. То, что виделось Ницше, когда он сидел за роялем, никакой театр не воплотит.