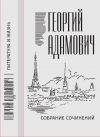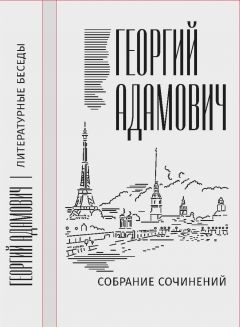
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Литературные беседы [Дрие Ла Рошель. – Анкета «Для кого вы пишете?»]
1
Я с острым интересом прочел статью Дрие Ла Рошеля в «Нувель Ревю Франсез» «Настоящая ошибка сверхреалистов».
Многим, должно быть, знакомо это чувство: перелистываешь журнал лениво и нехотя, будто по принуждению. И вдруг весь оживаешь, прочтя несколько строк. Еще ничего нет в них неожиданного и резкого, но чувствуется живой мозг, и чувствуется, что каждая из высказываемых мыслей через этот мозг прошла. Если она не им рождена, то им она переработана.
Дрие Лa Рошель не совсем не известен читателям «Звена», даже и тем, кто не следил за французской литературой. Не так давно о нем писал Б.Ф. Шлёцер, по поводу его книги «Plainte contre l'inconnu».
Это очень даровитый писатель. Он не вполне еще определился, и будущее его неясно. Но и сейчас уже нельзя не заметить его во французской литературе, где-то на грани между романом и критическим essai. Обращение к сверхреалистам написано с французской точки зрения блестяще. С русской – не совсем. Говорю это мимоходом, только для того, чтобы не вызвать разочарования у тех, кто это обращение прочтет. Чем больше вчитываешься в современную, самую современную французскую словесность, тем яснее видишь странный факт. Мы безусловно, бесспорно отстали во всем, что можно назвать внешностью литературы, ее лоском, ее техникой. Но в этой французской технике есть какая-то частица, которая нам кажется смешной. Есть погоня за небрежностью, есть капризное «своеобразие». Как последний крик моды, появляется иногда то, что русскими давно оставлено. Эти стилистические деликатесы похожи на объедки с русского стола. Обольщаться, впрочем, не следует: происхождение их не русское, французы додумались до них сами. В статье Дрие есть ужимки, замечания в сторону, восклицания, которые должны придать ей высшую, разговорную естественность. Меня лично это чуть-чуть коробит. Может быть, я тут не прав. Но вот пример для всех убедительный: кто в России, кроме какого-либо уездного писаря, решится посвятить свою книгу «девушкам, ангелам и сумасшедшим» (приблизительно, – не помню точно), как это сделал недавно один из «столпов» литературной французской молодежи? Но повторяю: к Дрие такие придирки относятся менее, чем к кому-либо другому. Говоря о нем, останавливаться на этом не стоит.
Статья Дрие написана по поводу недавнего обращения сверхреалистов к Клоделю, где они нападали на поэта за его роль «защитника Запада». Сверхреалисты – французские «скифы», поклонники Азии. Свет для них идет только с Востока. Ненавидя европейскую культуру, они, естественно, сочувствуют коммунизму, как возможности эту культуру разрушить. Но, конечно, их политические теории по существу от коммунизма далеки: они туманнее, сложнее, романтичнее. Шпенглер и Кайзерлинг гораздо сильнее повлияли на них, чем Ленин.
Дрие начинает свое обращение с любезностей. В письме Клоделю все ему кажется верным. Верно, что европейская идея красоты померкла. Верно, что можно кричать «Долой Францию!», потому что «Да здравствует!» кричат все трусы, лицемеры и ленивцы. Верно, что от «старших» ждать нечего. Верно, наконец, что Европа потеряла чувство абсолютного.
Но тут Дрие останавливается. «Я не могу простить вам столь слабого образа: свет идет с востока».
И с язвительным остроумием он убеждает сверхреалистов, что если бы «русские и китайцы вместе с вашими друзьями – риффанцами» двинулись на Париж и Нью-Йорк и разрушили их, мало что изменилось бы. Будет длиться то же: не жизнь, а прозябание.
«Русские и китайцы требуют пишущих машин и футуристических полотен, и таксометров, и полных собраний сочинений А. Франса, и пороха, и ядер… чтобы создать мелкий областной национализм».
Оставьте все ваши дела. Оставьте эти надежды. «Пишите о любви. О любви и Боге. Не все ли равно, сойдутся ли когда-нибудь в битве запад и восток, оба одинаково дряхлые. Чем бы ни кончилось это зверское столкновение, цель которого: уголь и нефть, ничего другого, надо, чтобы мы пользовались жизнью, будто для нас одних созданной, вдали от миллиардеров и демократов. Надо опять научиться радоваться нашему разуму, нашему сердцу, нашему телу». Дрие кончает: «Надо искать и найти Бога».
Такова его схема и программа. Признаем одно: если «азиатизм» действительно носится в воздухе Европы, то непротивление Дрие вернее и глубже отражает его, чем воинствующий сверхреализм. Не есть ли мечта о насильственном разрушении европейской культуры вообще типично европейская, действенная мечта, по самой природе своей?
Второе замечание существенней: мысль Дрие – мысль настоящего поэта. Кто хочет сказать что-либо долговечное в искусстве, тому надо навсегда забыть все вопросы мирового благоустройства, столкновение культур и т. п. Это «кухня мира». Как и в домашнем хозяйстве, на кухню лучшие умы не идут. Самые заботы об этом сушат ум и душу художника, который перестает чувствовать тему любви и смерти и вторую «великую человеческую тему»: преступления и воздаяния.
2
Французским писателям было недавно предложено ответить:
– Для кого Вы пишете?
Почти все ответили: «Для себя». Некоторые оказались менее категоричны и признали, что пишут для тесного, замкнутого круга. Только один (Ж. Бэнвилль) ответил, что пишет для всех.
Когда-то я присутствовал при жарком, длившемся целый вечер литературном споре: «Написал ли бы Пушкин, живи он на необитаемом острове, без надежды выбраться оттуда, все то, что написал он в действительности?»
Мнения разделились. Те, кто сами писали, в большинстве утверждали, что Пушкин на острове не написал бы и десятой доли того, что он оставил. Другие, посторонние, возмущались и бормотали что-то о вдохновении, о том, что поэт поет, как птица, и т. п.
Темы французской анкеты и фантастического русского спора не совпадают, но они очень близки. Ответы же как будто расходятся.
Однако вдумаемся. Писатель пишет в наши дни, действительно, для себя, и с каждым годом одиночество его все безнадежнее. Как бы ясно ни сознавал он трагизм такого положения, практически он изменить его не в силах. Все меньше вокруг остается слушателей, все рассеяннее их внимание.
Попытка создать общепонятное, простое, стройное искусство в наши дни обречена на неизбежную неудачу, на лубок, на плоские пошлости; Ростан или Демьян Бедный – все равно. Вокруг ведь стоит не «народ непосвященный», жаждущий просветиться, а люди себе на уме, с хитрецой, с расчетцем, с равнодушием к последним проблескам света, «дотлевающим над нашим миром». Пойди, создай для них «великое народное искусство»!
Но утверждая, что он пишет для себя, поэт все-таки надеется, что где-то есть неведомый читатель, собеседник, понимающий все с полуслова, умный, добрый, прекрасный, великодушный – настоящий «человек». С потерей этой надежды должно кончиться и искусство.
Одиночеству ведь никто никогда не радуется, кроме лгунов и снобов.
Оттого, кажется мне, и Пушкин на необитаемом острове написал бы только несколько стихотворений, да и то не самых лучших.
Литературные беседы [Стихи пролетарских поэтов. – Вяч. Иванов]
1
Мне довелось прочесть за последние месяцы довольно много стихотворений и поэм русских так называемых «пролетарских» поэтов. В России это чтение привычное и неизбежное, потому что пролетарскими стихами украшены почти все номера газет. За границей видеть их приходится не часто.
После нескольких лет перерыва я читал эти стихи если и без увлечения, то, во всяком случае, с интересом. Некоторые имена уже довольно известны: Герасимов, Безыменский, Обрадович, Садофьев, Крайский, Кириллов. Другие мало кому ведомы. Но большой разницы между произведениями «мэтров» и их учеников не видно. Не видно и крупных дарований ни в том, ни в другом ряду, хотя способные есть.
Было бы слишком легким, праздным и пустым делом приняться за «критику» этих стихотворений. Их технический, или, проще, их внешний уровень настолько еще низок, что разбирать их с этой стороны не стоит, потому что это превратило бы газетную статью в очерк по теории словесности. Без этого, с потерей спокойного и беспристрастного тона, критика сведется к высмеиваниям и придиркам, к упражнениям в собственном остроумии. Обойдемся без них.
В общем, повальном щеголянии сверхфутуристическими эффектами, в применении самоновейших московских приемчиков, при полной беспомощности основного, есть что-то почти трогательное – трогательное и унылое!
Но я пишу о пролетарских стихах не для того, чтобы говорить об их внешности. Я хочу обратить внимание на явление, которое по выводам уходит далеко за границы литературы.
Все знают, что пролетарские стихи на первых порах, в первые годы революции были по темам исключительно городскими, вернее, заводскими, по совести «индустриальными», механическими, машинными. К этому присоединялся хвастливо-надменный тон, старое русское «шапками закидаем» – только по-новому поданное! Какой-то вечный окрик на целый свет: «Мы, мы, мы!»
Эти темы не дали в поэзии ничего хоть сколько-нибудь сносного. Ни Верхарн, ни Уитмен не нашли в нашей литературе ученика или продолжателя. Впрочем, надо сделать одно исключение – Маяковский. Маяковскому удалось «прокричать» несколько стихотворений простых – вернее, упрощенных, – и выразительных. У Маяковского голос грубый, жесткий, однотонный, но от природы чистый и сильный. Сильнее, может быть, чем у всех поэтов его поколения, вместе взятых. Но, конечно, Маяковский никакого отношения к пролетарской литературе не имеет.
Демагогически-верхарновские стихи пролетарских поэтов – самая слабая часть их «багажа». Это самые лубочные, самые плоские и фальшивые их стихи, художественно наиболее нелепые. И наоборот: в последнее время все чаще встречаются у советских стихи «крестьянские», деревенские, внушенные русской природой и простым, подлинным бытом России. Эти стихи отражают много влияний: Блок, Есенин, очень часто Кольцов и Никитин. Но сквозь влияния чувствуется иногда живой голос, и иногда очень малого недостает, чтобы стихи Крайского или Панфилова стали «настоящими» стихами.
Так деревенская, полевая душа России пробивается через чуждые ей наслоения. И пробившись, она сразу оживает, и, хоть с трудом, но все-таки дышит.
2
Письмо поэта, живущего в России:
«Мы иногда читаем Вячеслава Иванова, особенно статьи его. Не знаете ли, где он, что пишет, над чем работает?»
Не знаю. И жалею, что не могу ответить печатно, потому что, наверное, есть люди, не потерявшие страстного интереса к творчеству Вяч. Иванова за долгие годы его молчания.
Вячеслав Иванов приехал в Россию из-за границы лет двадцать назад, и, как Ленский, он и, вместе с исключительной ученостью, ум, столь же исключительный, глубокий и вдохновенный.
…из Германии туманной
Привез учености плоды,
Россия жила в то время напряженной духовной жизнью. Но Вячеслав Иванов оказался ей все-таки не по уровню. Его всегда окружало у нас удивленное молчание.
Что написал Вяч. Иванов? Множество стихов. Некоторые из них – в «Нежной тайне» – незабываемы. Но два огромных тома «Cor ardens» – груда слов пышных, нарядных и мертвенно-тяжелых. Несколько десятков статей: эти статьи так удивительны в своей глубокой и чистой прелести, полеты мысли в них так головокружительны, что они с лихвой вознаграждают за условность стихотворного творчества Вяч. Иванова. Есть в книге «Борозды и межи» статья о поэзии «Манера, лицо, стиль». Не знаю, что можно сравнить с ней во всей современной теоретической литературе. Каким ребяческим вздором кажутся рядом с ней писания Андрея Белого! Эта статья так исчерпывающе проницательна, что к ней нечего добавить, можно только поставить точку или сказать: аминь. О возражении смешно и думать. Кстати, это отлично сознавал Гумилев, человек вообще в себе уверенный, не любивший ученичества и вторых ролей. Отвергая опеку Брюсова, он пред Вяч. Ивановым склонялся в последние годы беспрекословно, с рыцарской откровенностью признавая его огромное, несравнимое превосходство. Да и всякий русский поэт, который захочет понять Вяч. Иванова, почувствует себя в некотором смысле его верноподданным.
В мыслях Вяч. Иванова есть свойство, принадлежащее ему исключительно: это внутренний аристократизм, недоступность вульгаризации. Вспомним, например, Льва Шестова, писателя, значение которого никем не оспаривается. Возможно, что мысль Шестова столь же своеобразна, сильна, глубока, как и мысль Вяч. Иванова. Но природа этой мысли не та. Она доступна искажению, опошлению, и в искаженном виде она по вкусу духовной черни. «Апофеоз беспочвенности» по последствиям своим – книга печальнейшая. Кто только к этому мощному «Апофеозу» не примазывался? Вяч. Иванова опошлить невозможно. Один человек, правда, попытался это сделать: Георгий Чулков. Но эта явно комическая попытка в счет не идет.
Когда читаешь «Переписку» В. Иванова с Гершензоном, этот аристократизм, эта незыблемость ивановской мысли становится вполне очевидной – Гершензон вьется, змеится, бьется вокруг нее, всячески подкапывается, но внутрь не проникает. Кроме того, не ясно ли, что в этой книге мелодия дана и все время ведется Вяч. Ивановым, Гершензону же остается только аккомпанемент, да и то по нотам Шестова?
«Где Вячеслав Иванов? Что он пишет, над чем работает?»
Литературные беседы [Рассказы С. Подъячева. – «Бесы» в переводе Жана Шюзвиля]
1
Кажется, Альфонс Доде утверждал, что то, о чем пишешь, неизбежно отразится на том, как пишешь. Тема будто бы всегда овладевает писателем.
Нельзя написать о скуке ничего, что само по себе не было бы скучно. Едва ли это верно. Но перелистывая полученную из России книгу С. Подъячева и собираясь писать о ней, я с опаской вспомнил слова Доде. Господи, до чего они скучны, эти подъячевские рассказы! В предисловии говорится, что Подъячев должен быть каждому близок и понятен. Позволю себе заметить, перефразируя изречение Карамзина, что этот каждый – «существо метафизическое».
Предисловие – едва ли не самое занятное, что есть в этой книге. Оно написано неким Ник. Смирновым. Оно содержит несколько обычных упрощенно-марксистских мыслей об искусстве и его задачах. Но, по-видимому, Ник. Смирнову не хотелось ограничиться только неизбежными формулами. Он решил дать что-нибудь свое, личное и пустился в лирику. Ник. Смирнов пишет языком образным, картинным, сильным, «сочным» (кстати, – как отвратительно это слово в применении к манере писать!). Он похлопывает Подъячева по плечу, как писателя хоть и хорошего, но слегка устарелого. Сам Ник. Смирнов – человек современный, не хуже Когана или Сиповского понимающий искусство.
С упоением он пишет:
«Революция 1905 года была прикована к скалам Акатуя. Потрясенная страна, лихорадочно вздрогнув закатными огнями помещичьей государственной души, отходила к пуховому обывательскому сну».
«Творчество Подъячева – не золотая прозрачная чаша, а замызганный берестяной ковш над глухим лесным родником – над родником мужицкой муки, голода и тьмы».
Как хорошо, как ловко! Читая такие фразы, будто видишь самого Ник. Смирнова, и правда, по ним можно написать характеристику человека, самодовольного и недалекого. В сотый, в тысячный раз повторим: стиль – это человек.
Рассказы Подъячева – не новые. По-видимому, советское государственное издательство собирается издать полное собрание сочинений своего вновь открытого классика, и это – лишь первый том.
Все рассказы из крестьянского быта. Написаны они просто, «честно», без вывертов, и потому они приятнее серапионовского «неонародничества», хотя, конечно, среди Серапионов есть люди более даровитые, чем Подъячев. Тот, кому приходилось встречаться с сельскими учителями, псаломщиками, фельдшерами, одержимыми зудом писательства, знает такие произведения: деревня, нищета, пьянство, озверение, темные, озлобленные люди, среди них одна светлая душа, одинокая и непонятная. Обычные названия: «Без света», «В медвежьем углу», «На пути к знанию» и т. п. Подъячев очень невысоко возвышается над этим уровнем. Конечно, он опытный писатель. Он знает народный говор, он точно передает его; вообще, он умеет подслушать, наблюсти, подметить. Но дальше этих черновых набросков он не идет. То, что для настоящего художника было бы только материалом, средством, – для него уже цель. И над всеми этими рассказами носится типичная для «сельского учителя» мечта о чистом, культурном городском быте, где люди живут жизнью прекрасной, полезной и разумной, следуя по пути науки и прогресса. Эта мечта с навязчивой силой владеет и Максимом Горьким.
Об этом я замечаю только мимоходом, для иллюстрации, не думая, конечно сравнивать Горького с Подъячевым.
2
Французы давно ждали нового перевода «Бесов».
Старый перевод не только был сделан с пропусками, но и по самому языку был крайне далек от Достоевского. Это был гладкий, традиционный, безличный французский язык, который годился бы, например, для Гончарова, с натяжкой даже для Тургенева, но невозможен в переводе Достоевского.
Жан Шюзвиль попытался в своем переводе «Бесов» передать прерывистый ритм речи Достоевского, сохраняя ее отклонения, скачки и судороги. В целом его перевод хорош. Некоторые страницы – например, одна из самых «непереводимых» глав: приезд к Шатову его жены и весь его восторженно-захлебывающийся разговор с ней – хороши почти безусловно.
Имя Шюзвиля нам давно знакомо. Он издал еще до войны переводную «Антологию современных русских поэтов», включавшую стихи Брюсова, Бальмонта, Анненского, Сологуба, В. Иванова, Кузмина и др. Переводы были сделаны стихами. Как все знают, переводческие традиции французов противоположны нашим. У французов почти не существует стихотворных переводов, они отрицают самый принцип таких переводов. По-своему они правы. «За» и «против» в этом деле одинаково убедительны. Перевод прозой передает только одну сторону стихотворения – дословный текст, – но зато передает его целиком. Перевод стихами передает все элементы стихотворения, но всегда только приблизительно. Тут все зависит от степени этой приблизительности и, еще более, от находчивости, от такта, с которым поэт-переводчик вводит в стихотворение элементы новые, в оригинале отсутствующие.
Это вопрос сложный, и спорить о нем можно бесконечно. Нет спору только о том, что дурной стихотворный перевод – вроде тех, которые делала «из Верлена» незабываемая, неподражаемая «г-жа Зинаида Ц.», или переводов В. Жуковского из Эредиа – всегда хуже дурного прозаического. Проза только обедняет оригинал, доморощенные же стихи его искажают.
Стихотворные переводы Ж. Шюзвиля были чрезвычайно удачны. В них было передано не все, что было в русском тексте. Но в них почти отсутствовала «отсебятина». Достаточно иметь самый короткий переводческий опыт, чтобы знать, что это – большое достижение.
Эти переводы имели, кажется, больше успеха в России, чем во Франции. Но тут Шюзвиль не при чем. Он переводил поэтов той эпохи, когда влияние французских символистов – в приемах, если не в темах – было у нас очень сильно. Это были годы ученичества у Европы, после надсоно-апухтинского тупика.
Переводы Шюзвиля показались французам обычными символическими стихами среднего уровня.
Это было неизбежно.
Литературные беседы [ «Барсуки» Л. Леонова. – Черновики Л. Толстого]
1
Иногда впадаешь в отчаяние, собираясь писать о новейшей русской беллетристике: как показать, доказать, как убедить, что она действительно очень плоха, что никакой предвзятости по отношению к ней нет, что неприязнь к ней не есть обычное, постылое критическое брюзжание («В наше время литературного безвременья» и т. д.). Эта беллетристика нелепа в своем желании быть во что бы то ни стало «новой», а разве ново то, к чему она пришла: пышная, вернее, пухлая образность, полуритмическое построение прозы, скрытое стремление превратиться в плохие, недоделанные стихи…
Предвзятость всегда неубедительна, она всегда дает противнику козырь в руки. Самая слабая формула: раньше писали хорошо, теперь пишут плохо, этот всем знакомый «сварливый старческий задор». Ведь и раньше порой писали плохо: Марлинский, Загоскин, Бенедиктов, столь похожие на некоторых наших современников. Но раньше, кажется мне, не было еще в воздухе той стилистической эпидемии, которая явно свирепствует в современной России и заставляет Бабеля писать, как пишет Леонов, Сейфуллину, как Бабель, или как Замятин, или как Серапионы, с различиями, видимыми только в микроскоп. Кто спасется в этой эпидемии? Бабель? Это очень даровитый писатель – кто спорит! Но от предсказаний воздержимся, говоря даже о нем.
Дарование многих современных беллетристов вообще не подлежит сомнению. Но ведь не в личной даровитости все дело. Будем, если угодно, соблюдать «круговую поруку», говоря с иностранцами, будем утверждать, щадя нашу национальную гордость, что новая русская литература – это «мощные поросли», мир, совершенно незнакомый Европе, что дикая сила и вдохновение бьют в ней ключом. Но останемся честны сами с собой, когда нас никто не подслушивает: очень плохо пишут наши молодые писатели, льстиво, заискивающе, всегда будто с похмелья или в жару, делая промахи на каждом шагу…
Роман Леонида Леонова «Барсуки» обнаруживает в авторе незаурядные способности и редкую в наше время склонность к большим полетам, большим масштабам. При всем желании не нахожу, что еще можно сказать о нем «положительного». Можно, пожалуй, добавить, что роман этот не скучен и что, по-видимому, Леонов внимательно и усердно читал старых мастеров. Еще можно сказать, что «Барсуки» – явно черновая работа, но что по этому черновику Леонов может когда-нибудь написать настоящее художественное произведение. Сил у него, вероятно, хватит.
Наиболее убедительным признаком одаренности Леонова кажется мне его способность вести «полифоническое» повествование, по образцу Достоевского или Толстого. Тема леоновского романа – не отдельная жизнь и не отдельный случай. Леонов «пишет картину»: очень медленно, очень тяжело, лениво, долго раскачиваясь. Только на половине романа – как в «Бесах», например – понимаешь, в чем его тема: целый кусок жизни, сплетение индивидуальных судеб, без центра, не поддающееся пересказу. Самая способность так построить роман встречается не часто.
Леонов тщательно выписывает подробности, путается в них, вставляет рассказы, не имеющие отношения к целому. Неуверенный ни в чем, он сбивается то на Пильняка, то на «Капитанскую дочку», то на Лескова и Замятина. Невозможно перечислить все влияния, ощутимые в его книге. Ни одно из них не «переварено». Нет в его книге, кажется, ни одной страницы, которую читаешь не то что с удовольствием – где уж тут до удовольствия! – а хотя бы с удовлетворением, как после вещей трудных, громоздких, но внутренне оправданных. Нет, читаешь, как в наказание. Прочтя же, чувствуешь, что прочесть все-таки стоило, что вещь не пустая и не плоская. Только тесто в ней совсем еще сырое и, несмотря на сырость, уже скисшее. «Барсуки» – роман из жизни «зеленых», т. е. дезертиров. Начинается он с довоенных времен: московский купеческий быт, вроде быта Островского. Эта часть романа лучше второй, где описывается деревня, застигнутая революцией. В конце романа эпизодически появляется «герой» – усмиритель зеленых, комиссар Антон. Введя это высокопоставленное лицо в роман, Леонов внезапно сбивается на сытый, площадной, оперный романтизм. Но по природе сатирическое дарование, принужденное живописать безупречного героя, вполне беспомощно.
Любопытно, что в основе романа лежит анекдот о вздорной столетней вражде двух деревень – вроде Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Это придает всем описанным бедствиям и ужасам характер трагикомический.
«Скучно на этом свете, господа!» – можно было сказать и в конце «Барсуков».
2
Очень часто все искусство писателя направлено на то, чтобы скрыть недостаток силы. Так ведь и опытные певцы иногда скрывают пороки или слабости голоса, не берясь за трудные для них вещи, подчеркивая то, что им наверно удастся.
Но какая радость слышать голос, свободно идущий всюду, куда вздумается, не знающий предела, конца, утомления, преодолевающий все препятствия, неудержимо растущий именно в тот момент, когда, казалось бы, он должен ослабеть.
Это чувство испытали, вероятно, все читавшие вновь найденные толстовские варианты к «Войне и миру» и «Детству», в особенности удивительную «Прогулку» из «Детства», напечатанную в одном из недавних номеров «Последних новостей».
Толстой эти страницы не включил в роман. Они далеко не лучшее из им написанного. Но в них целиком есть вся несравненная толстовская легкость, исчерпывающая полнота письма, спокойствие, уверенность, которой нет ни у кого. Толстой как будто знает, что жертва от него не уйдет. Поэтому он не торопится. Николенька с Володей и отцом входят в кондитерскую. Главное – это описать, как отец будет ухаживать за француженкой-продавщицей. Но до этого Толстой опишет еще многое, мимоходом, как бы от одного удовольствия описывать, и совсем не заботясь ни о безошибочной точности, как Флобер, ни об изящно-напускной небрежности, как большинство новых. Все приходит само собой, «Божьей милостью». Когда же он, наконец, берется за отца с француженкой, то с тем же спокойствием, со спокойным и уверенным многословием, он разлагает их так, что все видишь насквозь и, кажется, узнал бы их, встретя на улице.
Одно из самых редких ощущений в искусстве – это безопасность, застрахованность от возможности срыва: в нашей литературе она есть только у Толстого и, конечно, у Пушкина. Это решительно возвышает их над Достоевским, Тютчевым, даже над Гоголем, у которого есть что-то «не-божественное» в его искусстве и который поэтому так ужасно иногда фальшивит. Разве Толстой написал бы «Тараса Бульбу»?
Толстому может что-нибудь не удаться (хотя эти неудачи очень редки). Но, никогда не переставая быть простым и зная, что вне простоты для художника нет спасения – есть только видимость его, – он никогда не искажает своего лица, своей души в том, что пишет. Страницу Толстого иногда хочется пропустить. Никогда не хочется ее перечеркнуть.
Он честен той высшей честностью, без которой самые исключительные, даже гоголевские силы создают в искусстве только прах.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?