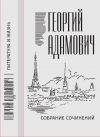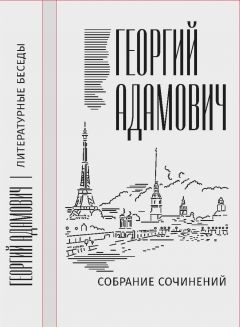
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Литературные беседы [ «Роза Иерихона» Бунина. – «Вечерний день» Тэффи]
1
Русская беллетристика двух последних десятилетий казалась бы гораздо более приемлемой, если бы не было Льва Толстого. Это слишком сокрушающее соседство, от которого многие страдают. Comparaison n'est pas raison.
Нельзя, конечно, требовать от Леонида Андреева или, например, от Эренбурга толстовского гения и всей его мощи. Но можно было бы ожидать, что в этой несравненной школе простоты и художественного целомудрия они научились бы чувствовать всякую фальшь.
Приемы могут быть другие. Может быть другой стиль. Это дело преходящее и «наживное». Но как случилось, что после «Смерти Ивана Ильича» была написана «Жизнь Василия Фивейского», и что никто не ужаснулся, громко, во всеуслышание, от этого невероятного срыва?
По-видимому, идея прогресса и совершенствования терпит в области искусства свое полное крушение, и к этому так все привыкли, что даже самые горячие приверженцы ее ничего не замечают.
Мне все это пришло в голову при чтении новой книги Бунина «Роза Иерихона». Оговорюсь сразу: книга эта так хороша, что не стоило бы, рассказывая о ней, заниматься теоретическими домыслами. Но она напомнила мне Толстого, и оттого я назвал его имя. Из всех современных русских писателей одни только Бунин – да еще, пожалуй, А.Н. Толстой – способны вызвать это сравнение и остаться в живых.
В «Розе Иерихона» собраны рассказы последних лет, 1916–1923 годов. О том, как написаны, как «сделаны» эти рассказы, я говорить не буду. Может быть, и надо было бы этим заняться, но эти рассказы еще слишком недавно появились, они еще слишком новы и свежи, и любишь их еще слишком беспокойно-восторженной любовью, чтобы разлагать их и расчленять. Для этого придет время.
Объединены все эти вещи той печалью, с которой художник смотрит на мир, страстной тоской и страстной нежностью к миру. Бунин не тонет в безотчетном лиризме, не вздыхает и не плачет: его мужественная и зрелая мысль все понимает, ничем не обманывается. Уродства жизни вызывают в нем неукротимый гнев. Гневом и нежностью проникнута вся книга.
Надо быть очень смелым человеком и очень смелым художником, чтобы так открыто предпочесть все старое всему новому и воспеванию старого отдать свое дарование. Новое ведь все-таки само за себя говорит, тянет к себе, и провозвестник его всегда уверен встретить сочувствие.
Для Бунина новый быт, во всех его формах, – не Россия только, но и Европа! – отвратителен, и он упорно говорит об этом. Это «дикий, презренный век». Старая прежняя жизнь его очаровывает, и он признается в этом. Но милее всего ему то, что не ново и не старо, что всегда было и будет: осенние холодные закаты, бесконечно ровное море, снег, ветер, улыбка любимого лица, торопливые признания.
В рассказе «Огнь пожирающий» Бунин говорит о сожжении мертвого тела в парижском крематории. Этот рассказ написан с каким-то исчерпывающим мастерством. Удивительно. Он-то и напомнил мне Толстого. Единственное, с чем хотелось бы его сопоставить, это толстовская «Первая ступень», рассказ об убийстве быка на бойне. Их связывает не только мастерство повествования, но и глубокое негодование, которым они оба дышат.
В коротком рассказе «Метеор» нет этих нот. Это рассказ о первой любви. По снегу, лунным вечером, на лыжах бредут лицеист и гимназистка. Оба взволнованы неизвестно чем. Они обмениваются пустыми и многозначительными словами. Пройдя широкую, освещенную луной поляну, они подходят к пустой избе. Он входит внутрь, она боится. «– Как здесь хорошо! Загляните хоть в окно! Неужели вы боитесь?
– Как красив здесь лунный свет! Это что-то сказочное!
– Если вы не выйдете, я уйду одна…
И, скрипя по морозному снегу, она подходит к окну, заглядывает в него:
– Где вы там?
И вдруг ее ослепляет таким дивным, таким страшным и райски прекрасным светом от прорезавшего все небо и разорвавшегося метеора, что она вскрикнула, и в ужасе бросается в дверь избы…»
Как это хорошо!
2
Усталое дарование у Тэффи, и не случайно она выбрала для заглавия своей новой книги тютчевский образ: «Вечерний день».
Это сборник рассказов о людях и зверях. Рассказы очень растерянные, почти неврастенические. Тэффи то будто всхлипнет от жалости к людям, то усмехнется, как только одна она и умеет, – коротко, сухо и безошибочно метко.
Есть большая прелесть в писательской манере Тэффи. Стиль ее идет будто от Чехова, но это подсушенный и подостренный Чехов, лишенный всякой расплывчатости. Зрение у Тэффи очень зоркое. Если она приведет в описании какую-либо подробность, то это почти всегда находка. Отдельные замечания в сторону всегда остроумны и своеобразны. Есть в них особенный говорок, который составляет тайну Тэффи и ее очарование. Но в целом ее рассказы – по крайней мере этот ее сборник – чуть-чуть бледны. Кажется, что это отдельные, разрозненные страницы большого целого. Эти страницы очень хорошо написаны, но их трудно запомнить.
Тэффи, несомненно, – один из самых популярных наших писателей. Ее есть за что любить. Она это знает и последнюю свою книгу будто не писала, а дописывала: все равно что, все равно как, – выйдет хорошо. Есть, – я повторяю, – большая усталость в «Вечернем дне».
Лучше всего Тэффи пишет о детях, и это роднит ее с Сологубом. О взрослых, о трудной и страшной жизни их в последние годы она говорит слишком тревожно, слишком испуганно. Она не пишет картины, она делает моментальные фотографические снимки и потом кое-где – с неподражаемым искусством – ретуширует их.
Но все-таки те, кто любят Тэффи, с радостью прочтут ее новую книгу.
Литературные беседы [ «О декабристах» С. Волконского. – Анкета «Nouvelles littйraires»]
1
Книга князя Сергея Волконского «О декабристах» написана по семейным воспоминаниям. Название ее шире, чем содержание. Князь Волконский рассказывает в ней почти исключительно о своем деде, Сергее Григорьевиче, и о его жене, Марии Николаевне, урожденной Раевской.
Рассказ этот ведется кн. Волконским по памяти. В России остались все принадлежавшие ему письма, дневники и другие бумаги, весь его семейный архив. Частью он уцелел, частью погиб. Но кн. Волконский так хорошо изучил принадлежавшие ему документы, что читатель не замечает отсутствия данных под рукой автора.
С большим искусством кн. Волконский «воскрешает» своих предков. Они проходят как живые, все эти великодушные, порывистые и взбалмошные люди начала прошлого века: отец декабриста, его сестра и знаменитая княгиня Зинаида, «безнадежная любовь поэта Бенедиктова». Прекрасен образ самого Сергея Григорьевича, слегка «не от мира сего». Но как всегда, как во всех книгах, касающихся этих людей и этих событий, воспоминание о княгине Марии Николаевне возвышается надо всем.
Прав был старик Раевский, герой 1812 года, сказав пред смертью о своей дочери: «Вот самая замечательная женщина, которую я знал». В книге «О декабристах» помещен портрет Марии Николаевны в старости, после ссылки. Портрет этот чрезвычайно замечателен: в глазах старой княгини, в складках лба и в сжатых губах столько печали, столько веры и твердости, что кажется, она готова, если надо, все начать сначала: суд над мужем, разлуку с сыном, Сибирь. Удивительные черты, которые многое добавляют к тому, что мы знаем об этой «русской женщине».
Кстати, о «Русских женщинах». Кн. Волконский, рассказывая в своей книге историю написания Некрасовым этой поэмы, отзывается о ней, если и не пренебрежительно, то холодно. Это непонятно. Он может не ценить некрасовскую поэму как читатель. Но как внук Марии Николаевны, он не может не чувствовать, что никакие исследования, воспоминания и биографии не могли бы сделать для ее памяти и десятой доли того, что сделал Некрасов. Благодаря «Русским женщинам» княгиня Волконская вошла в русское сознание и живет в нем как один из любимых и чистейших образов. Что значат в сравнении с этим какие-то фактические неточности и изменения?
Кн. Волконский рассказывал со слов своего отца, что Некрасов, слушая чтение записок Марии Николаевны, «по несколько раз в вечер вскакивал со словами: “Довольно, не могу”, бежал к камину, садился к нему и, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок». В искренности Некрасова нельзя сомневаться и давно пора бы бросить россказни, что он только с холодным расчетом «обманывал глупцов». «Русские женщины» написаны с таким страстным и восторженным вдохновением, которое нельзя подделать.
Некрасов отказался вычеркнуть из поэмы о кн. Трубецкой четверостишие, в котором «княгиня бросает куском грязи в только что покинутое ею высшее петербургское общество», и на все доводы ответил:
– Эти строки дадут мне лишнюю тысячу читателей!
Пусть кн. Волконский прав, иронически замечая, что слова эти рисуют «добросовестность автора». Но останемся при своем: что бы ни рассказывали о низменном характере и продажности Некрасова, нельзя сомневаться, что все это спадало с него, лишь только он подходил к письменному столу. В эти часы он был чист и от всего свободен. Иначе стихи его не могли бы быть так прекрасны и «неотразимы».
Еще несколько слов о женах декабристов. Нельзя же все-таки думать, что все это были героини по природе. Но «я видела Наташу, она уезжала, как на праздник», – пишет кто-то о кн. Трубецкой. – «Наконец я в обетованной земле», – говорит в Нерчинске сама Мария Николаевна. И все они таковы.
Есть, кажется, в каждом человеке сознание несовершенства, неполноты счастливой и бессмертной любви. Не случайно все мировые легенды о любви всегда сплетаются с несчастьем или со смертью. Иначе чего-то не хватало бы. Не почувствовали ли это в глубине души наши «княгини», и поехали ли они в Сибирь, как на праздник, потому что всякий истинно влюбленный человек безотчетно ищет страдания и радуется жертве?
2
Газета «Nouvelles Littéraires» начала интересную анкету. Она задала целому ряду иностранных писателей следующий вопрос: каково влияние современной французской литературы на литературу вашего народа, в какой области влияние это сильнее всего?
Вместе с опубликованием анкеты напечатаны три первые ответа. Подписаны они именами, останавливающими внимание: это Кайзерлинг, Бернард Шоу и Бунин. Все трое решительно утверждают, что современная французская литература никакого влияния не имеет. В особенности категоричен Шоу. Его ответ сух и насмешлив. Кайзерлинг вежливее: «В настоящее время вы представляете символ прошлого. Но я не сомневаюсь, что рано или поздно…» – и так далее. Бунин не пророчествует, но констатирует факт.
Это один из самых современных вопросов сейчас – этот вопрос о Франции, о «закате» ее культуры, о сроке, который ей еще дано прожить. Не без остроумия кто-то недавно заметил, что разговоры на шпенглеровские темы стали достоянием завсегдатаев кафе, и что Европа и вся ее культура нередко хоронится между двумя бокалами пива. Но значительности и величия шпенглеровской мысли это опошление ее задеть не может. Сейчас во Франции крайне распространено упоение молодым французским искусством, восхищение его бодростью и здоровьем, уверенность в том, что поздним Римом во Франции еще и не пахнет. Сомневаться во всем этом решительно «не принято».
Анкета «Nouvelles Littéraires» может смутить эту уверенность.
Литературные беседы [К. Чуковский о Горьком. – Клеман Вотель о Бодлере]
1
Только что вышедшая в России книга Чуковского «Две души Горького» предназначена для самообразования. Об этом сказано на заглавной странице. Но трудно представить себе человека, которому пойдет впрок чтение этих хлестких и малосодержательных заметок.
Чуковский – присяжный критик. Кроме критики, он почти ничего не пишет. Поэтому, по специальности своей, он старается изощрять свой глаз и заметить в писателе то, чего никто другой не видит. Он сам с большой непринужденностью в этом сознается:
«Изучая писателя, я всегда ставил себе задачей подметить те стороны его дарования, которых он сам не замечает в себе».
Это путь опасный, и критик, во что бы то ни стало желающий быть проницательным, в конце концов всегда похож на девицу, гадающую перед зеркалом: от упорного глядения ему мерещатся тени.
Чуковский любит подметить в писателе какую-либо черту и, забыв все остальное, начать без устали говорить о ней на все лады и голоса. Он полемизирует с писателем, возмущается, восхищается, негодует, недоумевает и хихикает. О, эти хихиканья Чуковского! Мало что есть в нашей литературе нестерпимее. Андрей Белый? Но в Белом есть таки какое-то величье, даже тогда, когда он, требуя пайка, уверяет, что он «совсем не хуже Ибсена, а может быть даже и получше», есть какие-то обломки, обрывки и осколки, все-таки еще блистательные и сверкающие. Чуковский проще и площе. Чуковскому меньше простится.
Подметив в писателе одну или, много, две-три черты, Чуковский на них строит портрет. Эти портреты оживлены его беллетристическим даром – несомненным, хоть и не высокого качества, – но всегда схематичны. Это ведь Чуковский назвал Блока певцом города, а Ахматову – влюбленной монахиней.
В этих кличках, особенно в блоковской, сказалась нелепость желания отделаться от живого поэта одной формулой. Чуковский все хочет свести к формулам, все понять и определить. Он пишет об элементарности мышления Горького, о любви его к антитезам и резким сопоставлениям. Он мог бы написать это о самом себе. Не Чуковский ли читал не так давно лекцию «О старой и новой России», где вся ужасающе сложная современная русская неразбериха была благополучно и без всякого труда разделена на две равные половины и все отнесено к своему месту?
Критик должен больше говорить о том, как пишет писатель, чем о том, что он пишет. В особенности, если его статья предназначена для самообразования: он не должен заниматься пересказом, который отобьет охоту читать. Чуковский это часто забывает. К тому же в его пересказе и его толковании Горький не похож на себя. Мне кажется, что Чуковский его не вполне понял. В Горьком, помимо его первоклассных достоинств, как писателя, есть большая внутренняя личная культура. Тридцать лет писательства Горького, его ошибки, долгое и еще недавнее ученичество, его преданность писательскому ремеслу подняли его сознание и душу туда, куда не поспеть за ним Чуковскому.
Горький кажется Чуковскому плоским именно тогда, когда он прост. Горький много говорит о культуре. Чуковского смешит это упорство, и он не чувствует, как оно человечно и как оно оправдано исторически. Он упрекает Горького в двоедушии и на этом строит свою книгу: одна из душ Горького – рационалистическая – по-чаадаевски ненавидит Россию, унылую, ленивую, несчастную; другая – творческая – только ее и умеет изображать. Все это не так. Все это сложнее, и труднее поддается формулировкам. Неужели Чуковский серьезно думает, что в живом сознании возможны такие разделения, что в нем все не сплетено в один клубок и что линейка применима даже и здесь?
Если ему непременно надо было написать популярную и общедоступную книгу, он мог бы выбрать другую тему.
2
Не помню кто – не то Стриндберг, не то Шоу – сказал, что «миром правят не деньги и не любовь, а пошлость».
Есть французский писатель Клеман Вотель. Он пишет статейки в «Журналь» и сочиняет бойкие романы. Казалось бы и ограничиться этим. Нет, он решил объявить войну всему, чего не в состоянии понять. В прошлом году он восстал на Бодлера. Совсем на днях он иронически провозгласил, что мог бы тоже принадлежать к «умственной аристократии» и что для этого достаточно:
1. Писать в журналах, которых никто не читает.
2. Объявить себя поклонником Стендаля.
3. Признать Бодлера первым французским поэтом, говорить без улыбки об «этом бедном» Аполлинере, утверждать, что беспомощный Сезанн был гениален, любить стихи Поля Валери и клясться именем Пруста.
Он дает еще несколько рецептов, необходимых для включения в «аристократию», но довольно и этих.
Что делать с такими людьми? Что ответить человеку, который торжественно заявляет, что «есть идеи истинные и есть ложные» и что он «поклонник истинных», как будто кто-нибудь когда-нибудь скажет, что любит ложные идеи, как будто эта чушь вообще что-нибудь значит?
Клеман Вотель считает все мировое искусство мистификацией. Это бы ничего, но он привлекает в свои соратники пресловутый «галльский здравый смысл» и французскую ясность, две вещи столь же стертые и сомнительные, как и наша «âme slave».
Во имя здравого смысла за Вотелем поднимается толпа людей, потерявших способность понимать искусство и враждебно косящихся на то, до чего в сущности им нет никакого дела. Многие из художников, из «малых сих», соблазняются этим и, увлеченные толстовской мыслью о непременной «общедоступности» искусства, ищут ложной и дурной простоты, нужной не тем людям, о которых думал Толстой, а тем, чьим интересы защищает Клеман Вотель.
Этот журналист решается говорить о Бодлере. Несомненно, среднему столичному жителю Бодлер и теперь еще до крайности неприятен, и поэтому, когда какой-нибудь представитель муниципального совета произносит речь на открытии памятника ему, в этом есть что-то трагикомическое. Но сознание, не задетое и не убитое пошлостью, даже самое простое, поймет «Charogne», которую особенно невзлюбил Вотель. Оно встретит затруднения в сложной словесной оболочке – как раз в том, что Вотелю доступно, – но оно будет потрясено духом вещи. Есть старая русская песня, где говорится о «червях – братьях моих», совсем в тоне Бодлера.
Кажется, все уже сказано, что можно было сказать о «торжестве мещанина», и никого уже не способны взволновать эти мысли. Но когда читаешь черным по белому рассуждения Вотеля и когда тут же его называют «notre Maître», думается, что настоящее мещанское торжество еще впереди.
Литературные беседы [К. Бальмонт об И. Британе. – Тайна Лермонтова]
1
Вспоминая прошлое, мы нисколько не удивляемся тому, что в нашей литературе никогда одновременно не было больше пяти-шести, много восьми, подлинных поэтов. Это кажется естественным. Но к настоящему мы несправедливы и требовательны: со всех сторон слышатся жалобы на отсутствие настоящих дарований, на неумение критики отметить и открыть их. Между тем все в этой области обстоит, как обстояло всегда. Не лучше, но и не хуже. Отмечать и открывать сейчас некого, но это и не обязательно делать каждый месяц или даже каждый год.
К. Бальмонт, скупой на похвалы и одобрения, посвятил недавно критическую заметку И. Британу, стихотворцу новому и никому еще не известному. Он утверждал, что в лице Британа «возник новый русский поэт», и высказался о его творчестве очень сочувственно. Нет большей радости, чем новый поэт и первое знакомство с его стихами. Как всякая настоящая радость, она редка.
Заинтересованный статьей К. Бальмонта, я прочел стихи Британа. Они оставили меня глубоко равнодушными. Может быть, я дурной читатель, но мне кажется, что и Британ не хороший поэт. Постараюсь это доказать.
Не беда, что у Британа очень много недостатков. Много хуже то, что в его стихах «не за что зацепиться». Они льются ровным и гладким потоком, теплым и водянистым. Ни одного ударения в голосе, которого раньше не слышал бы, ни одного звука, еще не знакомого. Есть отдельные стихотворения, довольно удачные и простые. Но это в начинающем поэте совсем не ценно. Начинающий поэт может быть почти косноязычен, но он должен иметь свою «манеру». Это выходит само собою, без намеренного оригинальничания. Это естественно и неизбежно. И без этого никогда ничего в поэзии не бывает.
Новый поэт останавливает внимание, к нему хочется «прислушаться». В стихах Британа прислушаться не к чему: слов много, а голоса нет. Неприятно поражает в нем, при полном отсутствии какого бы то ни было еще мастерства, внешний лоск, то легко приобретаемое и никому не нужное внешнее умение, которое часто обманывает критиков и заставляет их утверждать, что теперь «все пишут стихи хорошо».
По вялости и расплывчатости стиля, по ритмическому безличию, стихи И. Британа происходят скорей всего от Апухтина и восьмидесятников. Но он читал символистов и научился без всякого разбора уснащать свои вещи словами многозначительными и таинственными: Голгофа, Сатана, Рок, Вечность. А ведь обо всем этом мы так мало знаем и так смутно можем только догадываться, что лучше бы помолчать. Ежеминутные словесные упражнения на эти темы невыносимы. У Бунина есть злые и меткие слова о Достоевском, который «совал Христа во все свои бульварные романы». Мне вспомнилось это при чтении стихов Британа.
Насколько ему следовало бы воздерживаться от подобных образов, можно судить по таким строкам:
Любить мне суждено и злую Коломбину,
И ту, на чьих руках младенцем был Христос.
То же самое мог бы сказать и Блок. Но он сказал бы это со страстью, горечью и кощунством, а не так вяло и мимоходом.
К. Бальмонт утверждает, что наиболее удачными стихами И. Британа являются стихи детские. Он говорит: «Стихи о детях и стихи для детей относятся к разряду труднейших стихотворных достижений и слишком часто, даже у очень больших поэтов, делаются фальшивыми». Это верно. Но к замечанию К. Бальмонта можно внести одну поправку: стихи для детей не должны быть отвратительны взрослым, не должны вызывать чувства острой неловкости, как если при вас человек паясничает. Я совсем не убежден, что всем детям нравится только то, что чисто и не фальшиво.
Может быть, каким-нибудь детям и понравится это:
Хоть и старалась, но вышли все кляксы одни да каракули:
Боженька! Я ль виновата, что глазки все плакали, плакали.
Все же такие стихи – дурная поделка.
И. Британ пишет, по-видимому, очень много и легко. Но судить по этому о степени его одаренности нельзя. Есть люди, исписывающие бесчисленные груды тетрадей и все же вполне бездарные. Есть, как Тютчев, поэты гениальные, годами не пишущие ничего. Все это имеет отношение, скорей, к характеру и привычкам человека, чем к его одаренности.
Было бы хорошо, если бы К. Бальмонт оказался в своих предсказаниях прав. Но я убежден, что он ошибся.
2
Разговорившись о поэзии, я не хотел бы на сегодня оставлять ее.
Мне случилось недавно быть среди людей, пишущих и любящих стихи. Беседа велась бессвязная и сбивчивая, вся в воспоминаниях, цитатах, сравнениях, похвалах, брани. И вдруг кто-то прочел:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
Бывает, что старые, давно знакомые вещи слушаешь как по-новому. Мне показалось в тот вечер, что во всей русской поэзии нет ничего сколько-нибудь сравнимого с этими строками по глубокой торжественности их, по глубокому их совершенству, по сиянию, которое они излучают. Нет ничего сколько-нибудь похожего. Вторая строфа этого стихотворения все так же хороша. Дальше портится, но к концу стихи крепнут, и строки
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел…
упоительны.
Это тайна Лермонтова. При всем, столь бесспорном, художественном превосходстве Пушкина и даже Тютчева, только один он и взял эти ноты ни с чем не сравнимой чистоты и прелести, никому, кроме него, недоступные. В порывистом и неровном полете он залетал туда, где никто, кроме него, не был.
В последние десятилетия русские поэты были неблагодарны к памяти Лермонтова. Кто только его не развенчивал! В чем его не упрекали! Не только указывали на его очевидные и явные недостатки, но брали под сомнение самую его творческую сущность. Пушкинский канон ясного, твердого, мужского, «солнечного» отношения к жизни казался единственным. Лермонтов рядом с ним был провинциален, старомоден и чуть-чуть смешон со своей меланхолией.
Но какими жалкими и суетными кажутся эти смены литературных вкусов и взглядов, эти прихоти случайных мнений, когда вдруг услышишь издалека, из какой-то таинственной глубины, «пение» Лермонтова.